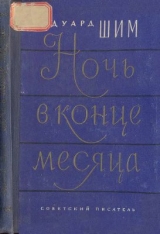
Текст книги "Ночь в конце месяца"
Автор книги: Эдуард Шим
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
пришел, или просто мимоходом, но только увидел он Шуру – и мичманку на затылок
сдвинул.
– Простите, барышня, вы на рояле не играете?
Шура, конечно, не подозревает ничего, смеется. Она вообще разговорчивая была... Слово
за слово, Валька ей все свои готовые фразы выложил. Ей это в диковинку, интересно. Короче
говоря, вечером гуляли мы уже втроем.
А дальше... Нет, вы зря киваете. Дескать, раз втроем, то здесь-то и началась ссора... Нет.
Хуже было. Едва начались эти разговорчики, а потом – выпивки всякие, обнимания в
парадных, исчезла прежняя Шура. То есть, не исчезла, а просто я иначе стал на нее смотреть.
Уже какая там свежесть, какая чистота, – нет и в помине. Вижу обычную девку, точно такую
же, с какими на улице знакомился. Только одета она похуже, губы красить не умеет, выговор
у нее псковской – «чиво» да «куды»...
И уже совершенно спокойно мог я теперь подойти к ней, облапить прямо у станка.
Ругался, не стесняясь. А потом надоела она мне, совсем перестал обращать внимание.
Валька продолжал таскать ее на какие-то вечеринки, запирался с ней в кладовой. Мне
было все равно. Во-первых, потому что я в свою работу втянулся, а во-вторых, потому что
были у меня другие девчонки, не хуже.
Через полгода и забыл я, как она выглядела раньше. Кричал:
– Опять, раззява, лерку забила!..
Она тоже отругивалась, могла и по батюшке пустить. Сделалась к тому времени похожей
на тех девчонок, что толкутся по вечерам на углах, – голубой беретик, хромовые сапожки с
отвернутыми голенищами, юбка выше колен.
Встречал я ее иногда на танцах: крутилась со знакомыми ребятами, всех знала по именам.
А к осени стала почему-то рассеянная, тихая. За станком двигалась медленно, словно
засыпала на ходу.
Я ее не жалел. Странно: вот видел, как она изменилась; понимал, что в этой перемене
виноват и сам, но почему-то стыда не чувствовал, и ни капельки не жалел. Даже, наоборот,
какая-то злость во мне поднималась. «Ведь другие, – думаю, – не портятся, вон сколько
порядочных девчат на заводе... А если Шурка не смогла удержаться, скурвилась, так ей и
надо... Поделом».
И еще больше грубил ей. А она теперь не отвечала, только под моим взглядом старалась
быстрей шевелиться, – заискивала, что ли...
Как-то мы работали в ночную смену. Станки были налажены точно, делать мне нечего. Я
прилег на ящик со стружкой и задремал.
И вдруг —крики на весь цех, визги... Разом смолкли станки, словно так выключили.
Вскочил я, вижу – тащат Шурку на руках, и все лицо у нее в крови...
У револьверных станков есть опасное место, позади шпинделя. Там вертится не-
огражденный металлический пруток, из которого точат детали. Шура нечаянно наклонилась
к прутку, намотались ее волосы – и содрало их с головы вместе с кожей.
Слишком рассеянная была Шура в последнее время. А я не проверил, привязана ли ее
голова косынкой.
Ну вот... Пришел из своей кладовой Валька, стал расспрашивать. Я чего-то ему отвечал,
не помню. Потом он говорит:
–Знаешь, а она ведь брюхатая.
Вздрогнул я, поднял голову. Хотел спросить, знал ли раньше об этом Валька. Да и
спрашивать незачем, – ясно, знал.
И вот даже тогда я не ударил его. И не только не ударил, а продолжал рядом сидеть и о
чем-то говорить. Я очень ясно помню, что было мне стыдно, противно, душно, – но я не мог
ударить Вальку или разругаться с ним.
Я только попросил начальство убрать «Болей» из цеха. А когда мне отказали, я встал за
него, врубил самую большую скорость и начал последний танец.
Со стороны, наверно, было страшно глядеть. Я мотался так, будто снова хотел обогнать
Капитаныча, – но не вдвое, а вдесятеро... Раскаленная стружка била в лицо, я отплевывался,
кричал от ярости. «Болей» вскоре начал хрипеть и стонать, но я гнал его, гнал... А потом дал
тормоз на полном ходу – сразу!
Расчет был верным, – у станка полетел фрикцион, и починить «Болей» стало нельзя.
Его убрали. И это было хорошо, потому что каждый раз, (проходя мимо этого станка, я
представлял себе Шуру, налегающую животом на хомут. И ещфе мне казалось, что я вижу на
прутке волосы, запачканные кровью.
И все-таки даже в это время не сознавал я, что случилось. Мне было тошно и противно, я
злился, но жить продолжал как и раньше. Вероятно, так и бывает: чтобы изменить жизнь,
надо не просто почувствовать, что она плоха, но и знать, как изменить.
Взгляните-ка в окошко, —правда, красиво?
Я люблю вот так по вечерам глядеть... Солнце за Петропавловку садится, небо дымное,
горячее... На Неве волны, и гребешки у них будто раскаленные... Железным город бывает на
закате. Словно из железа выкован.
Десять лет в этой комнате живу, а знаете, когда впервые заметил эту красоту? Недавно,
честное слово.
Подумать только – десяток лет смотрел как слепой... Почему? Ведь должен был
понимать...
Ну, да ладно. Моя история, в общем-то, кончается. Скоро после случая с Шурой призвали
меня в армию. Вальку не взяли,– уж не знаю, сам он это себе организовал, или как... Но мы
расстались надолго.
И вот, может, именно в армии, среди строгих и трудных законов, начал я понимать себя
человеком. А может, и поздней, когда я почувствовал тягу к прежней своей профессий и
вернулся на завод, – в свою бригаду, к своим станкам. А может, все это складывалось
постепенно, не вдруг, и я не сумею найти границу, с которой начались перемены. Да,
впрочем, это и не важно.
Прошло десять лет жизни, – за такой срок любая деталь могла быть проверена и
выброшена, если она бракованная. Вы понимаете, про что я говорю... Ну вот.
А сегодня утром я встретил этого Вальку на улице. Обрадовались, разговорились,
пригласил я его в гости.
Вроде приличный стал человек, – вы же видели. Шляпа, воротничок крахмальный, очки.
Институт, говорит, кончил.
А сели мы рядышком, начали говорить – и вдруг слышу готовые, привычные фразы —
те самые, что и десять лет назад. Вы знаете – это было жутко...
Вошла твоя жена, Виктор, – он посмотрел на нее и сказал:
– Ничего бабец, пышные прелести!
Точь-в-точь как раньше. И я не смог удержаться; я ударил его, еще не понимая, за что. Вот
как все было....
ДОРОГА
Черная жирно-блестящая лента дороги проложена в горах Она изгибается на каменистых
склонах, заросших кедрачом и седой облепихой; скатывается в долины, сырые и сумрачные
от застоявшегося тумана; вьется по берегам рек, где внизу, под обрывами, кипит известково-
зеленая гремучая вода, а сверху, косыми пластами, похожими на обломанные ступени, грузно
нависли скалы, лиловые в тени и серые на солнце.
Это Чуйский тракт, старинная дорога из Сибири в Монголию. Много сложено про нее
песен, много историй; дорога знаменита и прославлена.
Теперь она стала еще оживленней; почти по всей длине натянута на ее спину мягкая
шкура асфальта, взорваны утесы, вокруг которых лепилась она дрожащими петлями,
разрослись на ней села.
День и ночь идут по дороге машины,– то везут неохватные, в тягучей смоле бревна; то
сахарные глыбы мрамора, теплого от внутреннего света, то – навалом – красные, мелкие,
словно бы запотевшие яблоки из предгорных садов; то всякую живность – овец, коров,
свиней; а то вдруг и совсем необыкновенное – на грузовике, в дощатой загородке, катится
голенастый сопливый верблюжонок или покачиваются низкие, в обвислой до полу шерсти,
диковатые сарлыки, с рогами, похожими на ухват.
В прошлом году я бывал на Чуйском тракте; и однажды, уже собираясь уезжать из тех
мест, ждал на одном из перевалов попутной машины.
Был хлебный сентябрь; пропыленные, горячие, по тракту густо шли машины с новым
зерном. В них попутчиков не берут,– я скоро это понял, выбегая на асфальт и напрасно
подымая руку.
В тот день я очень устал от ходьбы по горам, хотел пить, но воды поблизости не было, и
даже негде было укрыться от солнца. А оно пекло яростно, словно про запас накаляло землю
в эти последние ясные дни.
Машина катилась за машиной,– с гулом, с липким журчаньем шин, с пылью,
взвешенной в густом воздухе. Я уже отчаялся и перестал выбегать им навстречу. И тут из-за
поворота показался желто-красный, городского облика автобус.
Я еще не успел крикнуть шоферу, как автобус придержал ход, свернул на бровку и
остановился. Подхватив ружье и рюкзак, я кинулся к нему.
Скрипнув, сложились гармошкой продавленные дверцы, и навстречу мне сошла какая-то
женщина с ребенком. Вслед ей подали чемодан; я сунулся было влезть – и увидел, что
автобус набит битком. Перевесясь через чьи-то головы, пунцовая, мокрая от пота
кондукторша закричала: «Некуда, некуда, и так перегрузка!» Дверцы сомкнулись, поплыли, а
я остался на дороге.
Досада охватила меня; чуть я не выругался, да вовремя вспомнил о женщине. Оглянулся.
В пыльном качающемся облаке, оставленном автобусом, держа у плеча ребенка и
обтягивая рукой юбку, раздутую ветром, она стояла и оглядывалась кругом с той робостью и
любопытством, какие бывают у пассажира, сошедшего на случайной станции.
Впрочем, я сразу понял, что она нездешняя. Ей было лет двадцать, и она была красива —
худощавая, гибкая, с мальчишеской короткой прической. Но все же красота ее была
городская, немного искусственная; она успела поблекнуть в дороге. Лицо без румянца, еще
детское, матовое, потемнело от усталости; рыжеватые блестящие волосы запылились и стали
жесткими, голые руки прижгло солнцем, и они болезненно покраснели, а тонкая желтая
блузка, когда-то старательно отглаженная, сморщилась, и на ней, возле плеч, проступили
мокрые пятна. И уж совсем неподходящими к этой асфальтовой пыльной дороге, к
выжженной грубой траве, в брызгах машинного масла, казались босоножки на ее ногах —
белые, очень маленькие, вероятно почищенные зубным порошком.
И все же, со своей растерянностью и утомлением, эта женщина не выглядела несчастной,
нет,– она улыбалась.
–Остались-таки?– спросила она меня виновато и чуть снисходительно, как спрашивают
неудачников.
Я пробурчал что-то, взвалил на спину рюкзак и зашагал прочь. Разговаривать мне совсем
не хотелось.
И уже отойдя порядочно, я вдруг спохватился,– надо же было хоть спросить, зачем эта
женщина вылезла здесь из автобуса? На руках у нее ребенок, да еще тяжелый чемодан с
собой, а место глухое – на десяток километров кругом нет ни жилья, ни людей. Что за
нелепость!
Я остановился, раздумывая, потом повернул назад.
Она сидела на обочине дороги, на чемодане, и, пристроив на коленях круглое зеркальце,
вытирала лицо. Ребенок – двухлетний мальчишка – спал рядом на разостланном байковом
одеяле.
Она совсем не удивилась моему возвращению и не смутилась, не убрала зеркальца. Глаза
ее посмотрели на меня доверчиво и ясно, как на знакомого.
И так вот, сидя на краешке чемодана и вытираясь мокрым, грязным, свернутым в комочек
платком, она ответила на мои вопросы.
Она сказала, что едет издалека к мужу, который служит сейчас в армии. Воинская часть
находится где-то поблизости, в соседней деревне. Там солдаты помогают убирать хлеб.
Кондукторша автобуса посоветовала слезть именно тут, потому что отсюда идти ближе:
километров пятнадцать.
–Да как же вы доберетесь?
–А что? – спросила она.– Ну, поможет кто-нибудь. А то и сама дойду.
Очевидно, она просто не задумывалась об этом пути. А я знал, где находится деревня, и
тотчас представил себе – пятнадцать километров с такой ношей да без дорог, в отчаянную
жару. И, конечно, никаких попутчиков не найдется, люди на работе…
Я разозлился. Это уже не легкомыслие, а глупость!
Однако ничего не поделаешь, я был единственным человеком, который мог сейчас
выручить эту сумасшедшую.
–Черт знает что!..– сказал я.– Давайте чемодан. И неужели нет у вас другой обуви,
кроме этих дурацких босоножек?
–Нету.
–Ну, учтите, на себе я вас не потащу.
Ухватив чемодан – был он раздутый, напиханный без жалости, так что едва застежки
сошлись,– я не оглядываясь двинулся к деревне. Сзади захрустели послушные шаги.
Время уже перевалило за полдень; над сухими лугами дрожал нагретый воздух. Казалось,
он отражает солнечный блеск. Да и все вокруг блестело нестерпимо для глаз. В солнечную
осень в горах стоят золотые дни: свет источают и заросли рыжих кустарников, и горящие
неподвижным пламенем черемухи, и выгоревшая трава, скользкая от прошлогодней хвои.
Мы спускались с перевала через светлые перелески, россыпи мелких камней, овраги к
темнеющей вдалеке тайге, которая отсюда казалась низкой и очень густой.
Я скоро выдохся,– чемодан оттягивал руку, плечи онемели от рюкзака, било по боку
ружье, позвякивая шомполом. Пот заливал глаза.
А эта женщина словно не замечала трудностей. Она не могла не устать; твердая, как
проволока, трава хлестала ее по ногам, солнце жгло ее открытую голову и руки, а она
улыбалась. Она двигалась рядом, не отставая, какой-то летящей походкой, и я опять ловил на
себе ее взгляд, снисходительный, обращенный сверху вниз, от счастливого к неудачнику.
Она не благодарила меня и вела себя так, будто иначе и не могло случиться: я должен
встретить ее, взять чемодан и проводить в деревню. Все просто и обычно. И я подумал, что,
наверное, вот так, как должное, принимая помощь от неизвестных людей, эта женщина и
проделала весь свой длинный путь – на поездах, на машинах, пешком. Нет, это не
легкомыслие, не беспечность, это совсем другое…
Я шел теперь и не выпускал чемодана только потому, что мне совестно было отстать. Я не
хотел показаться слабым.
А потом, на середине пути, нам неожиданно повезло. Спустившись с горы, мы увидели
среди березняка небольшое поле, желто-кирпичное от перезрелого рыжика. Два паренька-
алтайца выпрягали из жатки лошадей, собираясь уезжать.
Я не удивился, когда узнал, что они из той самой деревни. Эту женщину везде ждала
удача.
Я пристроил чемодан к седлу; мы попрощались. Видимо, женщина никогда не ездила
верхом,– она боялась влезать на конскую спину, а когда влезла, то охнула и сгорбилась от
испуга,– до того ей показалось высоко… Но она быстро приноровилась и уже через минуту
сидела прямо, ловко, держа у плеча ребенка, и первой тронула повод.
Обо мне она сразу забыла, даже не оглянулась. Пузатые сибирские лошаденки, тряся
короткими хвостами, побежали ходко и скрылись из глаз.
А мне было хорошо. Я не жалел о потраченном времени. Вернувшись к тракту, вечером,
уже в сумерках, я сел на попутную машину, в кузов. И было отчего-то очень приятно сидеть
у гремящего борта, протянув усталые ноги, слышать ветер в ушах, глядеть на летящие звезды
в черном небе и думать о том, что впереди еще длинная, дальняя дорога.
ЛУШКА САПОГОВА
Кирилл хотел быть человеком твердым и поэтому неприятный разговор с матерью провел
коротко.
–Знаешь, мать,– сказал он,– я отпрашиваться сегодня не стану. Свои дни рождения я
отмечал уже девятнадцать раз, а самостоятельно работать начинаю впервые. Это одно. А
второе – ты пойми: как же может стройка остаться без руководителя?
Мать слушала, подперев щеку ладонью; лицо у нее было неподвижное, грустное, только
укоризненно покачивались в ушах длинные, с зелеными камешками серьги. Казалось, что
она не слушает Кирилла, а смотрит, как эти серьги отражаются, неярко вспыхивают в
никелированом кофейнике, стоявшем перед нею на столе.
И все же Кирилл знал, о чем она думает. Наверное, она впервые сейчас поняла, что сын
вырос, стал серьезным, взрослым человеком, у которого свои, взрослые обязанности.
–В общем, так,– закончил Кирилл, поднимаясь со стула.– Я не отпрашиваюсь. Чтобы
тебя утешить, я, пожалуй, надену праздничный костюм. Но вернусь домой как всегда —
ровно в половине седьмого.
–Возьми чистый платок в шкафу, в нижнем ящике,– сказала мать и вздохнула.
На разговор и переодевание ушло лишних десять минут. Поэтому Кирилл не завернул,
как обычно, в киоск за газетами, а направился прямо к ТЭЦ.
В эти часы дорога была шумной. Кирилл еще не привык ходить по ней и с любопытством
приглядывался: к машинам, велосипедистам, толпам народу.
Мимо него вереницей катили порожние самосвалы; на выбоинах они приседали и словно
подбрыкивали широкими резиновыми лапами. Почти в каждой кабине мелькал цветной
платок: шоферы везли на работу своих подружек.
Интересно было следить и за велосипедистами; прежде Кирилл не замечал, что они такой
компанейский народ. У перекрестка велосипедисты останавливались и, чтобы не повалиться
набок, обнимали друг дружку за плечи.
Пешеходы шли тоже необычно: по цехам, как на демонстрации. Вот сгрудились вместе
монтажники в промасленных, будто мокрых комбинезонах; вот нестройной толпой бухают в
резиновых сапожищах бетонщики;, вот идут пестрые, пыльные от известки штукатуры…
Непривычная дорога вызывала у Кирилла какие-то совсем новые, неожиданные мысли.
Он смотрел на нее и думал, что когда-нибудь и эти сотни машин, и эта армия людей будут в
его распоряжении.
Ну да, сейчас он прораб, строит незаметный домишко, в котором откроется баня. Но ведь
это лишь начало… У Кирилла есть и способности, и силы, и желание; в институте все
говорили, что он талантлив, что у него большое будущее… И он верит этому. Самое главное
– знать, что в жизни тебя ждут не мелкие, незаметные делишки, а настоящие свершения,
высокие цели… Тогда появляются и силы!
Настроение у Кирилла было превосходное; он шагал, чуть спружинивая на носках,
откинув назад круглую, маленькую голову,– и легко, будто играючи, обгонял шедших
впереди рабочих.
Его стройка была у въезда на территорию ТЭЦ. Она виднелась прямо с дороги – рыжая
кирпичная коробочка, насквозь пробитая голубыми квадратиками окон.
Прищурясь, Кирилл посмотрел на нее. Да, честно говоря, не очень внушительно…
Особенно рядом с остальными сооружениями.
Левее, вдали, отчетливо рисуется эстакада; богатырскими воротами вознесся мостовой
кран, колоссальные опоры держат провисшие от тяжести, еще не потерявшие блеска
провода. А над всем этим, заняв полнеба, стоит еще недостроенное, но уже и теперь
огромное, здание главного корпуса ТЭЦ. На его фронтоне светится силуэт белого голубя,
выложенный из мраморных плиток.
Да, сравнивать нельзя… Но ничего, ничего… Терпение! Будут и у Кирилла работы по
плечу.
Он свернул к бане. На третьем этаже, между стропил, двигались цветные пятна. Значит,
народ в сборе. Наверное, бригадир Лушка Сапогова уже сидит на стене, свесив ноги, и
ругается с каждым проходящим.
Вот еще огорчение – Лушка. Послала судьба вместо бригадира неизвестно кого…
Отчаянную ругательницу, Свирепого Мамая, как зовут ее десятники. Вот, пожалуйста, уже
голос доносится. Таким голосом кирпичную кладку сверлить… Одно утешение, что бригада
временная, а стройка идет к концу.
По гибким сходням Кирилл поднялся в нижний этаж. Головы он не поднял, хотя всей
кожей ощущал,– Лушка, наверху, заметила и следит.
В доме еще не было перекрытий, он насквозь просвечивался солнцем.
Резкие, будто набитые по трафарету солнечные зайцы пестрели на стенах, вытянулись на
полу. Сбитая из горбылей лесенка, ведущая во второй этаж, казалась изломанной в этом
пестром свете. Кирилл чуть не сорвался с нее, оступившись на бегу. Он проехался по
перилам,– на пиджаке осталась грязная полоса. Счищать ее Кирилл не стал, – сверху
заглядывало чье-то лицо.
Подтянувшись на задрожавших руках, он вылез наверх. Тотчас ударил ветер, распахнул
полы пиджака, защекотал в рукавах. Кирилл покачнулся и совсем незаметно уперся ладонью
в стену.
Лушка Сапогова по-прежнему сидела, свесив ноги со стены. Ругаться она перестала и
тихонечко пела, видимо, что-то задиристое, потому что стоявшие рядом девчата смущались и
прыскали в кулаки.
«…В красной рубаашоночке,
Ха-арошенький такой!..»
Услышав это, Кирилл поднял бровь, усмехнулся. Немолода ведь, уже за тридцать, а такие
попевочки,– совестно, честное слово…
Он выпрямился, застегнул пиджак. Девчата прыснули сильней, а одна даже отвернулась,
затрясла плечами. Тут только он понял: да ведь на нем, на Кирилле, эта красная
рубашоночка,– ради праздника надел трикотажную сорочку… Кирилл рывком расстегнул
пуговицы, шагнул вперед:
–Сапогова, дайте синьку второго этажа. И прошу так не сидеть. Какой пример молодежи
показываете?
Девчата сразу притихли, отодвинулись в сторонку. А Лушка встала спокойно, не торопясь.
На ней было ситцевое платье, выпущенное поверх лыжных штанов; на сутулых плечах оно,
казалось, вот-вот лопнет. Лицо у Лушки красное, скуластое, пропеченное солнцем, и на нем
зеленые глазки, как осколки бутылочного стекла.
Почему-то под взглядом Лушки Кирилл всегда чувствовал себя неловко. Ему казалось,
что Лушка посмеивается над ним; она замечает и то, что Кирилл ходит по лесам боязливо,
прижимаясь к стене; и то, что всегда он прячется в тень, чтобы не облупился нос; и то, что
оглядывается, если позади зашепчут девчата… В общем, Лушка видит его насквозь.
Это ощущение сохранилось с первого дня их встречи.
Придя на стройку, Кирилл узнал, что не подвезен кирпич. Бригада вот-вот начнет
простаивать – допустить этого в самом начале работы было нельзя.
Он прыгнул в машину и поехал на железнодорожную ветку. Он еще не знал, по чьей вине
задержка, и поэтому никого не разыскивал,– просто бросался в бой с любым человеком,
будь то кладовщик, грузчик или складской сторож… И вскоре машина, доверху груженная
кирпичом, вернулась на строительную площадку.
Тогда и появилась Лушка.
Не обращая внимания на Кирилла, она подошла к шоферу, протянула ему пачку папирос.
Закурили.
–Вертай назад,– сказала Лушка.– Сгружать не станем.
–Это почему? – изумился Кирилл. У него еще не кончилось боевое возбуждение,
дышал, как после бега.
–А потому. Сам не видишь, что ли?
–Я вижу, что вам работать не хочется!– закричал Кирилл.– А я простоя не допущу!
–Валяй!– согласилась Лушка.– Но кирпич обратно свези. Он же весь в трещинах,
бракованный. Мы от этой партии уже цельный месяц отказываемся.
Кирпич в самом деле оказался негодным. Кириллу попросту всучили брак, надеясь на то,
что молодой прораб не разберет…
Стоя за машиной, Кирилл вертел в руках кирпич. Как же он не заметил? Не сообразил
сразу, что на обыкновенном кирпиче трещины видны ясно, а вот на таком, «трепельном»,
среди дырочек их трудней заметить и поэтому надо смотреть особенно тщательно…
Но что же теперь делать? Признать свою неопытность, с первых же шагов опозориться?
Нет. Кирилл не хотел. В конце концов, это баня, а не кузнечный цех. Обойдемся и с таким
кирпичом.
–Сгружайте!– приказал он.
Лушка взяла кирпич, легонько стукнула о борт машины. Откололись неровные куски.
–Видал?
–Сгружайте!!
Кириллу стыдно вспоминать, что произошло дальше. Не смущаясь тем, что вокруг стоят
рабочие, Лушка пустила в ход недетские слова, выволокла Кирилла из машины, а шофера
одного отправила в обратный рейс. Над посрамлением начальника потешалась вся бригада…
Долго после этого Кирилл был с Лушкой на ножах,– не мог простить оскорбления. А
потом вдруг нашел простой и легкий способ отместки.
Как-то в обеденный перерыв он увидел, что Лушка, прикрываясь локтем, смотрится в
круглое зеркальце, совсем утонувшее в громадном ее кулаке.
–Красоту наводишь?– спросил он мимоходом.
Лушка быстро сунула зеркальце в карман, обернулась. И тут он увидел, что она —
Свирепый Мамай, которого мужики боятся,– покраснела почти до слез. И глаза ее, два
бутылочных осколочка, смотрели умоляюще, словно просили не смеяться… Этого она
боялась.
С тех пор стоило Кириллу только намекнуть – заговорить о пудре, помаде, завивке,—
Лушка тотчас опускала голову, начинала отвечать шепотом.
Впрочем, он недолго пользовался своим открытием.
На строительстве наступила горячка, половину бригады сняли с бани и перебросили на
другой объект. А тут еще вышел из строя растворный узел. Кирилл растерялся, – как ни
бегай, как ни кричи, а планы летят к чертям. Выручила Лушка.
Пока чинили узел, она наладила приготовление раствора вручную. Сама сколачивала
ящики, учила девчат; злая, красная, растрепанная, с утра до темноты крутилась на стройке,
работала за троих.
А однажды, после особенно суматошного дня, они вместе шли домой. Кирилл искоса
приглядывался к Лушке,– она шагала косолапо, устало покачиваясь. На похудевшем лице
прикрыты глаза, пыль чернеет в морщинах, забытая папироска приклеилась к губе.
И Кириллу сделалось совестно. Он вспомнил, как насмехался над Лушкиной
неуклюжестью, грубыми ее руками, сутулой спиной. А имел ли он право смеяться?
Еще в то время, когда он учился и, не зная особых забот, спокойно кончал школу, потом
институт, Лушка уже таскала носилки с раствором и выкладывала стены. Может быть,
Кирилл и живет в том доме, который она построила…
Вероятно, это чувство жалости и снисхождения надолго осталось бы у Кирилла. Он не
был черствым человеком, хотя по молодости своей часто ошибался и судил окружающих
строже, чем следовало.
Но отношение к Лушке опять у него изменилось. В тот вечер они повстречали на улице
молодого, здорового парня,– из тех, про которых говорят, что у них грудь колесом и чуб по
ветру,– и этот парень оказался Лушкиным мужем. За руку он вел мальчишку, такого же
здорового и красивого; они очень походили друг на друга, только у мальчишки глаза были с
раскосинкой и зеленоватого цвета.
Муж и сын поздоровались с Лушкой просто, без восторгов, но было заметно, что они оба
ждали ее и теперь обрадованы этой встречей. А Лушка повеселела, сразу как-то
распрямилась и пошла рядом с ними легко, быстро, и даже грязная рабочая одежда ее отчего-
то сделалась незаметной.
Значит, горькой бабьей доли, о которой думал Кирилл, на самом деле нет? Он выдумал
грустную историю о некрасивой, несчастной женщине, а в жизни все иначе. У Лушки
отличная семья, и, наверно, этот молодой парень любит ее, и живут они просто, дружно и
хорошо.
И все-таки, когда Кирилл вспоминал, как выглядит Лушка на стройке, и затем
представлял ее другой, домашней,– он чувствовал, что не узнал ее до конца, не заметил
чего-то важного, и поэтому не понимает, как относиться к ней и какое место ей отвести.
Впрочем, он скоро сказал себе, что не стоит ломать голову. Все просто, как гвоздь.
Существуют на свете люди, которые всю жизнь остаются на заурядной, черной работе. У них
не хватает способностей подняться выше, и они до старости работают каменщиками,
малярами, дворниками. Такова и Лушка. При всех ее странностях ясно одно: это маленький,
недалекий человечек, и должность бригадира комплексной бригады – вершина для нее. И
Кирилл перестал интересоваться Лушкой. По-прежнему бывали стычки, но теперь они мало
затрагивали Кирилла. У него было твердое отношение к бригадиру Сапоговой, и ее грубости
он сносил терпеливо, как сносят досадные, но временные неудобства.
Он уйдет, Лушка останется на прежнем месте. У них разные дороги, и делить им нечего.
Сейчас он стоял перед Лушкой и, притворно сведя брови, делал вид, что сердится.
–Ну, я жду. Где чертеж?
–Да у вас он,– откровенно смеясь, ответила Лушка.– Вечером глядел, а утром не
помнит…
И вправду, Кирилл запамятовал: вечером он брал чертеж, когда привезли перегородки,
рассматривал его, а потом сунул в карман старого пиджака… Кирилл почувствовал, что
беспомощно улыбается. Угораздило же сегодня переодеться и не проверить карманы! Без
чертежа прямо беда,– надо выписывать крепеж для перегородок, а Кирилл не знает, как они
крепятся…
–Нам прогоны рассчитать надобно!– нехотя сказала Лушка.
–Ну и что? Сама разве не можешь?
–Я прикинула, да спецификация врет. Много досок зазря пропадает.
–Документация не может врать. Надо уметь ею пользоваться.
–Нет, врет.
–Слушай, Сапогова!– у Кирилла кончилось терпение.– Ты перестань мне…
–Ой, да что ты в бутылку лезешь, родненький? – изумилась Лушка, и голос у нее стал
озабоченным.– Вон и глазок у тебя дергается… Разве можно? Давай посмотрим чертеж, вот
и успокоишься.
Девчата опять захихикали. Кирилл понял, что надо кончать разговор,– слишком трудное
положение.
–Ладно,– сказал он.– Делайте, как приказано. Если я буду нужен, ищите в управлении.
Стараясь не слышать смеха за спиной, он спустился вниз. Надо было доставать копию
чертежа; Кирилл заторопился, чтобы захватить на месте начальника участка.
В сырых, еще не просохших коридорах управления было сумрачно и тихо. Они казались
бы нежилыми, если б не известковые следы на полу да голубые урны, расставленные у
каждой двери. Возле урн с утра были накиданы окурки. «Привычки, как у моей Лушки…»—
неприязненно подумал Кирилл и вошел в кабинет.
Начальник участка был не один. Он стоял возле стола, а на его табурете, неуверенно
поджав ноги, сидела молодая женщина в зеленом джемпере. Вокруг них расхаживал главный
инженер Грасланов, крутил пуговицу на кителе.
–А вот и он!– обрадованно прогудел Грасланов, когда Кирилл поклонился.– Это наш
молодой прораб, он вам и покажет строительство. Сейчас я организую пропуск!
Грасланов подцепил с телефона трубку и пальцем пощелкал по рычажку, будто постучал
в окошко.
–Дайте охрану!
Кирилл ничего не понимал. Он впервые видел эту женщину, и его никто не просил
являться сюда… А спрашивать неловко.
–Представительница из радиокомитета!– шепнул начальник участка.—
Корреспонденцию будет давать.
Свези на Мочалкинский объект и к монтажникам, они красиво работают…
–Да ведь я сам не знаю стройки!– забормотал Кирилл.
–Ничего! Возьмешь кого-нибудь своих в придачу. А у Грасланова через полчаса летучка,
лаяться будет, посторонним слушать абсолютно незачем… И наш участок не показывать,
имей в виду!
Грасланов закончил разговаривать с охраной и повернулся к Кириллу. В глазах
начальника достаточно отчетливо читался приказ.
–Договорились? Добро. Покажите товарищу журналисту все интересные объекты, пусть
ознакомится и с успехами, и с недостатками. А если будут вопросы,– милости прошу снова
ко мне.
–Спасибо вам большое!– торопливо откланялась журналистка и вместе с Кириллом
вышла в коридор. Вероятно, она была довольна, что все так быстро уладилось.
Кирилл в уме перебирал фамилии своих подчиненных. Кого можно прихватить в эту
дурацкую прогулку по строительству? Сеглиньш уехал на карьер, Антипов на бетонных
работах, снять его нельзя… Это было смешно, глупо, однако приходилось брать с собой
Лушку Сапогову. Других попутчиков не отыскивалось.
Когда Кирилл увидел рядом этих двух женщин, то не смог скрыть улыбки. Слишком
велик был контраст…
В замшевых босоножках на высоком каблуке, тончайшем джемпере, облегавшем фигуру
и открывавшем почти до плеч белые, красивые руки, с воздушно-легкой прической —
казалось, что каждый волосок ее промыт и уложен отдельно – журналистка выглядела
созданием нежным и утонченным.
А перед нею, расставив ноги в заляпанных известкой шароварах, стояла Лушка и
сворачивала цигарку.
«А ведь они, вероятно, ровесницы…» – приглядевшись, подумал Кирилл.
–Рабочих описывать станете или просто так, показатели?– дружелюбно спросила







