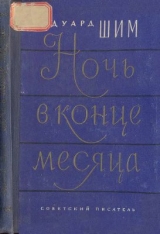
Текст книги "Ночь в конце месяца"
Автор книги: Эдуард Шим
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Он полировал, не давая себе передышки; истекали дни за днями, а отражение не появлялось.
Старик не догадывался, что стал слепнуть.
Он умер в мастерской, так и не отойдя от верстака. Рояль, отполированный им, попал в
музей.
Алеша помнил эту историю. И для него она была не просто забавным случаем. Он верил,
что с такой же страстью работает его учитель, Корней Лукич. И также хотел поступать и он
сам, Алеша, ученик мастера Соболева…
Столик был готов к полировке. Наступало самое трудное.
Алеша начисто выскоблил пол, смахнул пыль со стен и карнизов. Снял рабочую спецовку
и остался в чистой рубашке.
Корней Лукич молча следил за этими приготовлениями. У него тоже были собраны
первые столики, наступал черед полировать.
Алеша чувствовал, как внутри у него все напряглось,– будто взвелся курок. Но руки
двигались быстро и четко.
Он обвернул тряпочкой комок ваты, сделал тампон величиной с мячик. Смочил его
политурой, капнул масла. И скользящим, легким, почти неощутимым движением провел по
крышке стола.
За тампоном тянулся влажный след. Он тотчас пропадал, растворялся. Но с деревом стали
происходить удивительные превращения.
Крышка начала поблескивать,– она как бы погружалась под слой прозрачной
родниковой воды.
И дерево под этим слоем вдруг стало глубоким. Краски сделались ярче, насыщенней.
Просвечивало каждое волоконце, каждая прожилка,– дерево загоралось внутренним светом.
Алеше эти минуты всегда казались волшебными. Ну да, он знал законы полировки, он
долго муштровал руку, добиваясь ее послушности. Но рождение мерцающего света в
глубинах дерева было таким необъяснимым, что Алеша невольно боялся – вот дрогнет рука
и чудо исчезнет, от неловкого движения погаснет таинственный огонь.
Он увлекся до того, что позабыл про обеденный перерыв. Корней Лукич сегодня тоже не
уходил из мастерской,– работал быстро, молча, словно старался перегнать Алешу.
Только вечером, услышав сигнальный звонок, Алеша в последний раз провел рукой:
–На сегодня хватит…
–Ты меня не жди,– отозвался из угла Соболев.– Ступай, а я часок сверхурочно побуду.
–Вы же устали, Корней Лукич!
–У тебя проба, а у меня – норма.
Алеша мельком увидел, что у Соболева заполированы два столика. Неужели по норме
полагается больше? Хитрит чего-то Корней Лукич…
Алеша попрощался и вышел. Натруженная рука подергивалась, будто еще не могла
остановиться, было приятно это чувствовать, шевелить затекшими пальцами… Перед
глазами все еще скользил тампон, светилось дерево…
Алеша уже знал теперь, что выдержал испытание. Полировка не закончена, ей требуется
дать сушку, потом пройтись еще разок… Но Алеша видел столик готовым.
На крышке будто лежит тонкое стекло. Блики света отражаются в подстолье и ножках. И
кажется, что столик насквозь прозрачен, как у того старика, что работал на морском берегу.
Или как у мастера Соболева.
8
Едва Алеша ушел, как Соболев вытащил поближе к свету два своих столика. Потом он
принес Алешин столик и поставил рядом. Корней Лукич уже чувствовал, что произошло, но
хотел увидеть воочию, удостовериться до конца.
Три столика рядом.
…Поначалу Корней Лукич не обрадовался, получив заготовки. Для кого-то этот заказ мог
показаться интересным, а Соболеву было все равно,– он видывал не такое…
Но задуман столик был неплохо – из ореха, полированный, с наборной крышкой.
И руки мастера Соболева, стосковавшиеся по настоящему делу, не смогли удержаться.
Они вцепились в дерево, они ласкали его и рвали, они боялись отпустить его,– опять как
тогда, как раньше…
А начав работать всерьез, Корней Лукич понял, что все эти годы, пока лепил дверцы, он
ждал вот такого часа. Как он мог жить без яростного труда, без опьянения запахами, звуками,
красками дерева, без настоящей радости, которая приходит с потом, с мозолями, с кровью на
пальцах?
Он работал неистово, бешено, как никогда раньше. Будто все эти годы нарастала жажда
– и он дорвался наконец, почти захлебывается…
Еще не кончив одной операции, он хватался за следующую, из-за этого ошибался, не
успевал вспомнить старые, верные приемы. Опять исчезло время, отодвинулся окружающий
мир,– в груди Соболева будто напряглась и звенела струна, все тоньше, чище,
томительней…
И где-то на середине работы ему стало страшно.
Он почувствовал, что ошибается слишком часто и слишком опасно. Да, руки сохранили
прежние навыки, но вместе с ними сохранилась и та небрежность, топорность, что успела
привиться за последние годы. Она оставляла недобрые следы. И там, где соскальзывала
стамеска, срывался нож, царапал наждак,– уже ничего нельзя было поправить.
Соболев понимал это, но все равно бросался переделывать, что-то замазывать,—
выходило еще хуже.
И вот – три столика рядом.
В работе Алеши Корней Лукич мог бы найти слабинки. Но только он, больше никто.
Каждая деталь выверена, подогнана, отделана с любовью. Полировка тонка и чиста, дерево
под ней кажется бездонным.
А рядом – столики Соболева. И всякий может увидеть, как срывалась рука мастера: вот
пятна, вот грязные щели, наверху мутный слой полировки, отдающий жирной синевой…
Соболев стоял, смотрел. Потом поднял палку – и хрястнул наотмашь по одной крышке,
другой. И было слышно, как стонет расколотое дерево.
ПОДСНЕЖНИКИ
Наверное, однажды весной закружил мокрый, ленивый снег. Большая круглая снежина
спустилась на тонкий травяной стебелек, да так и не стаяла.
И вышел чудесный ранний цветок – белый, как снег, холодный, как снег, и, как снег, без
запаха.
Он родился от Весны и Мороза, и потому прячется в тени, боясь выходить на свет. Нежна
и непрочна его краса. Чуть сдавишь грубыми пальцами снежинку цветка, как нет уже
лепестков – стерлись, пропали, осталась на пальцах капля воды.
Когда-то давно, еще мальчишкой, я сдавил подснежники неловкой рукой, и тоже вся
красота обернулась водой на пальцах.
1
Была девчонка, ее звали Алькой. Мы вместе учились, и наши избы стояли неподалеку, в
одном порядке деревни.
Я знал, что у Альки на фронте пропал без вести отец и что живет она с матерью одна. Но
домой к Альке я не ходил. И при людях с ней никогда не разговаривал, даже не здоровался. А
если встречал с глазу на глаз – или шапку отнимал, или дразнился.
Я не мог иначе. Просто – не мог...
По воскресеньям Алька бегала в село Жихарево, к родственникам. Зачем? Я не знал. Я
только стерег тот час, когда Алька пробегала мимо нашей избы.
Едва подымался рассвет, как уже мелькала в окошках ее овчинная шапка и сразу
скрывалась. Ноги у Альки были скорые.
Но до Жихарева – не близко. И когда Алька шла назад, то ее шапка в окошке проплывала
уже медленно, и можно было разглядеть русые Алькины волосы, круглые щеки и
приоткрытый рот. Уставала Алька.
Если на улице никого не было, я выскакивал за ворота. Алька слышала звон кольца на
калитке и оборачивалась. Я видел ее глаза —на бледном лице они были темные, широкие,
будто нарочно раскрытые докругла.
–Чего?
–А ничего. Больно интересная, поглядеть охота.
–Гляди.
–Уже нагляделся. Не верти в носу, потеряешь красу.
Сначала Алька слушала, еще не понимая слов и только ловя голос, и я видел, как она
хотела и все не решалась улыбнуться.
А когда я договаривал, она поворачивалась и, наклонясь, медленно шла дальше. Было
слышно, как шуршали по снегу ее разношенные валенки. Чтоб они не соскакивали, Алька не
шагала, а будто катилась на лыжах, – подскребывала подошвами по дороге.
И вот так, издали, когда она уходила, —мне было ее жалко.
Я ведь любил ее.
2
Наступала весна. Сырой мартовский ветер точил снега; на красной стороне улицы все
дружней, будто настраиваясь, бренчала капель. В просветлевшем небе кружились ошалелые
вороны, гоняясь друг за дружкой.
Дома сидеть не хотелось.
В одних рубашках мы с Юркой Лыковым играли в чунки. Ставили на дорогу осиновый
кругляш и по нему били палкой. Юрка – в мою сторону, я – в его. Чьи удары сильней, тот
продвигается вперед, теснит противника дальше и дальше.
Мы начали от околицы, и я загнал Юрку почти на середину деревни. Размахнувшись,
неловко пробил по кругляшу. Он метнулся вкось и глухо стукнул по окошку Алькиной избы.
Брызнуло светлыми стрелами стекло.
– Беги!! – Юрка, пригнувшись, кинулся прочь.
А я остался. Все равно Алькина мать узнает. Потом будет хуже, лучше уж сразу. Я стоял и
ждал, когда она выбежит на улицу.
Но дом будто спал. В разбитом окне ветер шевелил редкую заштопанную занавеску.
Осколок упал внутрь, звякнул о половицу.
Никого... Отчего бы это? Нынче воскресенье, и Алькина мать должна быть дома.
Я подождал еще, привстал на завалинку, хотел посмотреть. Позади кто-то часто задышал.
Я оглянулся. Это подошла Алька. Запыхавшись, она стояла, зажав под мышкой какой-то
узелок. Видно, только что вернулась из Жихарева.
Лицу стало жарко, я отвернулся.
– Зачем ты... – виноватым голосом сказала Алька. – Там же мать... Захворала она, худо
ей...
Алька сгребла с подоконника осколки, постояла. Я чувствовал, что она на меня смотрит.
Она всегда так смотрит на меня —теплыми, обрадованными глазами. Будто я ей подарил что,
а она не знает, как сказать спасибо.
Шаркнули валенки, Алька пошла в дом. Узелок она забыла на завалинке. Я подал его.
Пальцы нащупали круглое, твердое – яйца, и мягкую корку – хлеб.
Я вспомнил, что в Жихареве – крепкий, богатый колхоз. Вот, оказывается, зачем бегала
туда Алька по воскресеньям.
3
Перед майским праздником она вернулась из Жихарева почти в сумерки: дороги развезло,
и в лесу поднялась вода. Алькины валенки размокли, она несла их в руках, ступая по лужам
очень белыми, маленькими ногами. И еще она несла большой пучок подснежников.
–Хочешь, подарю?
Она выбрала несколько цветков и протянула мне. Они были едва распустившиеся,
искрились под солнцем.
–А остальные кому? Все давай!
–Не. Не дам.
–Давай, давай!
Она устала, озябла, и все вздрагивала и переступала с ноги на ногу. Неровно
подстриженная прядка волос упала ей на глаза, словно для того, чтобы прикрыть их горячий,
мокрый блеск.
–Дай, – сказал я. – А то отыму.
Алька отодвинулась к забору и втянула
подснежники в обтрепавшийся, засаленный рукав ватника. Я схватил цветы, дернул.
Точно снежок хрупнул в ладони, пальцы стали мокрыми. Я сразу и не понял, отчего.
Алька разжала руки. В них были помятые, давленые стебли. Цветков почти не осталось.
Свет задрожал в Алькиных глазах, она сунулась лицом к забору, сгорбилась.
–Я их... не тебе несла... сбирала...
И заплакала.
Я вернулся во двор, глядел на мокрую руку и не мог понять, как же все получилось.
Алька долго ждала за калиткой. Потом ушла.
Забор будто раздвинулся, и очень ясно я увидел, как, оскальзываясь, она идет по
размякшей дороге, и следы ее заливает рыжая талая вода.
4
–Бери бидон, ступай за керосином!
–Что ты, мам! Вчера соседская Алька едва из Жихарева пришла... А разве за шесть
километров до станции доберешься? Ведь завязну!
–Так что, без керосину сидеть? Иди, тебе говорят!!
С моей матерью не поспоришь. Я взял бидон и с утра пошагал на станцию.
Мне повезло. Едва вышел за околицу, как нагнала полуторка из Жихарева. На повороте я
вскочил и потихоньку примостился в кузове.
Распустив по сторонам крылья грязной воды, буксуя и фырча, машина с трудом плыла по
дороге. Добирались до станции часа полтора.
Купив керосину, я вернулся на вокзал и опять стал ждать попутной машины. Было мало
надежды, что она появится, но ничего, не поделаешь, пешком все равно не дойти.
На вокзале было пусто. Просыхая, дымились доски низенькой платформы. По ней
бродили тощие, испачканные мазутом курицы.
Потом дернулась кверху красная рука семафора, загудели рельсы. Паровоз притянул и
поставил к вокзалу пестрый состав из пассажирских и товарных вагонов. Пути заволокло
паром.
Когда он рассеялся, я увидел, что с поезда почти никто не слез. А по платформе, вдоль
вагонов, медленно шла Алька. Откуда она взялась, я не заметил.
Держа в руках пучочки подснежников, она водила глазами по окнам и, словно
пересчитывая их, шевелила губами.
С одной из площадок протянулась рука. Алька отдала подснежники, сунула за пазуху
свернутые трубочкой деньги.
Чтоб не встретиться, я схватил бидон и, перескакивая через рельсы, выбежал на
проселок. Меня словно ударили по лицу.
5
На другой день я сам пошел за подснежниками. Я соберу их много, и, может, сам стану
продавать, и принесу деньги Альке... Как же я раньше-то ничего не видел и не понимал!
Но нарвать подснежников мне не удалось.
В ту ночь ударил неожиданный, не по-весеннему жгучий заморозок. Каленая земля
стонала под ногой, на реке скрежетал и гулко трещал лед.
В лесу вода тоже замерзла. Дул ветер, но трава и кустарник не шевелились, закостенев от
мороза.
Я отыскал подснежники. Они тоже стояли прямо, недвижно, будто отлитые из зеленого
стекла. Я протянул руку, и от первого же прикосновения цветок тоненько зазвенел и
рассыпался.
Другой цветок мне удалось отломить целиком. Я поднес его ко рту и долго дышал,
стараясь оживить. Но едва он покрылся испариной, как завял, уронив лепестки.
Цветы эти уже нельзя было отогреть.
Не замечая стужи, я бродил по лесу, и под ногами у меня позванивали, ломаясь, мертвые
подснежники.
Алька больше не подходила ко мне. И в Жихарево стала бегать другой дорогой, чтоб не
показываться у нашей избы.
Потом у нее умерла мать. Альку забрали к себе родственники. Я думал, что в Жихарево,
но затем узнал, что нет. Альку увезли в город Будиславль.
От нас до него я насчитал сто восемьдесят шесть километров.
ПИКЕТ 200
Вечером, после работы, в палатку забежал прораб, поискал глазами – кто тут есть? – и
увидел Женю.
–Кузьмина! – сказал он умоляюще.—Слушай, будь человеком, а? ..
И, не давая опомниться, начал говорить, что двухсотый пикет кончили бетонировать,
бетон стынет, а печку топить некому, потому что две истопницы укатили в Сатангуй сдавать
экзамены.
–Я бы послал другого, но ведь все измотались за день, уснут, к чертовой бабушке!—
сказал прораб и ради наглядности закрыл глаза.
Надо было ему ответить, что она, Женя, работала не меньше других, тоже измоталась за
день, у нее промокли ноги, до смерти хочется влезть под одеяло и согреться, уснуть... Но
Женя смутилась и прошептала:
–Хорошо, Пал Семеныч.
Прораб долго объяснял, что она должна делать, выдал на всякий случай коробок спичек,
показал, как зажечь сырые дрова, —Женя терпеливо слушала и кивала головой.
Она опять надела валенки, показавшиеся теперь очень тесными и тяжелыми, сунула в
карман кулек с печеньем – чтобы не скучать ночью – и, поеживаясь, вышла на улицу.
К вечеру сильно похолодало. Над палаточным городком висел морозный туман, сквозь
который еле различались макушки сосен. Люди попрятались, на тропинках было пусто, лишь
у гаража суетилось несколько шоферов: сливали воду из радиаторов. Над гаражом
поднимался плотный, будто накрахмаленный, пар. Даже смотреть на него было зябко.
Женя ссутулилась, пихнула кулачки в карманы ватника и скорей побежала к дороге. До
пикета 200, наверно, километра четыре, надо поспеть туда засветло.
Уже полгода она жила здесь, в тайге, а все не могла к ней привыкнуть. В палаточном
городке, хоть и расположился он на поляне, почти не страшно. А едва отойдешь подальше —
обступят вплотную деревья, закроют небо. И сразу будто в снег провалилась: станешь ниже
ростом, какой-то пришибленной, жалкой, даже кричать хочется... Слишком она большая,
тайга.
Вот и сейчас, на тесной лесной дороге, сделалось неуютно и одиноко. Тишина, мертво, —
словно и нет на земле ничего, кроме этих зеленоватых снегов, мохнатых заснувших сопок да
рыжей зари, которая медленно гаснет за стволами.
Поддавая ногой ледышку, Женя шла и старалась не глядеть по сторонам.
Минует год-другой, и где-то здесь, в этих местах, может – вот за той развилкой дороги,
вырастет в тайге новый поселок. Там у Жени будет свой дом.
Рядом с первой электролинией, которая строится сейчас, будет протянута вторая, куда
мощней. И строить ее будут уже не наспех, а основательно, с размахом: сначала раскинут
поселки для рабочих, проложат крепкие дороги, наладят связь, и только потом начнут
рубиться сквозь леса.
Женя останется работать на этой второй линии. Она сама не заметит, как приживется в
этих краях и полюбит здесь всё – и ясные, почти не умеющие хмуриться небеса, и недолгие
весны со звонкой водой и холодными, будто запотевшими, цветами, и даже самоё
молчаливую тайгу, в которой откроется наконец своя добрая, неброская красота.
А потом, когда пройдут уже не годы, а десятки лет, и настанет черед вспоминать о
молодости, Жене покажется, что вся ее жизнь, начиналась именно здесь, на этой стройке, —
вот с этих палаток на поляне и с первых мачт, поставленных на трассе.
А может, она запомнит еще точней, и когда-нибудь скажет себе, что все началось вот с
этого вечера, с пикета 200 и с маленького задания, которое надо было выполнить. Впереди
зафырчал с подвывом хриплый мотор, показались мохнатые снопы света. Бетонщики
возвращались домой с трассы.
Другая девчонка на месте Жени выскочила бы навстречу, остановила машину,
расспросила бы – что там на пикете? Но Женя сошла с дороги в кусты и молча проводила
взглядом грузовик.
В кузове, обнявшись – чтоб меньше качало,– стояли в заляпанных ватниках ребята,
назло холоду и усталости орали песню. Кто сидит за баранкой, Женя не разглядела. Как раз
потому, что хотелось разглядеть...
Мальчишки тоже не заметили Женю. Переваливаясь, обдирая бортами кусты, грузовик
ушел, скрылся в сумерках. Недолго слышалась и песня, – эхо в тайге отозвалось
приглушенно, потом еще слабей, и смолкло.
Вздохнув, Женя опять пошла по дороге.
На просеку она выбралась, когда уже совсем стемнело. Не было видно ни пней, ни
поваленных деревьев, только мерцал снег да вдали, на бледном небе, чернела поднятая вчера
угловая мачта.
Пикет 200 находился на склоне сопки. Это была просто яма, сверху закрытая брезентом.
Женя отогнула его и спустилась вниз.
Там было как в землянке: низкий потолок над головой, топящаяся железная печурка, на
стенах поблескивает оттаявшая глина, сыплются камешки...
Посредине ямы – два столба – бетонные фундаменты. На них будет поставлена мачта.
И вся работа Жени заключается в том, чтобы сидеть здесь до утра, топить печку и греть
эти фундаменты.
Женя уже бывала в таких котлованах, видела, как дежурят истопницы, и знала, что ничего
трудного в этой работе нет. Только не трусить, не думать о своем одиночестве, не пугаться
шума деревьев – и все будет в порядке.
Она открыла печную дверцу, пристроилась у огонька и, чтобы скоротать время, достала
из кармана ученическую тетрадку и стала писать домой письма.
Шелестело пламя в печке, порой в дровах что-то пищало, позванивало; железная труба
накалилась до малинового цвета, и по ней пробегали белые искры. Непонятно чем, но огонь
успокаивал, было приятно чувствовать ласковое, домашнее тепло, и Женя вскоре как будто
забыла, что сидит она не в обжитой палатке, а в темном котловане, на глухой просеке, и на
все четыре стороны простерлась вокруг нее ночная, заметенная снегами тайга.
Сначала Женя написала матери, затем принялась за письмо для Леши. Она думала, что
напишет сегодня как-то иначе, но, то ли от робости, то ли по привычке, стала рассказывать,
что она делала днем, какие мысли приходили ей в голову, о чем она вспоминала и чего ей
хотелось,—в общем, то же самое, что писала каждый день. И, как всегда, письмо получилось
длинным и немножко грустным.
Женя перечитала его, поправила две случайные ошибки, и задумалась.
Можно его отправить, это письмо. Все равно иначе не напишешь, просто не хватит духу.
И Леша будет верить, что по-прежнему ничего не изменилось... Но только надо ли? Зачем?..
Женя подержала аккуратно сложенные листки на ладони, усмехнулась и вдруг —толкнула
в огонь.
Бумага вспыхнула, почернела, потом превратилась в серый пепел. На сером остались
странно помельчавшие, крошечные буквы, – они словно цеплялись, не хотели исчезать.
Женя дунула – и развеяла их.
Не надо обманывать человека.
Леша остался в Нивенске, в родном городке, который отодвинулся теперь, ушел на край
света.
Женя могла представить себе все его улицы, пестрые крыши с кривыми антеннами,
похожими на удочки, пыльные сады, водокачку, поля за рекой... Как будто ничего не
забылось, но какое это все далёкое, давнишнее!
И даже Леша, милый человек, и тот словно потускнел немножко, хотя Женя совсем не
желала этого.
Леше вообще не везло. Видно, такая уж была у него злая судьба...
Он учился вместе с Женей, только был на год моложе. Ходил всегда такой сердитый,
словно ему только что оспу привили,– брови нахмурены, руки в карманах, и чуть что – лез
в драку.
В седьмом классе выпилил из медного пятака колечко и молча сунул Жене. Это был знак,
почти объяснение. Женя три дня бегала сама не своя, не знала: принять или отказаться?
Потом взяла.
После этого Леша имел право провожать ее домой, сидеть рядом с нею на школьных
вечерах. Но вся беда заключалась в том, что Леша был на голову ниже ростом, и поэтому на
людях к ней не подходил. А провожал домой только в зимнее время, когда было совсем
темно.
Все-таки Женя хранила колечко – не дорог подарок, дорога любовь... Но Леше не везло.
Все выпускники из Жениного класса уговорились ехать на стройку в Сибирь. Леша тоже
хотел поехать, собрался бросить школу – не позволили.
И колечко Женя не уберегла. Перед самым отъездом умывалась в саду, сняла колечко и
положила на лавку. Пришла соседская пестрая телушка и слизнула его...
Уезжали из Низенска, конечно, ясным днем, и Леша даже не мог подойти к ней на
вокзале, чтобы попрощаться. Так и стоял в стороне, сверлил глазами молоденького
инструктора из райкома, который, произнося речь, обращался почему-то к одной Жене...
Длинна до Сибири дорога! Качаясь, проносился поезд сквозь березовые рощи, вылетал нa
солнечные поля, крутилась далекая земля в окнах... Раньше Женя никуда не выезжала из
Нивенска, все ей было в диковинку. Но Лешу не забывала,—и с дороги, и потом, когда
прибыли на место, каждый день отправляла письма, рассказывала о житье-бытье.
Добровольцев послали строить линию электропередачи. Она протянулась на пятьсот
верст, и палаточный городок, раскинутый строителями, совсем затерялся в тайге,– до
ближайшего райцентра за сутки не дойдешь.
Женя ничего не скрывала, выкладывала все переживания. Леша умный, он поймет...
Писала, что никак не может привыкнуть к новому месту; другие ребята помаленьку
обживались, осваивались, а она ходила первые дни как прибитая. Перед глазами все еще
мелькала дорога, и Жене казалось, что ее пронесло по этой дороге какой-то шальной силой,
словно льдину в половодье, так, что и не успела оглянуться.
Наверно, от этого она так боялась растерять свои старые привычки. В школе она
повязывала волосы ленточкой – между прочем, это нравилось Леше, – и теперь, как бы ни
уставала, делала такую же прическу. Ленточка выцвела, обтрепалась, но Женя все равно
стирала ее через день и закатывала в бумажку, чтобы за ночь выгладилась.
Все подруги давно научились носить портянки, а Женя по-прежнему надевала чулки, хотя
они ужасно протирались в резиновых сапогах и приходилось штопку накладывать на штопку.
Она жаловалась, что не может привыкнуть к шумной столовке, тряским грузовикам,
развозившим строителей на пикеты, к таежным болотам, злоедучему гнусу, от которого
разносило носы и щеки...
Девчонки стали неузнаваемы. Даже лучшая подруга Идка Лепехина, которая в школе
была такой же тихоней, как Женя, совсем переменилась. Ходила теперь в шароварах, как
солдат, ругалась отчаянно, за один присест могла съесть кирпич хлеба и банку сгущенного
молока.
А Женя чувствовала, что остается прежней, – даже смотрела вокруг удивленно. Когда
неслышно входила в палатку в своем чистеньком ватнике, с розовой лентой на волосах,
казалась среди подруг чужой и нездешней.
Леша отвечал, что как раз это и хорошо, пусть Женя только надеется, не забывает
;будущей осенью он тоже приедет на стройку, и все опять пойдет, как в Нивенске... И Женя
надеялась. Она совсем не хотела забывать Лешу. И не виновата, что случилось иначе.
Миновало короткое лето, осенние дожди надымили в тайге, прибили гнус. Хрустнули
первые морозцы. Потом замело снегами, засыпало тайгу...
В это время и появился на участке человек, про которого Женя ничего не писала домой.
Дрова начали прогорать. В трубе затихла тяга, и стало слышно, как с мокрого брезента
падают капли. Потом снаружи донесся шорох, свист, низкий гул, – это под ветром
волновалась тайга.
Женя пошевелилась, разминая затекшую ногу, затем встала и полезла наверх. Надо
принести поленьев, – мальчишки затопить-то затопили, а дрова оставили где-то наверху.
В разгоряченное лицо плеснуло холодом. Мороз к ночи завертывал все сильней. Опустив
за собой брезент, Женя распрямилась.
Звездное небо стыло над черной тайгой. Не было видно, как раскачиваются ветви,—
деревья казались неподвижными, и от этого особенно грозно звучал их глухой шум.
Прозрачная, ледяная луна висела над головой. Ее свет был чист и далек, он словно не
достигал земли. И было страшно подумать, что если с тобой что-нибудь случится в эту ночь
– будешь ли утопать в снегу, заблудишься, начнешь замерзать, – эти деревья останутся по-
прежнему неподвижны, и так же спокойно будет сиять ледяная луна...
Женя вздрогнула и, притопывая ногами в сырых валенках, побежала вокруг пикета. Где
же мальчишки бросили дрова? На снегу пусто, отчего-то нет щепок и опилок... Она
торопливо осмотрела площадку, сунулась даже под края брезента, щупая руками...
Дров не было.
Наверно, мальчишки просто забыли их заготовить.
От растерянности Женя присела на снег, не замечая коченеющих пальцев. Что же это
такое? Ведь все пропало... В палаточный городок сбегать не успеешь: туда и обратно восемь
километров, да пока поднимешь ребят... Бетон замерзнет. Здесь, на просеке, валяются под
снегом стволы сосен и кедров, но у Жени под рукой ни пилы, ни топора...
Она не знала, что делать, и когда совсем, отчаялась – на дороге, за деревьями, вдруг
возник и запрыгал теплый лучик карманного фонаря. Чьи-то шаги приближались, уверенно
хрупая по снегу.
Женя обернулась и не сразу поняла, кто это.
Серега был одет в полушубок, воротник которого торчал выше головы, и высокие
валенки. Но грудь у него была нараспашку, руки без варежек, и казалось, что Серега влез в
полушубок нагишом.
Он осветил Женю фонариком и, с удовольствием глядя, как она жмурится, сказал словно
сквозь дым:
–Ну, которые тут без меня скучают?
От неловкости и смущения Женя даже
отвернуться не смогла, так и сидела на снегу с глупым лицом.
–И не радуется! – удивился Серега.– Вот жук-букашка... Стать смирно, когда с
начальством разговариваешь!
Он щелкнул фонариком, луч погас, у Жени в глазах на какой-то момент стало совсем
темно.
–Веди греться! – приказал Серега.—Меня в тепле держать положено.
Они влезли в котлован, Серега развалился перед печкой, со смаком закурил. Нос у него
блаженно сморщился:
–Люблю, когда ташкент...
Женя хотела и не решалась спросить – почему он оказался на пикете? Начальство
послало его, или случайно завернул, или... нарочно?
Серега поймал ее вопрошающий взгляд и объяснил простодушно:
–Танцы, понимаешь, сегодня отменили... Я было – к девкам в палатку, а они пол моют.
Выгнали меня: ступай, говорят, к Женьке в котлован, она первый раз дежурит, и ей одной
скушно... Вот я и пришел. Делать-то все равно нечего.
У Жени со щек сбежал румянец, глаза погрустнели. Хоть она и знала, что вряд ли Серега
пойдет на пикет только для того, чтобы ее увидеть, но все-таки надеялась на другой ответ. А
Серега бухнул, как всегда, не подумав, и даже не попытался скрыть, что ему все равно, куда
идти.
Впрочем, пускай... Как бы там ни было, а Серега пришел, он, конечно, не откажется
помочь, позовет ребят, и они достанут дрова. Все обойдется. Только пускай сначала побудет в
тепле, поговорит с ней чуточку.
– Лезь поближе, – сказал Серега.—Разрешаю садиться.
Он обнял Женю за плечи, и она не сбросила руку, лишь улыбнулась ему испуганно.
Серега приехал на стройку прямо из армии. Вернее – не приехал, а попал случайно: по
пути домой задержался на участке, загостил у знакомых ребят, да так и остался. Он был
шофером, и его приняли сразу.
Через неделю он стал своим человеком, завел дружбу не только с ребятами, но и с
девчонками. Заявлялся вечером в женскую палатку, с порога кричал:
– Девки, смирна!.. – и лез обниматься.
Девчонки пищали, били его подушками, дергали за рыжий чуб, – светопреставление
начиналось в палатке...
Не то чтобы Сереге хотелось лапаться, не то чтобы среди всех он себе выбирал зазнобу,
– нет. Просто характер был у него легкий, дурашливый, и нравились ему вот такие шуточки.
И девчата понимали это и на Серегу не обижались.
Толстая Идка Лепехина держала себя с мужским полом сурово, только тронь – могла
кулаком свистнуть... А при Сереге расплывалась: «Миленький, родименький!»– сама его
тискала, как младенца. В голову не приходило – принимать Серегу всерьез.
На работу девчонки сами старались попасть вместе с ним. И скучно не будет, и помочь
Серега всегда готов. Только попроси– хоть целую смену за тебя отработает.
Машину он водил лихо. По страшной таежной дороге, где, казалось, и ползком-то не
проберешься, кружил как черт, только сосны, жужжа, проносились впритирку к бортам...
Но сначала Женя не замечала его. Глядела, как на пустое место, пока не столкнулась на
танцах.
По вечерам в красном уголке строителей– самой большой палатке – подметали пол и
растапливали круглую печь, сделанную из железной бочки. Серега садился возле нее с
аккордеоном на коленях. Упрашивать его не надо было: играл подряд хоть до рассвета, от
удовольствия тряс головой.
Танцевал он с кем попадется. Раза два приглашал Женю, – не спрашивая, не ожидая
согласия, хватал и тащил на середину.
Женя запиналась от неловкости, у нее щипало глаза, она не слышала ни музыки, ни того,
что он говорил, и только чувствовала, что когда кружились возле печки, то становилось
жарко, а в другом углу обдавало холодом. ..
–Смирна! – кричал Серега после танца.– Объявляю благодарность.
Девчонки, подружки Жени, прибегали на танцы в нейлоновых кофточках без рукавов и
лакированных туфлях. В красном уголке температура была еще терпимой, но когда потом
начинались провожания и разговоры под луной, то девчоночья любовь испытывалась на
смертельной стуже. От сердечных объяснений где-нибудь у сугроба девчонка не краснела,
как полагается в таких случаях, а делалась густо-синей и так стучала зубами, что щеки
тряслись.
Однажды Серега решил проводить Женю. Всех девчонок уже разобрали, даже Идку
Лепехину взял под ручку какой-то хмурый монтажник, смахивавший на дятла; Серега







