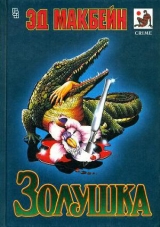
Текст книги "Белоснежка и Аллороза"
Автор книги: Эд Макбейн
Жанр:
Крутой детектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Однако Трейси Килбурн – реальность: квартира, принадлежавшая «Арч риелти», – не менее реальна, и Трейси поселилась в этой квартире и пользовалась машиной корпорации «Арч риелти», а Гораций Уиттейкер – единственный член правления упомянутой корпорации, который жил в Калузе. Так где же кончается реальность и начинается бред?
Если допустить, что между Горацием Уиттейкером и Трейси Килбурн были близкие отношения, тогда Сара, может быть, действительно искала Бимбо и встретилась с ней?
«Сара смотрела на меня широко раскрытыми глазами, бритва дрожала в ее руке, и я… я сказала очень мягко: „Сара, с тобой все в порядке?“ И она ответила: „Я искала ее“».
Так миссис Уиттейкер описывала состояние своей дочери, когда обнаружила ее в ванной комнате двадцать седьмого сентября прошлого года.
«Так много крови».
Снова слова Сары, приведенные миссис Уиттейкер.
Но крови не могло быть много, так как ранки – если Сара действительно порезала себе запястье – были неглубоки. В таком случае – какая кровь? Кровь, хлынувшая потоком из горла Трейси? Кровь, которая лилась, когда ей отрезали язык?
«Прости меня, отец, я согрешила».
Возможно ли такое?
Чтобы Сара отправилась искать Трейси Килбурн, нашла ее, столкнулась с ней лицом к лицу…
«Она села в машину, – рассказывала миссис Уиттейкер. – Я полагаю, она взяла свою машину. Да. И отправилась на поиски другой женщины и нашлаэту другую женщину, нашла любовницу своего отца. Нашла себя, мистер Хоуп. Осознала себя как фантом любовницы, плод воображения, который она сама же создала. И не смогла вынести этого ужаса. И пыталась убить себя».
Или причиной ужаса было реальное убийство?
На столе Блума лежало открытое досье Джейн Доу – Трейси Килбурн.
Кто-то убил ее, это очевидно. Был ли этот «кто-то» Сарой Уиттейкер – другое дело. Однако же Сара ударила Кристину Сейферт с такой силой, что потребовалась интенсивная медицинская помощь.
«Вы оказываете ей очень плохую услугу, – предупреждал меня доктор Пирсон. – Вы помогаете ей уничтожить себя».
Я мрачно глядел на досье.
Блум наблюдал за мной.
– Мэтью, – тихо сказал он. – Почему бы тебе не пойти домой? Ты ничего не можешь сделать, пока мы не найдем ее.
Я кивнул.
– Мэтью?
– Да, Мори?
– Ступай домой, о’кей? Я дам тебе знать.
Глава 13
Я мучительно размышлял о том, куда же исчезла Сара…
Что она предприняла?
Затаилась ли где-то в Птичьем заповеднике, среди густых зарослей, столь же буйных, как, по-видимому, и ее разум?
Мне не следовало пить, но я пил.
И продолжал «прокручивать» в голове все, что произошло. Снова и снова.
Приканчивая второй стакан мартини, я вспоминал каждое ее слово, каждый жест, пытался расшифровать мельчайшие нюансы ее поведения, анализировал все ее суждения.
Я все еще не верил в ее безумие.
Но она ударила Кристину Сейферт каблуком-шпилькой, острым как стилет.
Могла и убить.
Если она не психопатка, зачем ей это делать? Мы ехали в Южный медицинский госпиталь. Группа врачей, абсолютно непредубежденных, обследовала бы ее, и…
Возможно, подтвердила бы диагноз тех, других…
Я тяжело вздохнул.
И припомнил ее настойчивое требование, чтобы сопровождающим был мужчина. Не планировала ли она бегство с самого начала? Она как будто знала о местонахождении передвижной автозаправочной станции. Неподалеку от Птичьего заповедника. Была ли Сара здесь раньше? Не рассчитала ли загодя, что мужчина не станет сопровождать ее в женский туалет? «Джейк, по крайней мере, не подсматривает за мной, когда я сижу в уборной». Но даже если бы сопровождающим был мужчина, разве он не последовал бы за ней к женской комнате, не подождал бы снаружи? Или там, в туалете, было окно? Не планировала ли она сбежать через окно? Если такое окно существовало. Войти в туалет, – надзиратель-мужчина ждет снаружи, – выбраться через окно и скрыться в зарослях. Ей пришлось изменить свой план, когда в «Убежище» настояли, чтобы с нами поехала Кристина. Сара выбрала туфли на шпильках – не самые подходящие для встречи с людьми, которые будут судить о ее психическом состоянии, но смертельно опасное оружие в руках отчаявшейся женщины. Она напала на Кристину, оставила ее лежать на полу, – Боже, не она ли убила Трейси Килбурн и бросила труп в реку Сограсс?
Звонит телефон…
Это Блум…
Они, должно быть, нашли ее.
Я бросился в кухню, схватил трубку.
– Хэлло?
– Папа?
– Здравствуй, милая, как поживаешь?
– Хорошо, – сказала Джоанна.
– Что ты делаешь?
– Смотрю телевизор. Мама ушла обедать с Оскаром Плешивым.
– Показывают что-нибудь хорошее?
– Разве так бывает? – Она колебалась. – Папа, ты узнал то, что должен был узнать?
– О чем ты, дорогая?
– О… ты знаешь… о школе.
– Ах да, – сказал я. – Правильно…
– Мне не нужно будет уезжать, папа?
Доктор Пирсон утверждал, что я оказал Саре плохую услугу, поддерживая ее иллюзии. Следует ли мне теперь поддерживать надежду Джоанны, что ее не пошлют осенью в новую школу? Должен ли я стать Белым Рыцарем, которым она жаждала меня видеть?
– Папа, – спросила она, – ты уладил это?
Ей было четырнадцать лет.
Я перевел дыхание.
– Дорогая, – сказал я, – я, конечно, поговорю с твоей матерью, но…
– Я думала, ты уже разговаривал с ней.
– Разговаривал. Мы оба – Фрэнк и я – руководствовались соглашением о раздельном проживании супругов.
– Тогда для чего ты опять собираешься говорить с ней?..
– Я поговорю с ней еще раз. Но, милая, если она будет настаивать…
– Не надо так, папа!
– Джоанна, я не могу запретить ей отослать тебя. Нет таких средств.
– Ох, папа! – Джоанна всхлипнула, бросила трубку.
Я смотрел на телефон. Мне было тяжело. Может, позвонить ей? Все же я повесил трубку и вернулся в гостиную. Включил свет повсюду. За окнами легкий бриз раскачивал пальмы. Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким.
Я снова вспомнил Сару, наш разговор:
«– Сколько лет Джоанне?
– Четырнадцать.
– О Боже. Почти женщина. Какого цвета у нее волосы?
– Простите, Бога ради, но что у вас за пристрастие к волосам?
– Ну… Ваша жена Сьюзен была шатенкой?
– И осталась ею.
– А ваша подружка Эгги была брюнеткой.
– Да.
– Так какого цвета волосы у вашей дочери?
– Она блондинка.
– Ага. Как я.
– Да.
– Она хорошенькая?
– Я считаю, что она красива.
– А я красивая, как вы думаете?
– Вы очень красивая.
– Красивее Джоанны?
– Вы обе хороши.
– Кто еще должен меня волновать?
– Вы не должны волноваться. Ни по какому поводу.
– Даже из-за Джоанны?
– Конечно, нет. Я хочу, чтобы вы встретились с ней как-нибудь. Когда с этим будет покончено…
– О, как бы я хотела встретиться с ней!»
Я вспомнил ее поцелуй.
Неистовость… агрессивность… гнев… неутоленная страсть.
«Было бы гораздо лучше, если бы вы были преданы мне,Мэтью».
Я отнес в кухню стакан с мартини и взял трубку.
Джоанна всхлипывала, шмыгая носом.
– Как ты мог это сделать?
– Дорогая, если бы у меня была возможность…
– Зачем ты подписал… Это дало маме право…
– Ты говоришь в точности как Фрэнк.
– Это не смешно, папа! – упрекнула меня Джоанна.
– Я знаю. Но, голубка…
– Да, конечно, голубка, – сказала Джоанна, всхлипывая.
– Я обязательно поговорю с мамой. Я уверен, она не захочет, чтобы ты уезжала так далеко.
– Вы оба хотите избавиться от меня.
– Дорогая, мы оба очень любим тебя.
– Ну конечно!
– Мы обсудим это, – сказал я. – Попытаемся придумать что-нибудь.
– Ага.
– Мы это сделаем, доченька.
– Ты обещаешь,что все уладишь?
– Этого я не могу обещать, Джоанна. Но я сделаю все, что в моих силах.
– О’кей. – Она вздохнула.
Но плакать перестала.
– Теперь все в порядке? – спросил я.
– Наверное. – Она помолчала. Затем взорвалась: – Я ненавижу эту сверкающую лысину! Как ты думаешь, почему мама хочет отправить меня в Массачусетс? Чтобы остаться с ним наедине?
– Милая, – сказал я. – Ты бы хотела остаться наедине с Оскаром Плешивым?
Джоанна расхохоталась.
– Я поговорю с мамой, о’кей?
– О’кей, – откликнулась она. – Спасибо, папа, я тебя очень люблю.
– Я тоже тебя люблю.
– Доброй ночи! – Джоанна повесила трубку.
Я вернулся в гостиную, уселся в кресло и осушил стакан мартини. Не приготовить ли еще один? Нет, пожалуй. От всего сердца я желал бы, чтобы Джоанна была сейчас здесь, со мной. Но я в самом деле подписал это проклятое соглашение.
«– Джоанна живет с матерью. Так же, как и я жила когда-то вместе с моей. Верно, Мэтью?
– Да.
– Кстати, где они живут?
– На Стоун-Крэб-Кей.
– Мы будем проезжать мимо их дома?
– Нет-нет.
– Жаль. Я хотела повидать ее. Я чувствую, что уже знаю ее. Вы обещали познакомить нас, Мэтью. Вы не забыли о своем обещании?»
Я не забыл о нем.
Но сомневаюсь, что Сара когда-нибудь встретится с моей дочерью.
Телефон снова зазвонил.
Я вошел в кухню и снял трубку.
– Папа?
Голос Джоанны. Взволнованный, истеричный…
– Папа, кто-то ходит во дворе!
– Что?
– Ты можешь приехать прямо…
Внезапно раздался звон стекла.
– Папа! – отчаянно закричала Джоанна.
Молчание.
Что-то щелкнуло. Трубка легла на рычаг.
«У Джоанны светлые волосы, как у меня… Бимбо тоже была блондинкой, вы знаете… Так мне сказали. Предполагается, она была блондинкой. Это правда, Крис? Любовница моего отца. Разве она не была блондинкой в моих мнимых галлюцинациях?»
Бимбо, любовница отца, была блондинкой, и моя дочь была блондинкой, а я был Белый Рыцарь, преданный Саре.
Она знала, как зовут мою жену.
«Вы называете ее Сьюзен, Сью или Сьюзи?»
И она знала, что моя дочь живет вместе со Сьюзен на Стоун-Крэб-Кей… «Кстати, где вы живете, Мэтью?» Сьюзен была внесена в телефонный справочник.
Через десять минут я был на Стоун-Крэб-Кей.
В доме – темнота.
За домом садилось солнце, окрашивая небо и залив в глубокие цвета крови, красные тона. Я слышал, как бился прибой о берег. Выскочив из машины, я понесся по подъездной дорожке, одолев ее в два прыжка. Машина Сьюзен «мерседес-бенц», которая была когда-то нашеймашиной, исчезла. Сьюзен обедала где-то с Оскаром Антермейером, но ни за что на свете не стала бы подвозить его. Машина сгинула. Стекло в кухонной двери было разбито, дверь – распахнута настежь.
После развода я не был здесь желанным гостем. Обычно, заезжая за Джоанной, я останавливался неподалеку и сигналил. Но я знал дом как свои пять пальцев. Ворвавшись на кухню, я сразу нашел выключатель, включил свет.
– Джоанна! – завопил я.
Молчание.
Я обежал весь дом, везде включая свет и выкрикивая имя моей дочери.
Дом был пуст.
Я вернулся в кухню.
Запасные ключи от дома висели на одном из двенадцати крючков нарядной медной вешалки для ключей, которую мы со Сьюзен купили во Флоренции в наши счастливые дни.
Я сам прикрепил эту вешалку к стенке одного из кухонных шкафчиков.
Вешалка была на месте.
Запасные ключи от «мерседеса» должны были крепиться на цепочке, которую я купил на мойке у Ладлоу. Ключи на брелке, изображающем «мерседес».
Ключи исчезли.
Я бросился к телефону – он висел на стене, – и увидел на ковре в гостиной одну туфельку на шпильке.
Туфелька Сары.
На каблуке была кровь.
Кровь была и на ковре в гостиной.
Я сорвал трубку с рычага.
На тумбочке, под телефоном, стояла подставка для ножей. Самый большой нож отсутствовал.
Нож, которым обычно пользуется шеф-повар.
Я быстро осмотрел сушку возле раковины.
Ножа не было.
Руки мои дрожали, когда я набирал номер следователя Блума.
– Оставайся там, – распорядился он.
Но я не остался.
Когда я рванул к своей машине, я заметил вторую туфельку Сары, – она лежала на гравии.
Белоснежка ушла босой.
Она забрала машину моей бывшей жены… мою дочь… и нож для шеф-повара.
Я полагал, что знаю, куда она направилась.
«– А вот и Птичий заповедник. Вы когда-нибудь были здесь, Мэтью?
– Один раз. С Джоанной. Когда она была совсем ребенком.
– Там хорошо».
В тот единственный раз, когда мы были в Птичьем заповеднике, моя бывшая жена Сьюзен не пошла с нами. Она сказала, что птицы, как летучие мыши, могут запутаться в волосах.
Мы пришли в Птичий заповедник среди дня. Я держал влажную маленькую ручку Джоанны в своей.
Ястребы описывали в небе круги.
Но сейчас была ночь.
Фары моей машины выхватили из тьмы буквы, выжженные на балке над входом:
РЕКА СОГРАСС. ПТИЧИЙ ЗАПОВЕДНИК
Вывеска на столбе у входа предупреждала:
Вход посетителей прекращается в 5.50
Цепь, которая загораживала проход между столбами, была снята с одной стороны, справа, и валялась в грязи.
Я переехал через нее.
Будучи знаком с досье Джейн Доу – Трейси Килбурн, я более-менее представлял себе, где было найдено ее тело. Лодочная станция, откуда вдоль по реке отправлялись часовые экскурсии, находилась примерно в двенадцати милях от входа, а тело вынесло на берег милях в пяти от нее. В досье это место именовалось «сторожевой пост № 3». Я взглянул на одометр [21]21
Одометр – прибор для определения пройденного расстояния.
[Закрыть]в тот момент, когда проехал через ворота.
Фары пробивали световые туннели во мраке. Я чувствовал на себе взгляд аллигатора, прислушивался к таинственному шороху крыльев в ветвях деревьев.
Ухала сова.
Грунтовая дорога извивалась между пальмами и мангровыми зарослями, дубами и соснами.
Ощущалась близость реки, мягко плещущейся в тишине ночи.
Я посмотрел на одометр.
Оказалось, я отъехал 8,6 миль от ворот.
Я ехал сгорбившись, ослепленный лучами фар.
Здесь ли они с Джоанной?
А если не здесь, то где?
Вот и лодочная станция, справа. Мой одометр показывает 12,2 мили от ворот. В темноте высвечивается еще одна вывеска – грубая деревянная доска с выжженными на ней буквами:
ЭКСКУРСИОННЫЕ ЛОДКИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ КАЖДЫЙ ЧАС
ЭКСКУРСИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОДИН ЧАС
ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС В 3.30
Если полицейский отчет был точным, я найду «сторожевой пост № 3» милях в пяти от лодочной станции. Если Сара привезла Джоанну туда…
Я боялся додумывать эту мысль до конца.
Он возник внезапно в свете фар – одометр показывал 17,4 мили – деревянное сооружение, вроде нефтяной вышки. Я остановил машину.
Табличка на нижней перекладине гласила:
СТОРОЖЕВОЙ ПОСТ № 3
Тишина.
Единственная тропа справа уходила в лес.
Я снова услышал, как плескалась река…
Я выехал на дорогу.
Не проехав и мили, увидел впереди свет фар. Сердце екнуло.
Джоанна лежала неподвижно. На траве перед «мерседесом».
Сара склонилась над ней, зажав нож в правой руке.
Ее желтое платье все было в пятнах крови.
Голые ноги исцарапаны и кровоточили.
Она обернулась, когда я выпрыгнул из машины.
Лучи фар наших машин скрестились, как шпаги на поединке.
– Сара! – закричал я.
– Нет! Нет!
– Сара, отдай мне нож.
Она сделала шаг ко мне. Свет фар выхватил из тьмы ее ноги и желтое платье, залитое кровью. Нож в ее руке сверкал и подрагивал, как живое существо.
– Я не Сара, – выдохнула она.
Ее глаза расширились. В ярком свете фар они казались совершенно белыми. Глаза без зрачков… Белые, огромные, невидящие…
– Белоснежка, – быстро поправился я, – отдай мне…
– О не-ет, – прошипела она. – Нет, мой дорогой, Аллороза, разве ты не знаешь? Аллороза! – Она бросилась на меня с ножом.
Я никогда не сталкивался с такой грубой и жестокой силой.
Не помню, сколько времени мы боролись в перекрестном свете фар. Я слышал – и это не была галлюцинация – крики птиц, кошмарные вопли Сары, когда она бросалась на меня, пытаясь ударить ножом в грудь. Я удерживал ее руки. Наши тени извивались на земле и ломались на ветках деревьев…
– Алая кровь! – вопила Сара. – Аллороза! – визжала она.
Нож кружил у моего горла, норовил воткнуться в грудь, в лицо.
– Аллороза! – вопила она снова и снова и с такой бешеной энергией кидалась на меня, что я едва справлялся с ней.
Мы стояли, сцепившись в смертельных объятиях, залитые светом фар. Моя левая рука вцепилась в ее запястье, когда она вновь занесла нож. Рука ее дрогнула, губы медленно раздвинулись, обнажая зубы. На меня смотрело безумие.
– Умри же! – прохрипела она и, перехватив нож левой рукой, нацелила острие мне в горло.
Я ударил ее кулаком в лицо.
Ударил с таким ожесточением, с каким никогда никого не бил в своей жизни.
Впервые я ударил женщину.
Сара упала на землю, жалобно скуля.
Я стоял над ней, задыхаясь.
И тут я заплакал.
Глава 14
Итак, игра в вопросы и ответы закончилась.
Вопросов уже не было.
Остались одни ответы.
Я бы совершенно разочаровался в Блуме, вздумай он в тот момент расспрашивать меня о Саре.
Сару отвели в полицейский участок, так как она обвинялась в двух покушениях с отягчающими обстоятельствами – тяжком преступлении второй степени, которое каралось сроком тюремного заключения до пятнадцати лет. Но пока ей предстояло медицинское освидетельствование, а медики еще не появились, когда я прибыл в управление охраны общественного порядка.
Медики, слава Богу, оказались Добрыми Самаритянами. «Скорая помощь» моментально приехала за Джоанной и мной по вызову Блума, который нашел нас в Птичьем заповеднике. Он рассказал мне, что, едва вошел в пустой дом и увидел кровь на ковре, тотчас же догадался, где меня искать. Он обнаружил меня с Джоанной на руках, задыхавшимся от рыданий. Блум надел наручники на Сару (заведя ей руки за спину), а затем уж вызвал по радио машину «Скорой помощи».
Врач из госпиталя Добрых Самаритян успокоил меня, что с Джоанной все будет в порядке. Очевидно, ее ударили не так сильно, как Кристину Сейферт, которая все еще находилась в коме. Может, потому, что Джоанна была ниже Сары, удар пришелся по голове, а не в висок. Завтра утром у нее начнется сильная головная боль, предупредили меня врачи, но все будет хорошо. Разумеется, хорошо настолько, насколько это возможно после удара по голове трехдюймовым каблуком.
Сара находилась в камере для задержанных.
Но она не сознавала этого.
Она думала, что приехала в Южный медицинский госпиталь и ею занимаются тамошние врачи.
Она не узнавала меня.
Считала меня одним из врачей, обследующих ее.
Казалось, она ничего не помнила – где была, как вела себя, что пыталась делать днем и вечером.
Когда Роулз спустился вниз с несколькими чашками кофе, она потребовала, чтобы Черный Рыцарь был удален из помещения.
Никаких вопросов…
Только ответы.
Все они и были даны Сарой в беспорядочном и напряженном монологе. Сара умоляла пересмотреть ее дело, выпустить ее на свободу. Она говорила сама с собой. Говорила с Господом. Ему одному было ведомо, какие демоны терзали ее мозг.
Это было самое печальное повествование, которое я когда-либо слышал.
…И, конечно, он не подозревал, что я слышала их телефонный разговор. Откуда он мог знать? Дома никого не было, когда я вернулась. Он, должно быть, считал себя в полной безопасности и позвонил своей маленькой Бимбо. Чистая случайность, что я узнала о ней и услыхала, что она говорила ему по телефону. О ужас, мой собственный отец! Я положила свои пакеты – я люблю это слово – пакеты,а вам оно нравится? Так мило, скромно, по-английски, не то что грубое, вызывающее американское – свертки…
От одного слова тошнит.
Итак, я сложила свои пакетына стол в холле: нигде никого, в доме тихо, в золотистом свете плавают пылинки. Девушка не знала, что ей предстоит в этот солнечный августовский день. О, как мало она знала, эта бедная маленькая девственница!
…Сложила свои пакеты и вспомнила, что должна была отвести «феррари» на станцию обслуживания. Ну, да уж слишком поздно сегодня, поеду завтра, часов в девять. Я пошла в библиотеку, чтобы позвонить тем людям, которые обслуживают иностранные марки, хотя сами вовсе не иностранцы, бедняжки, сняла трубку и услышала голоса.
Услышала, как они разговаривают.
Мой отец и женщина.
О Боже, Боже, Боже, что они говорили!
Я стояла ошеломленная, в ужасе от этих непристойностей. Белоснежка побагровела, краска залила ее девичьи щеки. Так же она покраснела, когда он расстегнул «молнию» на брюках, но это было в другой стране, и, кроме того, та девка умерла. Я никогда не любила ездить верхом, это была, конечно, его идея, папина. Милый папа с его блестящими идеями – такими, например, как посадить меня на лошадь и нанять Черного Рыцаря учить меня езде. О, он научил меня, ол-райт, «буду учить тебя, дорогая».
Я стояла там изумленная, растерянная, уничтоженная. Будучи девушкой, как я уже упоминала, я была охвачена стыдом, когда услышала эти страстные слова в жаркий августовский полдень. А если нет, тогда примите во внимание, что это просчет докторов, ученых-физиологов, потому что, как вы легко заметите, я как-то путаюсь относительно того, почему я была заключена в ту, первую Гробницу, когда все, что я сделала, – а что я сделала… почему я оказалась там? Я была невинна, как свежевыпавший снег. Я встала на колени только потому, что он заставил меня это сделать. «Прими меня, дорогая», – сказал он, потрепав Белоснежку по голове. Я перед ним на коленях, черные сапоги, начищенные до блеска, о, какие ужасные вещи говорила женщина по телефону, эти голоса…
Вы знаете, мой отец сказал: «Не то чтобы я ревнив», а она воскликнула: «Ого! Он не ревнив!» Чтобы поддразнить его. Молодой голос. Он называл ее Трейси, он называл ее Распутная Ведьма Трейси, но не упоминал ее фамилии. Трейси и Трейси. О, какие проблемы возникли у меня из-за этого! Как трудно было найти ее после того, как она довела его до сердечного приступа, – о, какие ужасные вещи говорила она ему по телефону!
Белоснежка – в роли невольного соглядатая – приходит к выводу: дорогой папа расстроен из-за того, что Маленькая Бимбо Трейси отправилась в Лос-Анджелес навестить старого друга, не посоветовавшись с Бедным Богатым Папочкой и не предупредив его. Теперь она вернулась, Маленькая Бимбо Трейси, и говорит папе, что он – ревнивый старик, даже в ваннуюне отпускает ее одну. Такие интимности! Интимный разговор по телефону в то время, как Белоснежка краснеет и бледнеет от нахлынувших на нее чувств, которые невозможно выразить.
Должна ли я теперь выражать их?
Я была в белом в тот день – Белоснежка была в белом, – белое платье, белые туфельки, белые, отделанные кружевами трусики-бикини, неумышленно, к моему удивлению, ставшие мокрыми, когда я слушала их разговор, эти хрипловатые голоса, интимные подробности, которыми они обменивались… Конь бил копытом, стоя позади. Бей сильнее копытом… О! Входи глубже, глубже, глубже, дорогой.
Он протестовал, конечно. Он был наверху, в спальне, которую делил с моей матерью, разговаривал с этой мерзкой потаскушкой, но он протестовал энергично, да, энергично, я должна добавить, он заявил, что вовсе не ревнив по натуре, обычная порядочность, продиктованная ее обязанностью информировать его о своем местопребывании. В конце концов, он оплачивает эти говенные апартаменты, в которых она живет, – такоеслово в устах моего отца! – позволяет ей пользоваться машиной, которая принадлежит компании, разрешает ей звонить по телефону Бог знает куда, и, конечно, в Лос-Анджелес, куда она уехала, не сказав ему. И что там за друг,могу я спросить, потребовал он, друг, которого ты навешала? Какой-нибудь старый бойфренд? Он негодовал, возмущался, но не ревновал.
Мои уши горели. Уши Белоснежки горели от стыда. Они горят и сейчас при одном воспоминании об этом сияющем, ласковом дне в августе, за две недели до того, как он умер. Сердечный приступ. Сердце не выдержало. Неудивительно, не правда ли? Страсть, звучавшая в их голосах по телефону… У меня у самой едва не случился инфаркт.
И тогда она сказала – этого я никогда не забуду, – она попыталась утешить его, начала умасливать своего благодетеля, Богатого Папочку Уиттейкера, нежившегося со своей уличной девкой в каких-то апартаментах, стремившегося в эти апартаменты и переживавшего по поводу того, что там происходит.
О Гораций, говорила она. Она называла его «Гораций», – о Гораций, как ты можешь быть таким мелочным! Я изнывала от тоски по тебе, когда была в Лос-Анджелесе. Умираю от желания видеть тебя. Я хочу, чтобы ты-то, что я хочу, – о, ужас!
Она сказала…
О, что она ему сказала!
Белоснежка слушает, трепеща от возбуждения.
Ее отец, ее Гораций, ее богатый щедрый папочка Уиттейкер обещает: он постарается.
Приезжай ко мне, командует Распутная Девка.
Постараюсь, снова говорит он. Раздается резкий щелчок, он вешает трубку наверху, в спальне. Я стояла – Белоснежка… Я стояла, дрожа, в библиотеке, не в силах сдвинуться с места, зажав трубку в руке, – она вдруг вытянулась, стала продолжением моей руки… Трубка и рука соединились, рука из белого пластика… Я пытаюсь высвободить трубку, но она, живая, сопротивляется, отказывается повиснуть на рычаге, она шумит и разговаривает, в ней оживают голоса! Раздаются шаги на лестнице, он спускается вниз, он внял ее призывам? Я встречу его внизу, в холле, посмотрю ему в лицо, Белоснежка и ее отец… Разве был у Белоснежки когда-нибудь отец? Простите меня, медики, вы лечите людей… Я… Я…
Жила некогда бедная вдова в ветхом домишке с двумя дочерьми – Белоснежкой и Аллорозой. Девушек прозвали так из-за цветов – белых и алых, которые росли и благоухали, эти кусты роз… Они расцветали весной, тра-ля-ля!
Точно.
Не было никакого отца, никакой вдовы, но как это было? Извините меня, я все это придумала, все из моей головы, – правда. Она не была вдовой, нет, конечно, нет. Распутная Ведьма не была тогда вдовой – во всяком случае, не в то время, когда были открыты карты в этом загоне для скота, в коридоре, где пылинки и ковер на лестнице неумолимо поглощали наши слова, шепот, шипение: ш-ш-ш, малышка, не плачь.
Я сказала ему: я все слышала.
Он моргнул, он страшно удивился, мой отец, который не был моим отцом и не был также бедной вдовой. И бедность здесь ни при чем. Это обычная проституция– где-то там, в роскошных апартаментах, ведь подумать только – что она ему говорила по телефону! Я сказала ему, что все слышала, повторила все эти отвратительные непристойности, которые она шептала ему. В нашем саду не было розовых кустов. Очень жаль. Такое богатство – и нет роз. Такая бедность, такая обездоленность!
О, я выложила ему все, выложила, выплеснула!Предупредила, что он не должен больше с ней встречаться. Я сказала, что буду наблюдать за ним, сторожить каждый его шаг, следовать за ним день и ночь. Я потребовала,чтобы он покончил с этой преступной связью, с этой потаскушкой Трейси, с этой Распутной Ведьмой – раз и навсегда.
Ты ошибаешься, Белоснежка, – оправдывался он, хотя он не называл меня Белоснежкой и не знал, что я – Белоснежка, – отец не знал своей горячо любимой дочери. Но вопреки тому, что он, заикаясь, бормотал, правда стояла в его глазах, в его мертвых глазах, в его холодных, мертвых, лживых глазах, – он не любил меня. О, еще не мертвый – я, конечно, знаю разницу между фактом и фикцией, фантазией и реальностью, – как он мог быть мертвым, если я говорила с ним, убеждала, умоляла его прекратить эту ужасную связь, угрожала ему, да, – хотя нет, тогда еще – нет.
Я не угрожала ему тогда.
Все еще была середина августа. Здесь так жарко в августе, разве вы не знаете, духота на лестнице с покрытыми ковром ступенями, у небольшого бассейна в испанском дворике, ты хочешь писать, Сара? – нет, конечно, нет, у меня уже мокрые штанишки. Кружевные трусики Белоснежки были совершенно мокрые, когда она разговаривала со своим отцом.
Угрозы… Но я не виновна в его смерти, он не был мертв – прости меня, отец, я согрешила, – угроз не было до сентября. День труда. Третье сентября. Почему он называется День труда? Это праздник в честь уймы женщин, изнемогающих от страданий в родильных домах? Как, должно быть, страдала моя мать, Распутная Ведьма, производя на свет Белоснежку. Позже дорогой папочка вручил свою Белоснежку Черному Рыцарю. Черные Рыцари, оба черные как ночь, м-м-м, вот так. Можно ли было ожидать, чтобы черные люди оказались белыми? Я была совершенно изумлена, когда он оказался белым.Ну конечно, невинное создание, всего двенадцать лет. Ему следовало бы быть черным.«Проглоти это, дорогая», – сказал, но я не смогла.
Я была в белом купальном костюме, бикини.
Я грелась на солнце у бассейна, вода в заливе плескалась о сваи, плескалась… О, что она говорила ему по телефону! Эти голоса! Белоснежка лежала на ослепительном солнце в своем белом бикини. Был День труда, но что за труд в особняке Уиттейкеров? – только апатия и похоть. Я не должна этого говорить. Он мой отец, Черный Рыцарь, с его густыми черными волосами, в коротких черных плавках, «проглоти это, дорогая»… Он лежал рядом со мной в шезлонге. Мать, с задатками Распутной Ведьмы, ушла в дом за лимонадом, так как был День труда. Да и слуги отсутствовали. Господи, помоги им. Я сказала ему, я проверяла его, понимаете, потому что у меня не было доказательств… Говорю ему: мне известно, что он все еще встречается с этой Ведьмой Бимбо. Он глядит на меня своими мертвыми, холодными, лживыми глазами и говорит: «Нет, Сара», – мое имя на его лживых губах вызывает во мне отвращение – он надеется, что я проглочу его явную ложь, убеждает меня: «Нет, Сара, я перестал с ней видеться». Я сказала ему, все еще проверяя его, что он лжет, я знаю– он лжет, пригрозила открыть все матери. Она как раз выходит из дома, приближается к нам. Моя угроза, но не моя вина. В том, что случилось, нет моей вины.
Она выходит к нам во внутренний дворик через застекленные двери.
Она несет серебряный поднос с кувшином лимонада. Солнечный луч дробится, окрашивая кувшин в желтый цвет. Я окликаю ее: «Мама, есть кое-что, о чем ты должна знать», – нож ему в сердце! Он хватается за сердце, смотрит на меня, глаза широко раскрыты – прости меня, отец, я согрешила, – и плачет: «Нет, Сара», – его последние слова, мое имя у него на губах – его последнее слово, так как в следующее мгновение он уже мертв. Но, конечно, он не умер, он все подстроил, чтобы меня привезли сюда и представили таким высокообразованным джентльменам… разве не он способствовал моему освобождению из Гробницы для Невинных, куда меня поместили против моей воли… Это онаубила его, слова, которые она произнесла по телефону… эти голоса, которые я услышала по телефону. Она убила моего отца, она, шлюха, Распутная Ведьма Трейси!
Я обдумывала, как мне найти ее.
Отец оставил завещание. Премьер-министр, Министр права, прочитал мне его.
Я задавала себе вопрос: как мне найти Трейси?
Я слышала их голоса по телефону.
Ее имя эхом отзывалось в моем мозгу день и ночь.
Трейси.
Та, что убила его. Осмелившись произнести эти слова по телефону.
И, конечно, он оставил ей состояние, неважно, чтонаписано в завещании. Там, где есть завещание, там есть и способ обойти его, и, в конце концов, я слышалаэти интимности по телефону, я слышала голоса, я все ещеслышу их голоса. Он должен былоставить ей значительную сумму – вы не согласны? У него были основания, не так ли? Поэтому я должна была найти ее, вы понимаете? Белоснежке следовало отыскать средство, с помощью которого можно найти ее, – вот что занимало мысли Белоснежки день и ночь. Найти Трейси, обвинить ее, заставить мучиться, отправить обратно, в ад, откуда она вырвалась, изрыгая своим дыханием смрадный запах серы, исторгая непристойности, – разве позволено говорить такие вещи по телефону?






