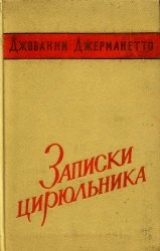
Текст книги "Записки цирюльника"
Автор книги: Джованни Джерманетто
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Глава ХХХ
Тюремные встречи
Утром в день отъезда из Пьяченцы на вокзале в ожидании запоздавшего на несколько часов поезда нас поместили в один из станционных складов. Мы купили кое-что перекусить и разговаривали между собой. Старик с зябликом, несмотря на скованные руки, пытался вычистить клетку своего питомца. Я помогал ему свободной рукой, как помогал и другим: кому прикурить, кому разломить хлеб. Начальник партии, старшина, высокий белокурый парень, держался очень прилично: не запрещал маленьких вольностей, переходил от одного арестованного к другому, расспрашивал, откуда, на сколько «августовских лун»[82]82
На условном тюремном языке – год.
[Закрыть] приговорен, и так далее.
Почти все объявляли себя жертвой судебной ошибки или мести.
Подойдя ко мне, старшина спросил:
– А вы что сделали?
– Я? Тяжкое преступление: меня обвиняют в заговоре против государства, – ответил я.
– А вы коммунист? Может быть, из тех, которые были арестованы по возвращении из России? – На мой утвердительный кивок он тихонько добавил: – Расскажите что-нибудь о России.
Я начал говорить. Арестанты обступили меня. Карабинеры присоединились к ним. Все они слушали меня внимательно. Я говорил долго. Один из слушателей, осужденный за грабеж и нанесение ран, заметил, повторяя излюбленную фразу буржуазной печати:
– Большевики совершили ужасные злодеяния, весь цивилизованный мир против этих варваров.
Другой арестант обрушился на него:
– Что ты можешь знать? Веришь тому, что в газетах печатают? Заткнись лучше! Он был в России!
– Ну, на сегодня хватит, – прекратил диспут старшина.
К вечеру мы прибыли в Болонью. Нигде я не видел пересыльной камеры такого размера. В ней свободно помещалось семьдесят человек, настолько свободно, что молодежь, чтобы размяться после мучительного переезда, принялась бегать. Это была длинная и широкая комната с низким потолком, опиравшимся на несколько грубых колонн. Сырой свод и узкие щели окон, расположенных высоко под потолком, говорили о том, что это подвал.
Нас встретили возгласами и расспросами прибывшие раньше арестанты. Все нары были уже заняты, нам достались только соломенные тюфяки, лежавшие на полу. Когда я устраивался в углу, молодой парень, лежавший на соседних нарах и читавший «Рокамболя»[83]83
«Рокамболь» – приключенческий роман французского писателя Понсон дю Террайля.
[Закрыть], встал и предложил мне:
– Иди на мое место. Никто не смеет сказать, что Рыжий оставил лежать на полу больного. Ложись! Я молод, а ты хоть и не стар, но у тебя больная нога.
И он чуть ли не силой усадил меня на нары. Мы разговорились.
– Я убил в драке. Защищаясь. Меня закатали на восемь лет, потому что я не мог нанять хорошего адвоката. Бедняки всегда виноваты… Мне жалко только несчастную мать. – И он снова погрузился в «Рокамболя».
На соседних нарах двое тоже говорили об адвокатах:
– Я сам виноват. Пожалел мальчика: он только что университет окончил и напросился защищать меня. Он меня растрогал, сердце у меня слабое, я и позволил ему. А он спутал статьи закона, растерялся перед судьями, ну, меня, конечно, и закатали… Вот и делай добро людям!
– Я никогда не поддаюсь на эти просьбы, – гордо заявил его собеседник. – Однажды такой вот начинающий предлагал мне сто лир, чтобы я позволил ему защищать меня. Можешь себе представить! С моим-то именем и с моим прошлым! Я, разумеется, отказал.
На следующих нарах немолодой уже арестант рассказывал собравшейся вокруг него публике, как он ограбил банк. На полу двое играли в шашки.
Доской служил пол, разлинованный углем, шашками были пуговицы. Дальше элегантно одетый человек декламировал Кардуччи[84]84
Кирдуччи, Джозуэ (1835–1907) – знаменитый итальянский поэт-лирик.
[Закрыть]. Несколько человек прогуливались по камере. Некоторые спали.
– А ты что делаешь, бородач? – спросил меня тот, кто «пожалел» адвоката.
– Я? Курю трубку, как видишь.
– Я уже давно на тебя поглядываю и никак не могу понять, к какой категории тебя отнести.
– ??
– Конечно! На взломщика ты не похож, на карманника – еще меньше, на грабителя – и подавно. Может быть, ты прикончил любовницу или ошибочно обсчитал твоего хозяина?
Я молчал.
– Дубина! – сказал его приятель. – Не видишь разве, что это политический? Не правда ли? – обратился он ко мне.
Я, не вынимая трубки изо рта, кивнул в знак согласия.
Громадный парень, настоящий Геркулес, до сих пор читавший обрывок газеты, вскочил с нар и бросился ко мне.
– Ты кто: анархист, социалист, коммунист?
– Коммунист.
Геркулес чуть не задушил меня в объятиях.
– Я тоже коммунист! Я из Масса. Знаю Биболотти[85]85
Биболотти, Алодино – коммунист, бывший секретарь коммунистической федерации в Масса-Карраре (Тоскана). Несколько раз был избит и ранен фашистами, которые сожгли его дом и изгнали его из Тосканы. Впоследствии был приговорен к восемнадцати годам каторги. Умер в 1951 г.
[Закрыть] и других… Ты их знаешь?
– Знаю всех, – ответил я.
Обрадованный, с сияющими детскими глазами, он уселся рядом со мной. Он закидал меня вопросами, когда узнал, что я обвиняюсь по «Римскому процессу». По характеру его вопросов чувствовался настоящий товарищ. Я рассказал ему о России, о Ленине, о Советах, о фабриках, о Красной Армии. Последняя больше всего его интересовала. Потом он рассказал о себе:
– Я, знаешь, не умею говорить, но я не горюю, долг свой сумею выполнить, можешь спросить у Биболотти. Бедняга Биболотти! Я видел его, его жену и ребенка на улице перед горящим домом, «Грязные рубахи» – знаешь, у нас «чернорубашечников» прозвали так – подожгли его дом! Этого я не забуду… Он был ранен, ребенок плакал… порка мадонна, сколько их избил я в эту ночь!.. Когда палка сломалась, я перешел вот на это! – И Геркулес, тяжело переводя дыхание, показал мне невероятные кулаки. – Потом, понятно, пришлось удирать!
Он замолчал. Слушавшие с восхищением смотрели на него.
– Как паршивая собака, прятался от людей, – снова начал он, успокоившись. – Я всегда, бывало, ходил на собрания с Биболотти. Как он хорошо говорил! И так просто… Я все понимал, но сказать, – палач господь! – не сумел бы… Как-то раз он говорил в деревне. Несколько фашистов прерывали его, мешали слушать. Я взял их вот этак, – и Геркулес осторожно потряс двух слушателей, – они и перестали. После той ночи, когда они поджигали в Масса, я так вот и скитался. Только раз ночью пробрался к матери (бедная мама!), чтобы взять белья. Фашисты пронюхали и окружили дом. Я, чтобы не убили мать, решил бежать. Выскочил из окошка и, отстреливаясь, прорвал цепь. Двое из них упали. В меня тоже стреляли, да не попали.
Он снова замолчал.
Уголовные, привыкшие ко всякого рода переживаниям, слушали с глубоким интересом. Вошел обычный дозор, постучали по решеткам с особым ритмом – недаром же мы музыкальная нация, – проверяя, не подпилены ли они, порылись в тюфяках, пересчитали присутствующих и не досчитались одного.
– Одного не хватает! – крикнул надзиратель. – Пересчитать!
Пересчитали – не хватало двоих. Тревога!
– Как решетка, в порядке? – обратился надзиратель к музицировавшему сторожу.
– Так точно, синьор!
Снова пересчитали. На этот раз счет сошелся. Оказалось, что двое решили нарочно подразнить надзирателя и путали счет.
Когда дозор ушел, арестанты окружили Геркулеса.
– Теперь можешь продолжать, Тибурци[86]86
Тибурци – легендарный разбойник, пользовавшийся большой популярностью в Италии.
[Закрыть].
– Тибурци? – печально усмехнулся парень. – А ведь вправду, фашисты прозвали меня Тибурци. Ты угадал… Ну и гонялись же они за мной по всей Тоскане! Потом я из газет узнал, что они подожгли мой дом и арестовали отца и двух моих братьев, совсем еще мальчиков. Мать умерла.
Он помолчал, склонив голову, и все смолкли вместе с ним. Потом отпил воды и продолжал.
– Но наш день придет! Не правда ли? – обратился он ко мне. – Я верю: придет. И тогда мы посчитаемся. Я ушел из Тосканы, пробирался к границе. Товарищи мне помогали. Так я добрался до Триеста. Надо было перейти границу во что бы то ни стало: я ведь тогда ночью убил фашиста, и за меня была назначена награда… как за Тибурци. Раз вечером в Триесте я зашел в трактир поесть. Как всегда, разговоры, споры за и против фашистов. Я молчал. Так мне наказывали: ведь надо было переходить границу. Чтобы уйти от искушения, я торопился доесть обед. В этот момент в трактир вломилась шайка фашистов с дубинками в руках, накинулась на рабочего, который тоже обедал, как и я, в уголке, и давай его избивать! Я не взвидел света, забыл про осторожность, схватил что под руку подвернулось – и на них. Троих из них уложил, а тут кто-то выстрелил. Выстрелил и я, чтобы проложить себе дорогу, и выбрался было из трактира, но на улице они меня все же подстрелили. Я был ранен в ногу, идти было трудно. Тогда я обернулся к ним, решил: лучше встречу лицом к лицу… Они тоже остановились. Я им тогда крикнул: «Собаки, подходи поближе!» Их было двое (прочие остались на месте). Трусы! И они стали стрелять в воздух, чтобы привлечь своих. Кругом – ни души. Окна и двери в домах заперты. Деваться некуда. На выстрелы прибежали карабинеры, тоже двое. Я стал к стене, решил дорого продать свою шкуру. Фашисты теперь осмелели, снова стали стрелять и кричать: «Арестуйте его! Это коммунист! Он стреляет!» Я на выстрел всегда отвечаю выстрелом. Одного уложил. Меня тоже ранили, я упал… Все же я боролся… Но подоспели другие, и… и вот я здесь…
Он снова замолчал.
Мертвая тишина была во всей огромной камере. Потом он опять заговорил:
– Один из фашистов был убит, другие ранены. Теперь меня пересылают в Масса на процесс – это за первого убитого, потом отправят в Триест, за другого. Мне наплевать на их суд. Я знаю, что, суди меня товарищи, они меня виновным не признали бы.
Он окончательно смолк.
Арестанты медленно и бесшумно разошлись по своим нарам. Тибурци перебрался на соседние со мной нары, и мы проговорили с ним почти всю ночь.
Через несколько дней мы расстались. Его повезли в Масса, нас направили в Анкону. Мы крепко обнялись на прощание.
Снова канцелярия, фургон, тюремный вагон… В фургоне сидящий рядом со мной арестант подмигивает мне и, указывая на свой сверток под мышкой, довольный, сообщает:
– Я его все-таки спер! Таких одеял, как в Болонье, нигде не найдешь. Ловко! Никто не догадался.
– Да зачем тебе одеяло? – поинтересовался я.
– Как зачем? Я из него нашью туфель арестованным… за табак и стаканчик вина. Семь лет долго тянутся, надо промышлять, – смеялся он.
В Анконе после болонского простора было особенно скверно. Тесная, невообразимо грязная камера, полчища насекомых. В углу монотонный голос вслух читает молитву:
– «Богородица дева, радуйся, благодатная…»
– Если ты не перестанешь – будь проклят ты и твоя благодатная Мария, – я тебе на голову парашу надену! – слышится чей-то раздраженный голос.
– Почему мне нельзя молиться? Ты тоже должен бы помолиться, в молитве найдешь утешение; все мы грешники, – заныл голос в темноте.
– Ты, может быть, и грешник, а я вор! – гордо ответил возражавший против молитвы. – Вор, и не стыжусь этого. Я краду, но краду у тех, у кого много. Пока будут люди, которые не работают и имеют деньги, дома, автомобили и катаются то к морю, то в горы, до тех пор и я не буду работать, буду красть, черт побери тебя и твою святую деву! Если идет все хорошо, тогда веселимся: отели, первоклассные рестораны, прекрасные женщины; плохо – хлеб, картошка, тюрьма… Я – вот! А ты что сделал? Небось, нагрешил, сын блудной девки!
– Я уже покаялся в грехах… Искупаю свою вину в тиши.
– Если бы в тиши! А то молишься вслух! Почему ты не хочешь сказать, за что ты здесь? Ну, выкладывай, а не то я подумаю, что ты…
– Правильно, пусть говорит! – раздались голоса прочих арестантов, заинтересовавшихся диалогом.
Старик молчал.
– Ну же, старая «падаль»!.. – настаивал вор.
– Никогда я не был «падалью», можете спросить у Джиджетто. Мы с ним вместе просидели два года в Салюццо, он знает, я никогда не был «падалью»!
– Правильно, синьоры, – подтвердил Джиджетто.
– Ты сговорился с ним, – протестовал вор. – Как это так: жили два года вместе, и ты не знаешь, за что он посажен?
– Виноват, – ответил Джиджетто, – я знаю, в чем дело, но обещал ему не говорить об этом. Но так как я человек чести и знаю правила порядочных людей, то могу сообщить это почтенному собранию, раз старик сам не говорит.
– А я еще купил тебе две пачки папирос! – плачущим голосом произнес старик.
– В случае если Джиджетто скажет, он этим оправдает себя. Говори, старик! В противном случае слово имеет Джиджетто, – наставительно изрек вор.
Несколько минут молчания. Джиджетто поднялся и заявил, обращаясь в угол, где лежал старик:
– Пасквале, я должен говорить во имя чести! Итак, этот человек, – он протянул руку по направлению к старику, – совершил одно из самых гнусных преступлений! Он изнасиловал девочку восьми лет, свою племянницу.
– Она сама захотела, – сказал Пасквале.
Хор ругательств и насмешек покрыл голос старика.
– Так вот почему ты не хотел говорить, старая свинья. И у тебя еще хватает смелости молиться! Прошу почтенное собрание объявить этого человека вне законов чести! Кто против этого?
Ни один голос не поднялся в защиту Пасквале.
– А теперь, – обратился к нему вор, – если я еще услышу твой голос, старая свинья, я тебя обработаю к праздничку! Смеет еще поминать святую деву и свою несчастную жертву!..
На прогулке меня ожидал приятный сюрприз.
Маршируя в паре со специалистом по железнодорожным кражам, я, к великому своему удивлению, услыхал, как меня назвали Меднобородым. Звавший был тюремный сторож, оказавшийся одним из клиентов моей парикмахерской.
– Что вы здесь делаете? – спросил он меня приветливо.
– Прогуливаюсь, – ответил я.
– Проездом, не так ли? И, конечно, за политические дела?
Я отвечал утвердительно.
Сторож подошел к решетке, отделявшей место для прогулок, и сказал мне вполголоса:
– В четыре часа я сменяюсь и тогда пойду предупредить о вашем прибытии Комитет помощи политическим заключенным. Куда вас направляют?
– В Рим, полагаю, на процесс.
– Это хорошо, черт подери! У меня в «Реджина чели»[87]87
«Реджина чели» («Царица небесная») – так называется главная тюрьма в Риме.
[Закрыть] имеется приятель. Я дам вам к нему записочку. Хороший парень, вы увидите. Вы мне тоже когда-нибудь дадите рекомендацию… когда будете депутатом. – И он засмеялся, довольный собственной остротой.
На следующий день я получил от комитета обед с записочкой, в которой было несколько строк приветствия от коммунистической секции. Не могу выразить, как тронул меня этот голос товарищей, от которых я был так долго оторван.
Я молча стоял перед присланной мне корзинкой, в сотый раз перечитывая записочку. Грубый голос сторожа призвал меня к действительности:
– Проверьте, все ли, и распишитесь!
В этот день я ел меньше обычного – содержимое корзинки я разделил между товарищами по заключению.
Через несколько дней мы двинулись дальше. На этот раз мы ехали по городу в открытом фургоне. Проезжая по одному из рабочих кварталов, я заметил, что многие из встречавшихся нам рабочих приветствовали наш фургон – кто рукой, кто помахивая шляпой… Я спросил у моих соседей, есть ли у них знакомые в Анконе. Знакомых у них не было.
– Может быть, они приветствуют карабинеров? – высказал предположение один из арестантов.
– Нет, – возразил начальник конвоя, – они приветствуют именно арестантов. Они знают, что через Анкону проходит много политических, и поэтому на всякий случай приветствуют каждый фургон.
Мы останавливались еще в Джулиа-Нова, в Кастелламаре-Адриатико, в Сульмона и к концу тридцать восьмого дня нашего отъезда из Турина прибыли в «Вечный город», прямехонько в «Царицу небесную».
Я был почти доволен. В этих краях – я это знал – находились мои товарищи: Гриеко, д’Онофрио и другие. И, кроме того, хоть на время оканчивалось мучительное путешествие.
Поздним вечером, почти ночью, меня отвели в камеру, в которой уже находились двое. Отдых был непродолжителен. На другой день после прогулки меня снова отправили на вокзал. Я протестовал, но напрасно.
– Вы поедете в Терамо, так как вас желает видеть тамошний прокурор.
И мы снова поехали с обычными остановками.
Расстояние меньше чем в сто километров я преодолел в четыре дня.
Глава XXXI
Терамо. У следователя
Вот и Терамо. Наконец-то «дома»! Тюрьма здесь помещается в старом монастыре. Бывшие кельи превращены в камеры. В одну из таких келий ввели меня поздней ночью. Прочие «жильцы» уже спали. Я тоже уснул. Наутро я осмотрелся. Камера скверная, «жильцы» еще хуже, самые подонки преступного мира. Один из них подошел ко мне и заявил:
– Начальник камеры желает говорить с тобой.
– Что это еще за начальник камеры? Не понимаю, – ответил я.
– Начальник камеры избирается нами. Он наш глава, и мы должны ему подчиняться во всем: ты должен ему покупать, что он тебе прикажет, должен за него убирать камеру. Если нет…
– Если нет? – перебил я, глядя на него в упор.
Разговаривающий со мной замялся, обернулся в сторону остальных, притворившихся не заинтересованными в нашем разговоре.
– Итак, если нет?.. – настаивал я.
– Таковы законы нашего общества, – ответил мой собеседник, делая какой-то таинственный знак рукою.
– Я не понимаю ваших знаков, но прекрасно понимаю, на что вы рассчитываете.
И я обернулся к остальным, сбившимся в кучу.
– Кто из вас начальник камеры?
Мне указали маленького, худенького арестанта, с лисьей мордочкой и пронзительными глазками.
– Послушайте, – обратился я к нему, – вы ошиблись: я не принадлежу к вашему почтенному обществу. Я – политический. У меня нет никакого намерения мешать вам, но я желаю, чтобы меня оставили в покое. Прошу вас это запомнить.
«Начальник камеры» почтительно ответил мне:
– Маэстро, будьте как у себя дома и считайте, что слова, которые вам сказал этот кретин, не были произнесены. Это осел, который сам не понимает того, что говорит; жму вашу руку и прошу считать нас в полном вашем распоряжении.
Мне пришлось пожать с дюжину рук, тотчас же протянувшихся ко мне. Должен сознаться, что впервые за все время моих многочисленных тюремных встреч я сделал это с чувством истинного отвращения. Окружавшие меня преступники могли бы служить для Ломброзо прекрасным материалом для изучения психологии преступности. Нигде, никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким.
Около полудня в камеру заглянул надзиратель.
– Вы вновь прибывший? – спросил он меня.
Я ответил утвердительно.
– Вас поместили сюда временно. Сегодня вечером или завтра утром вас переведут в четырнадцатый номер.
Дойдя до двери, он обернулся, очевидно передумав.
– Соберите ваши вещи. Уборщик, помогите ему перенести нары в четырнадцатый номер!
Когда мы были в коридоре, надзиратель сказал мне:
– Мой милый бородач, вас посадили в прескверную компанию! Эти выродки обвиняются в самых отвратительных преступлениях и продолжают заниматься гадостями даже в тюрьме, несмотря на самый строгий надзор.
– Зачем же вы их держите всех вместе? – спросил я.
Вместо ответа надзиратель только пожал плечами.
В камере № 14 знали, что придет новый, и ожидали, выстроившись у самой двери. В монотонной жизни тюрьмы прибытие новичка – событие: он приносил вести с воли; а обо мне знали от сторожа, что я побывал в Стране Советов. Один из заключенных, симпатичный юноша, оказался товарищем, приговоренным к трем годам тюремного заключения за участие в забастовке в том городке, где он был муниципальным советником.
– Я знаю тебя по имени, – сказал он мне. – Тут тебе будет лучше; правда, политических, кроме меня, нет, но прочие – неплохие ребята, не из той сволочи, что в камере № 11.
С этим я согласился очень скоро. Мне помогли устроить нары, разложиться и затем потребовали рассказать о России. Все слушали меня с глубоким интересом, с волнением, хотя это были простые уголовные. Один из них убил двух лесных сторожей, другой – свою жену вместе с попом, который был одновременно ее дядюшкой и любовником; третий убил соблазнителя сестры. Из двадцати трех заключенных двое (включая меня) были политические, восемь сидели за «нарушение права собственности», остальные – за убийство.
Как водится, каждый рассказал мне свою историю. Один из них ожидал суда двадцать месяцев, другой – два года, третий – тридцать пять месяцев.
– Вы пишете в газете, – говорили они мне, – напишите о нас.
Я обещал.
Уже несколько месяцев я сидел, не зная официально причины ареста; я потребовал свидания с директором тюрьмы и получил его. Это был прелюбезнейший заика!
– Вы н-не прос-сидите дол-л-го, я эт-то з-наю. Чем м-могу с-служить?
– Я хотел бы поговорить с прокурором, – попросил я.
Он предложил мне написать заявление, после чего я ушел обратно в камеру.
Только что я устроился в новом жилище, как меня перевели в одиночку. Больше месяца меня продержали опять-таки без объяснений причин в строгой изоляции, даже на прогулке я никого не мог встретить. Прокурора я, конечно, не видел. Читал и перечитывал все, что можно было достать, но запас книг в тюрьме был небогат: библия, сонник, «Католические миссии в Конго», «Образцовый повар», «Прекрасная Магелона», «Собрание речей Криспи», «Граф Монте-Кристо» и тому подобное.
Каждый день я писал заявления, требуя допроса. Никакого ответа. Как-то я попросил грамматику русского языка. Мне принесли… немецкую! Просил, чтобы мне подстригли бороду, – отказали. Я тогда обратился к прокурору с этой просьбой и тоже получил отказ, мотивированный тем, что я не имею права «менять мои приметы».
Я обратился в «Министерство милости и правосудия»[88]88
Официальное название министерства юстиции.
[Закрыть], но не получил никакого ответа. Тогда я прибег к последнему средству, употреблявшемуся в подобных случаях: я разбил в камере все, что можно было разбить. На грохот вбежали сторожа, надзиратель, его помощники. Произошло бурное объяснение, в результате которого я очутился в карцере.
Карцер, обычно помещающийся в подвале, на тюремном языке называется «ямой». В сырой и холодной яме нет окна, нары заменены покатой доской без матраца, паек состоит из куска хлеба и кружки воды. Курить нельзя. Книги запрещены. Прогулка раз в два дня в течение часа.
На второй день я потребовал врача.
Врач прибыл и отправил меня в тюремный лазарет. Здесь ко мне явился заика директор, сообщил, что меня скоро вызовут на допрос, и оштрафовал за разбитые вещи на двадцать восемь лир.
Через два дня меня действительно вызвали на допрос.
В небольшом зале за столом восседали трое: королевский прокурор, следователь и секретарь.
– Вы такой-то? – задали мне стереотипный вопрос. – Садитесь.
Я сел.
– Прежде всего мы должны сообщить вам, что вы подвергнуты заключению по двум ордерам, из коих один дан генеральным прокурором апелляционного суда в Милане, а другой – королевским прокурором римского суда.
– От какого числа эти два ордера? – спросил я.
– Первый от шестого января, второй – от седьмого того же месяца текущего года.
– Я ставлю вас, синьоры, в известность, что теперь уже апрель; я протестую против подобной волокиты.
– Вы имеете на это право. Считаю нужным сообщить вам, что я даже не знал, что вы находитесь в Терамо. Я просил туринский трибунал допросить вас, а не прислать сюда.
– Час от часу не легче! – не выдержал я.
– Вы обвиняетесь, – начал прокурор, – в возбуждении классовой ненависти, в подстрекательстве к восстанию против государственного строя. За это вы будете отвечать перед миланским судом. Кроме того, вы обвиняетесь в принадлежности к преступному сообществу и в заговоре против общественной безопасности; за это будете отвечать уже перед римским трибуналом или – этот вопрос еще не решен – перед судом Терамо.
– Для меня это одно и то же, – заметил я.
– По первому делу, – начал торжественно прокурор, – у меня такие вопросы: вы подписали манифест о слиянии с социалистической партией? И вы принимали участие в конгрессе Коминтерна, имевшем место в России?
– Да. Я подписал манифест и был на конгрессе Коминтерна в России. Но что же общего между этими двумя фактами и заговором против государства?
– Вы, значит, признаете это? – в один голос воскликнули и прокурор и следователь.
– Да, да, признаю, но я хотел бы, чтобы вы, синьоры, ответили на мой вопрос.
– Секретарь, пишите! – И, обращаясь ко мне, прокурор попросил: – Будьте добры, повторите ваше показание.
Я повторил.
– Следовательно, вы признаете то, что написано в манифесте, а также и директивы Коминтерна? – спросил королевский прокурор.
– Да, конечно, – ответил я.
– Прокурор и следователь изумленно переглянулись, как бы не веря своим ушам. Они думали, что им придется много поработать, прежде чем я сознаюсь, поэтому и явились вдвоем на допрос.
– Должен заметить вам, синьоры, что принятие директив Коминтерна произошло свыше двух лет назад, то есть когда была основана Итальянская коммунистическая партия, – пояснил я.
Прокурор и следователь снова переглянулись.
– Но знаете ли вы, что значит подписать манифест и следовать директивам Коминтерна?
– Думаю, что знаю.
– Это очень серьезно.
– Почему? – спросил я.
– Хватит. По первому делу допрос окончен. Секретарь, зачитайте показания.
Секретарь зачитал. Я подписал протокол.
– Теперь по второму делу. Вы являетесь членом Итальянской коммунистической партии?
– Нельзя быть делегатом на конгрессе Коммунистического Интернационала, не будучи членом одной из секций, входящих в состав Коммунистического Интернационала. Я член Итальянской коммунистической партии со дня основания.
– Теперь мы должны представить вам некоторые документы, конфискованные у вашего товарища – Презутти.
– Я мог бы заметить вам, что не отвечаю за материал, конфискованный у другого.
Прокурор и следователь переглянулись с некоторым замешательством.
– Знаком ли вам этот документ и принимаете ли вы на себя ответственность за него? – Прокурор торжественно протянул мне… программу Итальянской коммунистической партии.
– Знаком. Ответственность признаю. Но опять-таки должен заметить вам, синьоры, что год назад этот документ был опубликован на страницах наших газет, и за него тогда никто не был арестован. Чтобы покончить с этим, могу заявить сразу, что принимаю на себя ответственность за все подобные «документы», конфискованные у моего товарища, потрудитесь только перечислить их в протоколе. Уже без четверти двенадцать: вы опоздаете к обеду, а я буду есть мою похлебку холодной. Предлагаю на этом закончить.
Никогда мне не приходилось видеть таких изумленных лиц, как у этих чиновников.
– Что за типы вы, коммунисты! – воскликнул следователь.
– Если вы нуждаетесь в чем-либо… – предложил любезно прокурор.
– Я нуждаюсь только в одном: поскорее занять мое место в рядах партии, – ответил я им, подписывая протокол.
Меня отвели обратно в лазарет, а оттуда через два часа – в камеру № 14, обитатели которой встретили меня с радостью.
– Маэстро, – обратился ко мне сосед по нарам, вы умеете писать в газеты, помните вы ваши обещания?
– Великолепно помню, но как это выполнить?
– Мы сегодня раздобыли все необходимое. Все уже приготовлено. Один из сторожей отнесет написанное на почту. Мы уже заручились его обещанием. Вам придется о многом писать здесь.
Они показали мне чернильницу – кусок яичной скорлупы, наполненной чернилами. Ручку заменяла деревянная ложка, с прикрепленным к рукоятке пером. Достали и бумагу. В тот же день я написал первую тюремную корреспонденцию в «Лавораторе», единственную уцелевшую нашу газету в Триесте.
В центре камеры имелся столб, поддерживавший потолок. Я писал, сидя на полу, прислонившись к этому столбу. Некоторые из арестантов стояли вокруг меня, другие держались поодаль, притворяясь мирно беседующими, а один из них сторожил у дверей. Вечером корреспонденция была отослана. Через несколько дней нам удалось раздобыть номер «Лавораторе» с напечатанной корреспонденцией. С этой поры установилось регулярное наше общение с газетой. Эта работа была не только полезна моим товарищам по заключению, но и доставляла мне огромное удовлетворение. Мне казалось, что я снова возвратился после стольких месяцев перерыва к прежней жизни.
Однажды вызвали меня к следователю. На этот раз он был один. Он сообщил мне, что мое дело в миланском суде прекращено.
– Я мог бы послать вам извещение об этом через сторожа, – сказал он мне, – но предпочел вызвать вас сюда… чтобы поболтать немного с вами, если вам это не очень неприятно…
Я ничего не ответил. Он продолжал:
– Скажите, пожалуйста, вы видели Ленина?
Этот вопрос меня не удивил: сколько различных людей задавали его мне с тех пор, как я вернулся из Страны Советов.
– Да, – ответил я, – я видел Ленина, я слышал Ленина, я разговаривал с Лениным однажды вечером у него дома.
Следователь казался пораженным.
– Ленин – великий человек, – наконец сказал он, – и, оказывается, такой доступный? На каком языке вы говорили с ним?
– По-французски. Он знает немного и по-итальянски, говорит по-немецки, понимает английский.
Следователь забросал меня самыми разнообразными вопросами.
– А вы сколько языков знаете? – спросил он меня наконец.
– Несколько, – туманно отвечал я, с интересом наблюдая физиономию любопытствующего следователя, – я выучился им в парикмахерской между стрижкой и бритьем.
– Знаете ли вы, что на днях решается вопрос о вашем процессе? Завязалась борьба между апелляционным судом Аквила, которому подчинены мы, и Римом. Римские юристы хотели бы устроить процесс у себя. Вы понимаете, громкий процесс: конечно, будут знаменитые адвокаты… Идет соперничество.
В этот момент постучали в дверь.
– Войдите! – недовольно закричал следователь.
На пороге показался королевский прокурор. Лицо следователя мгновенно приняло почтительное выражение; он был порядком смущен:
– Милости просим, синьор командор! Я вот тут как раз занят с подследственным разъяснением некоторых пунктов… И, обращаясь ко мне, как будто продолжая расследование, спросил:
– Вам знакомы те статьи Уложения о наказаниях, по которым вы обвиняетесь?
– Да, это те самые, по которым несколько лет назад привлекался к суду нынешний председатель совета министров Муссолини.
– Прошу не касаться его превосходительства Муссолини! – оборвал следователь.
– Я коснулся его только для того, чтобы показать вам, что я действительно знаком со статьями, по которым теперь привлекают меня.
Королевский прокурор промолчал.
– Вы видели, синьор командор, – залебезил перед ним следователь, – сообщение о прекращении дела по миланскому процессу? Что вы скажете об этом?
– Скажу, что я не хотел бы быть на месте тамошнего следователя. – И он, иронически поглядев на меня, повернулся и вышел. Несколько секунд длилось молчание.
– В конце концов, – заговорил я, – непонятно, почему продолжается эта комедия…
– Какая комедия? – прервал меня следователь, находившийся еще под впечатлением замечания прокурора. Он нервно зажег папиросу и повторил: – Какая комедия?
– Комедия следствия по нашему процессу, – ответил я и, вынув из кармана кусок газеты, прочитал: «Не должно быть никаких дискуссий по вопросам внутренней политики. То, что происходит, происходит согласно моей воле и соответственно моим приказам, ответственность за которые я принимаю на себя… Не важно знать, существует заговор или нет». Муссолини сказал это в палате депутатов по поводу нашего ареста. Затем он добавил: «Посидят в тюрьме некоторое время, а затем я их отправлю в Россию!» Это значит, синьор следователь, что юстиции незачем заниматься нами!








