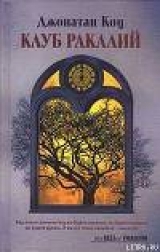
Текст книги "Клуб Ракалий"
Автор книги: Джонатан Коу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Они обменялись рукопожатиями и разошлись. Машины их стояли в разных концах парковки. Колин неодобрительно фыркал и даже позволил себе произнести несколько умеренно бранных слов, пока боролся с замком своей коричневой «Остин 1800», с заедающим запором, который несколько лет назад сам же и спроектировал, да еще и с такой самоуверенностью.
3По средам, после полудня, урок английской литературы был спаренный и вел его валлиец по имени мистер Флетчер, глотавший слова, так что понять его можно было с немалым трудом. Говорил он с сильным акцентом и состоял у учеников на подозрении в алкоголизме. Большинство мальчиков мистера Флетчера побаивалось, поскольку, выходя из себя, он начинал орать, а из себя он выходил на каждом уроке, иногда по два, а то и по три или четыре раза. Единственным, кто, похоже, нисколько его не страшился, был Гардинг. С другой стороны, все – и в особенности Бен – давно уж терялись в догадках насчет того, что вообще может напугать Гардинга.
Сдвоенные уроки – штука особенная. Когда после первых сорока минут бьет колокол, тебе остается только сидеть где сидел, как будто ты ничего и не слышал. Чаще всего учитель продолжает говорить, словно подчеркивая, что ничего не произошло, минула половина срока, вот и все, однако удержать внимание мальчиков на те несколько минут, в которые коридоры за дверью наполняются гулом от ударов сотен юных ног, перебегающих из одних классов в другие, бывает сложно. Но понемногу стук шагов и хлопки дверей стихают, вновь воцаряется тишина, и тебе уже нечем извинить себя за то, что ты не слушаешь ввергающие в дурноту спады и подъемы укачливого, монотонного голоса мистера Флетчера.
– Шедевр, Спинкс, истинный шедевр, – говорил он в спины трех возвращающихся на свои места мальчиков.
Сарказм, нимало не смягченный шутливостью или игривостью интонации, был закоснелой особенностью умственного склада Флетчера, как и большинства пожилых преподавателей «КингУильямс».
– Когда Голливуд приступит к неизбежной экранизации «Над пропастью во ржи», вам несомненно предложат роль Холдена Колфилда. Вы годитесь для нее в совершенстве, даже бирмингемский акцент ваш в дело пойдет. Питеру Фонда останется только локти кусать. Ну хорошо, – он повысил голос, дабы приглушить взрыв смеха, которого, впрочем, не последовало, – кто следующий? Тракаллей, Гардинг, Андертон, Чейз. Звучит как название юридической конторы. Стряпчие и комиссары по приведению к присяге. Что вы имеете нам предложить?
Трое из названных встали (Гардинг несколько минут назад отпросился в уборную и должен был вот-вот вернуться); Филип Чейз, неофициальный их представитель, объявил:
– Мы покажем сцену суда из «Убить пересмешника», сэр. Инсценировка сделана нами с Тракаллеем.
– Мной, Чейз. Мной и Тракаллеем.
– Да, сэр. Я играю Аттикуса Финча, ответчика. -Адвоката ответчика, а не ответчика.
– Да. Простите, сэр. Андертон исполняет роль мистера Гилмера, э-э… обвинителя. Тракаллей сыграет судью Тейлора, а Гардинг…
В это мгновение дверь класса распахнулась и в него вступил Гардинг, немедля вызвавший взрыв упоенного хохота.
– …Гардинг играет Тома Робинсона, сэр. Пояснение было излишним, поскольку грим Гардинга говорил сам за себя. Лицо его стало более или менее неузнаваемым под гротескным слоем темно-синих чернил. Должно быть, уходя в уборную, он спрятал пузырек в карман. Эффекта Гардинг достиг поразительного – не в малой мере благодаря оставленным им вокруг глаз кружкам прозрачной белизны, а также тому, что нос он почему-то чернилами мазать не стал и теперь тот нелепо выделялся на лице Гардинга подобием маленького белого знака препинания.
Одноклассники его впали в неистовство. Дискантовый хохот раскатывался над классом, отражаясь рикошетом от стен, обращая его в птичий двор в час кормежки, а примерно через тридцать оглушающих секунд хохот этот сменился чем-то вроде шквала пулеметного огня – двадцать два мальчика в буйстве одобрения застучали крышками парт. Флетчер, не улыбаясь, ждал окончания шума, терпение его лопнуло, лишь когда Гардинг, отбросив напускную невозмутимость, оседлал волну всеобщего восторга и начал расхаживать взад-вперед вдоль классной доски, хлопая себя по ляжкам растопыренными ладонями и изображая участников еженедельных телеконцертов «Черные и белые исполнители негритянской музыки». Тут уж учитель поднялся на ноги и повелительно пристукнул по столу:
– Тишина!
Несколько позже, посовещавшись на автобусной остановке, Чейз, Тракаллей и Андертон сошлись на том, что затея их друга была, вероятно, наиглупейшей и соглашаться на подобную эскападу Гардинга им не следовало. Шуточка вышла боком им всем – теперь каждый должен был накатать по двенадцать страниц на тему «расовые стереотипы», каковые страницы надлежало завтра в девять утра засунуть во Флетчеров почтовый ящик. Для Бенжамена, известного тем, что он до сей поры ни единого наказания не получил, это было особым унижением. Что до самого Гардинга, ему, как того и следовало ожидать, придется по окончании субботних уроков проторчать несколько часов в школе. Сейчас он дожидался в кругу почитателей автобуса на противоположной остановке (Гардинг жил на севере Бирмингема, в Саттон-Колдфилд). Лицо его еще сохраняло след пережитого приключения – призрачный оттенок океанской синевы. По меньшей мере половину его свиты, отметил Бенжамен, составляли девочки. Женская школа «Кинг-Уильямс» стояла на одной территории с мужским ее эквивалентом, и хотя официальных контактов между ними почти не существовало – во всяком случае, до шестого класса, – в автобусах, развозивших школьников и школьниц по домам, неизбежно складывались отчасти нервические, увлекательные, запанибратские отношения, так что Гардинг давно уже не испытывал недостатка в воздыхательницах. Сейчас он выглядел победительно непокорным, купавшимся в лучах своей все разраставшейся дурной славы.
Бенжамен и его друзья завидовали Гардингу дико. Девочки из автобусной очереди, в которой стояли они, разговаривали только между собой, – быть может, и бросая время от времени насмешливые взгляды в их сторону, но в остальном оставаясь безразличными до враждебности. Лоис, разумеется, и в голову не приходило заговаривать с братом – даже при том, что разделяло их всего несколько футов. Требовательная любовь, отличавшая их домашние отношения, в присутствии школьных друзей скукоживалась до размеров неказистой стеснительности. Уже и в прозвище «Ракалии», закрепившемся за ними, когда кому-то стукнуло в голову, что имена их можно произносить как «Бент Ракалия» и «Лист Ракалия», хорошего было мало. Еще пуще усугубляло их положение то, что Бену до сих пор приходилось носить школьную форму, между тем как шестиклассница Лоис, состоявшая в более либеральной женской школе, могла одеваться как ей заблагорассудится. (Сегодня на Лоис было длинное синее, с плотным белым меховым воротником, пальто из хлопчатобумажной ткани поверх акрилового свитера с высоким воротом и расклешенных, хлопчатобумажных же, брючек с вышивкой.) Непонятно почему, но это создавало еще один, и самый прочный, барьер между ними, так что о нормальном общении, пока они не окажутся в не доступном никому другому уединении семейной гостиной, и речи идти не могло.
– А вам, ребятки, придется нынче вечером попотеть, верно? – произнес за их спиной сочный, сломавшийся раньше времени голос.
Обернувшись, они увидели общего своего врага, Калпеппера, капитана младшей сборной по регби, капитана младшей сборной по крикету, будущего чемпиона и давний предмет их укромных насмешек. Как и всегда, учебники его и спортивное снаряжение были напиханы в одну большую сумку, из которой торчала, точно преждевременно напрягшийся пенис, ручка ракетки для сквоша.
– По двенадцать страниц на брата, не так ли? До ночи прокукуете.
– Отвали, Калпеппер, – сказал Андертон.
– О-о! – в насмешливом восхищении задохнулся тот. – Весьма остро. На редкость находчивый ответ.
– И вообще, это была всего-навсего шутка, – заметил Бен. И прибавил: – Ты и сам хохотал заодно со всеми.
– Вам винить некого, только себя, – изрек Калпеппер, протирая стекла своих массивных, в роговой оправе, очков и тем самым обнаруживая, ко всеобщему изумлению, что даже носовые платки его украшены нашивками с именем. – Флетчер – старый олух, либеральный до опупения. И изображать ниггера он никому никогда не позволит.
– Плохое слово, – сказал Чейз. – И тебе это известно.
– Какое – «ниггер»? – уточнил Калпеппер, наслаждаясь произведенным этим словечком эффектом. – Это почему же? Оно и в книге есть. Сам Харпер Ли его использует.
– У него оно используется совсем иначе, ты сам знаешь.
– Да ладно тебе. Негритос, черномазый. – И, поскольку провокация не удалась, Калпеппер добавил: – Дерьмовая, кстати, книжка-то. Не понимаю, зачем нам ее вообще было читать. Не верю я в ней ни единому слову. Сплошная пропаганда.
– Ни ты, ни мнения твои никому не интересны, – отрезал Андертон, и в подтверждение сказанного вся троица отвернулась от Калпеппера и стеснилась еще плотнее.
Разговор, как обычно, перешел на музыку. Андертон, в последнее время тративший все карманные деньги на пластинки, только что купил пластинку «На мели» группы «Рокси Мьюзик». И пытался теперь навязать ее Чейзу, уверяя, что любимые Филипом альбомы задрипанного «Генезиса» и в подметки ей не годятся. Бенжамен слушал их вполуха. Обе группы оставляли его равнодушным, как и кассета Эрика Клэптона, которую родители подарили ему на день рождения. Рок-музыку он перерос, нужно искать что-то другое… А кроме того, на автобусной остановке на той стороне улицы происходило нечто, весьма и весьма отвлекавшее его внимание. Теперь Гардинг, похоже, разговаривал – невероятно, но факт: действительно разговаривал – с Сисили Бойд, стройной богиней, возглавлявшей младшую группу Театрального общества женской школы. Ну что же это такое, в самом-то деле? О ее неприступности ходят легенды, и вот, пожалуйста: стоит, округлив глаза, приоткрыв рот, и слушает Гардинга, в красках описывающего ключевые исторические моменты учиненного им безобразия. А через минуту изумленный и зачарованный Бен увидел нечто и вовсе непостижимое – она лизнула палец и провела им по щеке Гардинга, пытаясь стереть чернильный след.
– Вы только гляньте, – сказал Бен, подтолкнув друзей локтями.
Музыкальные препирательства были мигом забыты.
– Черт подери…
– О дьявол…
Даже Андертон, обладавший более доскональными, нежели у прочих, познаниями о сексе, лишился слов, глядя, как Гардинг с небрежностью срывает именно этот куш. Что им оставалось делать? Только таращиться в изумлении – вплоть до появления 62-го автобуса, на второй ярус которого они, без конца оглядываясь в мечтательной тоске, и взобрались.
– Да уж, наглости ему не занимать, – высказался Чейз, когда автобус пришел в раскачливое движение и наполнился гомоном школьной болтовни. – Идея-то была его. И что теперь: нам намылили шею, а ему досталась вся слава?
– Да и идея-то дерьмовая, – отозвался Андертон. – Я это с самого начала говорил. Вот никогда вы меня, люди, не слушаете. Есть только один человек, которому разрешили бы сыграть эту роль, – Ричардс.
– Он же не из нашего класса.
– Вот именно. Потому нам и не стоило в это ввязываться.
Ричардс был единственным среди их одногодков чернокожим учеником – собственно, единственным на всю школу. Высокий, мускулистый, немного меланхоличный афро-караиб, он жил в пригороде Хэндсуорта и в «Кинг-Уильямс» был новичком, поступившим прямо в старший третий «Д». Кстати сказать, Ричардсом его один только Андертон и называл. Прочие девяносто пять однокашников Ричардса предпочитали прозвище «Дядя Том».
– Мы столько времени угробили на репетиции, – пожаловался Чейз, – а он нам даже показать ничего не дал.
– Такова жизнь.
Автобус протиснулся сквозь поток машин, идущих по Селли-Оук, и покатил по более свободной и зеленой Бристоль-роуд-Саут. Первой, как раз перед Нортфилдом, была остановка Чейза, и когда он поднялся, чтобы сойти с автобуса, случилось нечто странное. Сидевшая за ними девочка – все они видели ее прежде несчетное множество раз и, однако же, едва замечали – стала спускаться за Чейзом по лестнице, но перед тем, как выйти, метнула взгляд, направленный, тут сомневаться не приходилось, на Бенжамена. Красноречивый такой взгляд, посланный искоса, украдкой, но и не сказать чтобы скользнувший по нему мимолетом. Глаза девочки, выглядывавшие из-под непослушной темной челки, задержались на Бенжамене секунды на две-три, словно оценивая его, а затем полные губы ее сложились в очевидный намек на улыбку. Спустя пару лет Бенжамен назвал бы эту улыбку кокетливой. Сейчас же она просто ошеломила его, вызвав буйный всплеск самых разноречивых чувств, от которых он буквально прирос к месту. Прежде чем Бенжамен успел хоть как-то ответить на взгляд девочки, она исчезла.
– Кто это? – спросил он.
– Ее фамилия Ньюман, что-то в этом роде. Клэр Ньюман, по-моему. А что, понравилась?
Бенжамен не ответил. Он лишь с любопытством смотрел в окно, наблюдая, как Чейз плетется за девочкой по Сент-Лоуренс-роуд. Выступал Чейз с неестественной неторопливостью, – быть может, потому, что стеснялся девочку обогнать. Трудно было вообразить в этот миг, что наступит время, когда они подружатся и даже станут – ненадолго и неудачно – мужем и женой.
Девочку и вправду звали Клэр Ньюман, а еще у нее имелась старшая сестра, Мириам, работавшая машинисткой на фабрике компании «Бритиш Лейланд» в Лонгбридже.
Вернувшись в тот день домой, Клэр обнаружила, что дом пуст, и открыла дверь спрятанным в стоявшей у заднего крыльца лейке ключом. Мать, отец, сестра – все были еще на работе. Клэр плюхнула на кухонный стол школьную сумку, достала из банки несколько сливочных крекеров, намазала их маслом и мясным паштетом, сложила на тарелку и поднялась наверх. Прежде чем войти в комнату сестры, она немного помедлила на площадке. В доме тишина и покой. Самая что ни на есть подходящая обстановка для совершения недоброго дела.
Дневник свой Мириам держала под комодом – вместе с мужской рубашкой из лилового нейлона, предположительно обладавшей для нее некой никому другому не ведомой сентиментальной ценностью, и внушительным запасом противозачаточных таблеток. Клэр уже две недели как обнаружила этот клад и была теперь хорошо осведомлена о сестриной личной жизни, ставшей в последнее время до крайности увлекательной. Она вытащила дневник, пристроила тарелку на пол и уселась, скрестив ноги, с ней рядом. А затем, полная нетерпения, пролистала дневник до самой последней из исписанных страниц, одновременно слизывая с пальцев мясной паштет.
Глаза Клэр пробежались по новейшей записи, и запись эта ее разочаровала. Выходит, никакого прогресса: нынешний amour Мириам застрял на стадии фантазий. Но хотя бы подробности стали более красочными.
20 ноября
Вчера вечером присутствовала в Юнион-Холл на очередном заседании правления Благотворительного фонда. Все те же люди (включая Вонючего Виктора). На этот раз мистер Андертон не председательствовал, а сидел напротив меня. Я, как всегда, вела протокол. Он все посматривал в мою сторону, как и прежде, и я отвечала на его взгляды. Яснее ясного было, о чем он думает, я только изумляюсь, что никто ничего не заметил. Он, по-моему, довольно старый, но такой привлекательный, я никак не могла сосредоточиться и, наверное, пропустила половину того, что там говорилось. Я правда, правда хочу, чтобы он лабе меня, и знаю, он тоже этого хочет. Большую часть прошлой ночи я только и думала, какими способами он мог бы меня табе и что бы я при этом испытывала. Все могло бы случиться на фабрике. Там куча разных мест, те же душевые, в которых мужчины моются после смены. Я воображала, как он доводит меня туда, задирает мою юбку и лижет мою удзип, пока я не кончаю. Надо придумать, как поговорить с ним, как добиться, чтобы он меня поимел. Это не должно быть сложно, ведь он хочет этого так же сильно, как я, если не сильнее. Вряд ли я сама сделаю первый шаг, да оно и неважно. Все должно произойти поскорее, иначе я похудею от мыслей о нем.
Внизу хлопнула дверь кухни. Клэр сунула дневник назад, в укрытие, вскочила на ноги. Скорее всего, это мама вернулась с работы, из юридической конторы. И наверное, заглянула по дороге домой в магазин. Надо помочь ей разобрать покупки.
Весна
4Несколько недель спустя, во второй половине пятницы 13 февраля 1974 года, на Лонгбриджской фабрике царили мир и покой. Бристоль-роуд, обыкновенно окаймленная в это время дня запаркованными машинами, была пуста. Ирен Андертон, возвращавшаяся после обхода магазинов с тяжелой корзинкой, наслаждалась этим странным покоем. Переложив корзинку из одной руки в другую, она помахала стоявшим у южных цехов пикетчикам, и кое-кто из них, узнав ее, помахал в ответ. Тихое чувство гордости охватило ее. Муж немало значил для этих людей, был их героем. Без него они тыкались бы, лишенные наставника, как слепые щенки. Ирен поднялась, миновав два ряда стандартных домов, на холм, к остановке 62-го автобуса. Путь до ее дома был неблизкий, но лезть в автобус не хотелось: нынешний день с его уютной, овеявшей все вокруг тишиной был намного приятнее прочих. Ты и не понимаешь, какой шум создает содрогающаяся весь день за забором фабрики сборочная линия; не замечаешь его, пока он не умолкнет.
Ирен остановилась у газетного киоска, купила номер «Ивнинг мейл» и быстро просмотрела его на скамейке Кофтон-парка, через который срезала путь к дому. Медлить не стоило – уже темнело, холодало. Минувшая зима была суровой. Билл в газете упоминался, однако фотография его отсутствовала – чего он, скорее всего, и хотел.
Когда Ирен добралась до дома, Билл сидел, обложившись документами, в столовой. Поблажки себе он, как водится, не давал. Вот за что она особенно не любила газеты: те вечно намекали, будто рабочие, объявив забастовку, прямиком отправляются в пабы или просиживают зады у телевизора, наблюдая за бегами. Как-то не помнила она Билла за такими занятиями. Глава Рабочего комитета, он вел постоянную битву с бумагами. И конца ей не предвиделось. По два-три раза в неделю Билл засиживался за полночь, с совещаний и митингов всегда возвращался поздно. Ирен не верила, что большинство профсоюзных боссов трудится так же тяжко. Да они и понятия не имеют, что такое настоящий труд. Правда, на конвейере Билл теперь почти не работает, однако никто его за это не корит. На нем лежит ответственность, огромная ответственность. Неудивительно, что он начал седеть, совсем немного – на висках.
Впрочем, мужчиной он все еще оставался привлекательным. Для своих без малого сорока Билл выглядел совсем неплохо.
– Чашку чая, любовь моя? – спросила Ирен, целуя мужа в лоб.
Билл распрямил спину, отбросил в сторону авторучку.
– С великим удовольствием. – И следом, указав на не прочитанную еще корреспонденцию: – Господи, это никогда не кончится.
– Ты справишься, – сказала Ирен, как всегда уверенная в муже и готовая помочь. – Дугги уже вернулся?
Билл скорчил гримасу: недовольство, смешанное со снисходительностью:
– С четверть часа назад. И прямым ходом наверх. Опять завернул в музыкальный магазин. Попытался втихаря протащить покупку, но я-то их пакет знаю.
И тут же, словно по знаку суфлера, сверху, из комнаты Дуга, пробилось какое-то буханье. Это был реггей, хотя ни Билл, ни Ирен не смогли бы его опознать. Собственно говоря, это был Боб Марли.
– Сейчас попрошу его увернуть звук. Нельзя же работать в таком шуме.
Ирен оставила Билла размышлять над письмом, которое он виновато убрал с глаз долой перед самым ее появлением. Без всякой на то нужды, если разобраться, – вороватость его диктовалась не столько содержанием письма, сколько более общим чувством вины, с такой готовностью нападавшим на него при любом упоминании о Мириам или при всякой мысли о ней. Как ни крути, а дело плохо. И все-таки: это изумительно податливое тело, эти груди, предлагаемые с такой нетерпеливой готовностью… Да она и была уже… девятой, так, что ли? Десятой? Хорошенький послужной список, за восемнадцать-то лет брака. Большинство имело касательство к фабрике – машинистки, швеи, ну и еще та, рыженькая, из столовой, бог ее знает, что с ней потом стало… Да, и, конечно, поездка в Италию, неделя на заводе «Фиат» в Турине, хитростью выбитая из Образовательной ассоциации рабочих, – девушка, с которой он познакомился в гостиничном баре, Паола, так ее звали, до чего же она была милая… Впрочем, в Мириам присутствовало нечто совсем иное, какая-то сила, делавшая связь с ней и лучшей и одновременно худшей из всех прочих, куда более скоропалительных. В каком-то смысле она пугала его. А в каком, он пока толком не разобрался.
Билл еще раз перечитал письмо, все с той же сдержанной досадой.
Дорогой брат Андертон!
Пишу Вам, чтобы принести жалобу на работу Мисс Ньюман в качестве секретаря Благотворительного комитета.
Мисс Ньюман – плохой секретарь. Она дурно выполняет свои обязанности.
Мисс Ньюман не хватает внимания. На заседаниях Благотворительного комитета нередко приходится видеть, как мысли ее блуждают неведомо где. Порой я думаю, что на уме у нее не исполнение обязанностей секретарши, а нечто совсем другое. Что именно, я предпочел бы здесь не указывать.
Я сделал немалое число важных замечаний, поделился многими наблюдениями, и все это благодаря мисс Ньюман в протоколы заседаний Благотворительного комитета не попало. То же можно сказать и о других его членах, но обо мне – в особенности. Я считаю, что выполнять свои обязанности она совершенно не способна.
Привлекая Ваше, брат Андертон, крайне необходимое в данном случае внимание к этому вопросу, я, со своей стороны, предлагаю в дальнейшем освободить Мисс Ньюман от обязанностей секретаря Благотворительного комитета. Продолжит ли она свою работу в машинописном бюро конструкторского отдела, это, разумеется, должна решать наша фирма. Не думаю, впрочем, что и машинистка из нее получилась хорошая.
С братским приветом,
Виктор Гиббс.
Билл отер лоб, зевнул; зевота нередко обозначала у него не столько усталость, сколько озабоченность. Вот только этого ему не хватало. Он вполне обошелся бы без этого проныры, лишь усложняющего ему жизнь своими измышлениями и ядовитыми экивоками. Что сделала Мириам, что сделали они оба, чтобы возбудить подобные подозрения? Ну разумеется – слишком часто обменивались улыбками, задерживали друг на друге взгляды на долю секунды дольше, чем следовало. Людям больше ничего и не требуется. Интересно, однако ж, что именно Гиббс, и никто иной, оказался тем, кто взял их на заметку.
Благотворительный комитет был создан для того, чтобы направлять некоторую часть средств Союза в помощь достойным того организациям, преимущественно школам и больницам; Виктор Гиббс состоял в нем казначеем. Он был бухгалтерским клерком, «белым воротничком», так что все эти его льстивые «брат Андертон» и «с братским приветом» представляли собой нечто большее, чем притворство, – на взгляд Билла, они граничили с оскорблением. Гиббс происходил из Южного Йоркшира, человеком он был кислым, неуживчивым, а что важнее всего, еще и растратчиком. Ныне Билл в этом почти не сомневался. Только так и можно объяснить происхождение загадочного чека, три месяца назад возвращенного банком, – чека, который он, Билл, хоть убей, не подписывал. Подпись его была подделана – довольно умело, этого нельзя не признать. С той поры Билл регулярно навещал банк – проверял комитетские чеки – и обнаружил еще три, выписанных на того же получателя: один за подписью председателя и два – Мириам. Опять-таки, подделки были неплохи, хотя саму эту махинацию тонкой никак не назовешь. Он только дивился: почему Гиббс решил, что она сойдет ему с рук? В любом случае, Билл радовался тому, что послушался инстинкта, подсказавшего ему, что с ходу ничего предпринимать не стоит, надо выждать благоприятный момент, накопить улики. Если Гиббс задумал поднять шум насчет Мириам, в лице Билла ему сочувственного слушателя не найти. Его злой умысел против него же и обратится, и заплатить ему придется с процентами.
Билл аккуратно спрятал письмо среди своих бумаг. До ответа он не снизойдет, однако и выбрасывать письмо не станет. Оно еще принесет пользу, в этом Билл не сомневался. А кроме того, он взял за правило не уничтожать никаких документов. Билл создавал архив, летопись классовой борьбы, в которой важна любая подробность и за которую его еще будут благодарить поколения ученых. Он уже надумал пожертвовать свой архив университетской библиотеке.
Музыка наверху утихла. До Билла донеслись голоса Ирен и Дуга; ничего серьезного, никакой ругани, обычный обмен легкими колкостями и насмешками. Тут все в порядке. Они отлично ладят, эти двое. Семья у него прочная, пока что. Правда, благодарить за это приходится не его…
Рядом со стопкой документов лежали на столе еще два, имеющих к ним некоторое отношение: клочок бумаги, обнаруженный им неделю назад на доске объявлений рабочей столовой, и неряшливо отпечатанная брошюра, ходившая в последнее время по рукам членов профсоюза.
Объявление гласило:
ВЧЕРА В МАНЧЕСТЕРЕ УБЛЮДКИ ИЗ ИРА УБИЛИ 12 ПАССАЖИРОВ АВТОБУСА. ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ РАБОТАТЬ С ИРЛАНДСКИМИ УБЛЮДКАМИ И УБИЙЦАМИ.
Брошюра же содержала последние излияния организации, именующей себя «Ассоциацией народа Британии» и стоявшей правее правой стенки, – организации более хлипкой и беспорядочной, чем даже «Национальный фронт». Биллу их пропаганда представлялась жалкой, его подмывало отправить брошюру, не заглянув в нее, в мусорную корзину. Однако ходили слухи, что именно эти люди стоят за недавним нападением в Кингз-Нортон на двух подростков-азиатов, которых нашли избитыми до полусмерти неподалеку от лавочки, торгующей рыбой с жареной картошкой. И Биллу не хотелось, чтобы подобного рода веяния распространились по фабрике. Поводов для вспышек насилия на большом предприятии и без того хватает. Так что оставлять подобного сорта материалы без внимания не следует.
Билл неохотно просмотрел начало брошюры.
Рабочие Британии! Проснитесь и объединитесь!
Вы рискуете лишиться работы. Вы рискуете своими семьями, своим укладом жизни.
Всему образу вашей жизни угрожают так, как никогда прежде.
Ни Хит, ни Вильсон,[3]3
Гарольд Вильсон (1916–1995) – премьер-министр Великобритании в 1964–1970 и 1974–1976 гг.
[Закрыть] ни Торп не обладают волей, способной остановить волну цветной эмиграции, которая затапливает нашу страну. Все они – рабы либерального истеблишмента и либерального мышления. Эти люди не просто терпят черных, на самом деле они считают их стоящими выше коренных англичан. Они хотят широко распахнуть ворота нашей страны перед черными, им наплевать на работу и на семьи белых англичан, которые в результате будут неизбежно утрачены.Оглянитесь вокруг себя на ваших рабочих местах – и вы увидите, что число черных там возросло десятикратно. Вам велят работать с ними рядом, но, заметьте, ВЕЛЯТ, а не ПРОСЯТ.
Если это случилось также и с вами, вам будет интересно узнать о некоторых научных ФАКТАХ:
1. Черный человек не так умен, как белый. Генетически его мозг развит намного хуже. И потому как же может он выполнять одну работу с белым?
2. Черный человек ленивее белого. Спросите себя, почему Британская империя покорила африканцев и индийцев, а не наоборот? Потому что белая раса превосходит все прочие трудолюбием и разумностью. Научный ФАКТ.
3. Черный человек нечист. И тем не менее вас просят делить с ним ваше рабочее место, возможно, питаться в одной столовой, возможно даже, пользоваться одним и тем же сиденьем стульчака. Как может сказаться это на вашем здоровье, на распространении болезней? Тут необходимы обширные научные исследования.
Дальше Билл читать не стал. Он и так уж потратил слишком много времени, организуя лекции и собрания в противовес дребедени подобного рода. Добивался, чтобы Союз выпускал собственные антирасистские брошюры, большую часть которых ему же в конечном счете сочинять и пришлось. (А ведь он не писатель.) Сегодня, сойдясь вместе, написанное от руки объявление и эта гнилая брошюрка подействовали на него до крайности угнетающе. Ведь трудящихся так легко, так безумно легко натравить друг на друга, между тем как им следует объединяться против общего врага. А в итоге все его усилия идут прахом.
Эти тягостные мысли, нагнанные размышлениями о Мириам, – тучи тревоги и угрызения совести лишь сделали их более мрачными – отнюдь не развеялись, когда спустя несколько минут он устроился перед телевизором. Ирен принесла ему чаю, крепкого, сладкого, и они, перейдя в гостиную, уселись рядышком на софе и стали вместе смотреть «Мидлендс сегодня». Ладонь Ирен ласково покоилась на его колене. (Никак она не могла избавиться от этих мелких проявлений привязанности, видимо не замечая или ничего не имея против того, что он никогда на них не отвечал.) Репортаж о забастовке в Лонгбридже шел в программе третьим.
– Так там и с телевидения люди были? – сказала Ирен. – Ты с ними разговаривал? Тебя покажут?
– Нет, когда я пришел, они уже укатили. Не думаю, что они потрудились…
Он не закончил и внезапно выругался, прогневанный появлением на экране Роя Слейте ра – да, Слейтера, ублюдок он этакий! – который разглагольствовал перед репортером, сунувшим микрофон ему прямо в физиономию. Как, господи ты мой боже, ухитрился он дорваться сегодня до телекамер раньше всех прочих? И кто дал ему право трепаться о трудовом конфликте еще до того, как они успели согласовать официальную линию поведения?
– Она опять проделала то же самое, наша администрация, – хриплым, глухим голосом бубнил Слейтер. – Она то и дело нарушает свои обещания, урезает заработную плату рабочих. Так не пойдет. Это…
– Да не о зарплате же речь, идиот! – выкрикнул Билл, заглушив последние слова Слейтера. – Забастовка началась не из-за денег!
– А из-за чего тогда? – спросил Дуг, которого привлек в гостиную звук включенного телевизора.
– Этот ничего не смыслящий… козел! – на миг Билл от гнева лишился слов. – Речь о правах, о посягательстве на них, – объяснил он наконец, обращаясь, по видимости, к сыну, но подразумевая (так это, во всяком случае, выглядело) воображаемую аудиторию телезрителей. – Они урезали зарплату рабочих, потому что последние полчаса смены те проводят в душевой, отмываясь. Речь идет о праве… на чистоту, на гигиену.
– …Столько времени, сколько потребуется, – талдычил на экране Слейтер. – Нам нужны эти деньги. Мы имеем на них право. И мы намерены добиться…
– Не в деньгах дело! – рявкнул Билл, разъяренно ероша свои редеющие на темени волосы. – Это и забастовкой-то назвать нельзя, Слейтер. Ты же ни хрена не понимаешь. Не знаешь, о чем, черт тебя побери, говоришь!








