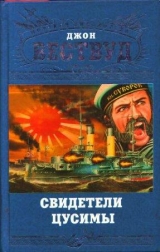
Текст книги "Свидетели Цусимы"
Автор книги: Джон Вествуд
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Команда «Ушакова» была настолько дисциплинированна и покинула судно так организованно, что после нескольких часов пребывания в воде выжили и были спасены 339 человек из полного списка 440.
Из русских крейсеров «Светлана» перестала существовать после встречи с двумя вражескими крейсерами 15 мая. Старый «Дмитрий Донской» оказал неожиданно сильное сопротивление двум крейсерам и четырем эсминцам, но потом все-таки вынужден был открыть кингстоны близ острова Мацу. «Изумруд», после того как он оставил Небогатова, долго преследовался двумя японскими крейсерами, и, как раз, когда японцы прекратили погоню, крейсер сам сбавил скорость из-за разрыва паровой трубы. Чтобы дойти до Владивостока, «Изумруду» не хватало угля, тогда крейсер направился в бухту Св. Владимира, где ночью 16 мая он и выскочил на камни, якобы из-за повреждения компаса. Здесь «Изумруд» был взорван (кстати, совсем без нужды: командиром владел маниакальный страх, что японцы могут достать его и здесь).
Кроме «Сисоя Великого» и «Владимира Мономаха», старый броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» был затоплен своими же ранним утром 15 мая близ Цусимы. Бывший матрос А. Затертый (Новиков-Прибой) описывает последние часы жизни «Нахимова»: «Корма крейсера уже настолько приподнялась, что его винты наполовину обнажились из воды и хлопали по ней лопастями, словно гигантскими ладонями. Он стал плохо слушаться руля и мог дать ходу не более трех узлов.
На мостике офицеры доказывали командиру, что при таких условиях «Нахимов» не годен к дальнейшему плаванию и что нужно заботиться только о спасении людей.
Родионов долго не соглашался изменить курс.
– Ну хорошо, – с горечью прошамкал он. – Мы пойдем к корейскому берегу. Там при помощи водолазов справимся с пробоиной, а потом опять двинемся на север. Мы должны быть во Владивостоке.
Люди с нетерпением ждали, когда пройдет эта страшная ночь. Немногие из них могли уснуть. Все чувствовали себя на грани жизни и смерти. Поэтому с такой радостью встретили первые признаки рассвета. А когда показалось солнце, то увидели вершины каких-то гор. Но никто не мог определить, чей был этот берег.
За ночь под напором воды разрушились ветхие продольные переборки, и вода постепенно заполнила собою погреба левого борта. На этот же борт команда перетащила много угля. Крен к утру исправился. Но зато вся носовая часть судна еще больше погрузилась в море. Командир, волнуясь, приказал:
– Держать к берегу!
– Есть, – ответил старший штурман, лейтенант Клочковский.
Не доходя четырех лишь до суши, смерили глубину – сорок две сажени. (89 метров. – Примеч. пер.) Застопорили машины. «Нахимов», весь израненный и одряхлевший от многолетних плаваний, послушно остановился, чтобы здесь навсегда исчезнуть с поверхности моря.
Командир Родионов, узнав, что перед ним возвышается северная оконечность острова Цусима, рассердился на штурмана:
– Я вам приказал вести корабль к корейскому берегу, а вы что сделали?
Лейтенант Клочковский, глядя сквозь очки на командира, смущенно ответил:
– Я точно старался выполнить ваше распоряжение, но после вчерашнего сотрясения корабля кто может поручиться за правильные показания компаса?
Приступили к спуску уцелевших от боя шлюпок. Но приспособления для этого были испорчены, работа шла медленно. Когда на спущенный гребной катер начали переносить раненых, вдали, с севера, показался неприятельский миноносец «Сирануи».
Командир сейчас же распорядился:
– Открыть кингстоны! Приготовить крейсер к взрыву! Команде вооружиться спасательными средствами!
Вскоре заметили, что с юга приближается неприятельский вспомогательный крейсер «Садо-Мару», очевидно, вызванный по телеграфу миноносцем.
На «Нахимове» в минном погребе, где хранились капсюли гремучей ртути, сухой и влажный пироксилин, заложили подрывной патрон. Провода от него с двумя батареями Гринэ протянули на шестерку, на которой уже сидел с гребцами младший минный офицер, мичман Михайлов. Шестерка, вытравливая провода, стала удаляться от крейсера. Мичман Михайлов хорошо запомнил слова командира:
– Я буду находиться на мостике судна. Следите за мною. Когда потребуется произвести взрыв, я помашу вам носовым платком.
– А как же вы сами? – испуганно спросил Михайлов, догадываясь, что командир хочет погибнуть вместе с кораблем.
– Это вас не касается, – шамкая, проворчал Родионов и строго нахмурил брови.
– Есть.
Михайлов со своей шестеркой остановился в трех кабельтовых от крейсера и, глядя на мостик «Нахимова», стал ждать условного сигнала.
Гребной катер, наполненный ранеными и возглавляемый старшим врачом, направился к берегу. Здоровые усаживались на баркасы. Те, для которых не хватало места на шлюпках, торопливо разбирали койки, спасательные круги и пояса. В нижних помещениях не осталось ни одного человека: там уже бурлила и клокотала вода, врываясь через открытые кингстоны и клапаны затопления.
Миноносец «Сирануи», приблизившись к «Нахимову» на 8—10 кабельтовых, поднял сигнал по международному своду: «Предлагаю крейсер сдать и спустить кормовой флаг, в противном случае никого спасать не буду». Командир Родионов приказал ответить: «Ясно вижу до половины». И сейчас же крикнул, насколько хватило голоса:
– Спасайся, кто как может! Взрываю крейсер!
На палубе все были охвачены, паникой. Люди бросались в море, словно перепуганные дети в объятия матери. Корабль, который до этого момента сохранял их жизни, теперь казался страшным чудовищем, и все старались скорее отплыть подальше от борта. Многие устремились к спущенному на воду минному катеру.
Находясь под полными парами, он пытался уйти от них, но оказалось, что во время боя на нем заклинился руль, положенный на правый борт. Катер мог только кружиться на одном месте и давить плавающих людей. Пришлось застопорить машину. На него, не обращая внимания на крики и угрозы старшего офицера, полезли десятки мокрых тел. От перегруженности в разбитые иллюминаторы полилась вода, и катер пошел ко дну, увлекая за собой тех, кто находился в кубрике и машинном отделении.
«Садо-Мару», приближаясь к русскому крейсеру, на ходу спускал шлюпки.
На мостике «Нахимова» остались только два человека: Родионов и Клочковский. Этот штурман решил погибнуть со своим командиром. С палубы последними прыгали за борт минеры и гальванеры.
Им нечего было торопиться: зная, что судно тонет, они разъединили провода, приготовленные для его взрыва. Родионов, горячась, бегал по мостику и неистово кричал, пока на палубе не осталось ни одной живой души. Он снял фуражку и, глядя на солнце, торжественно перекрестился. Штурман Клочковский, согнувшись, крепко ухватился за поручни. Но взрыва на взмахи платка не последовало. Командир сгорбился и, качая головою, громко зарыдал.
С шестерки, к которой приближался миноносец «Сирануи», выбросили в море батареи и провода. На мачте ее взвилась белая матросская форменка. Такие же форменки были подняты и на других наших шлюпках.
«Садо-Mapy» остановился в трех кабельтовых от «Нахимова» и стал подбирать плавающих людей на свои шлюпки. Одна из них пристала к борту погибающего корабля. На его палубу поднялся с несколькими своими матросами японский офицер. В это время Родионов и Клочковский скрывались под полуютом, следя за действиями непрошеных пришельцев. Японцы успели только поднять свой флаг и, убедившись, что воспользоваться крейсером нельзя, сошли в свою шлюпку. Командир и штурман подождали немного и, выскочив из своей засады, сорвали неприятельский флаг. Вскоре крейсер качнулся на правый борт, с ревом хлынули в него тысячи тонн воды и, как бы раздавленный непомерной тяжестью, он быстро пошел носом в пучину.
Родионов и Клочковский были глубоко затянуты водоворотом, но надетые на грудь спасательные пояса выбросили их обратно. Они увидели, что «Садо-Мару» и «Сирануи», подобрав всех русских, направились к показавшемуся на горизонте «Владимиру Мономаху». Двух пловцов, оставшихся с «Нахимова», только вечером спасли проходившие мимо японские рыбаки».
Из русских эсминцев погибли или были затоплены «Быстрый», «Буйный» и «Блестящий»; «Бодрый» был интернирован в Шанхае; «Безупречный» со всей командой был пущен на дно японским крейсером, а «Бравый» добрался до Владивостока. Из транспортов «Корея» пришла в Шанхай, а «Анадырь» в безостановочном ходу добежал до самого Мадагаскара. (В данном случае идея фикс Рожественского иметь большой запас угля оправдалась.) «Иртыш», очень сильно поврежденный, затонул на глазах у команды, севернее, у японского берега.
Вот как один из его мичманов описывает обстановку на судне в последние часы его жизни: «После всех пережитых волнений по поводу принятия решения прошло еще томительных шесть-семь часов. Горизонт оставался чистым, и за все время даже ни один дымок не показывался. Это особенно подбадривало идти дальше, и все волновались, начнет ли «Иртыш» тонуть и его придется покинуть, или еще протянет. Эти часы тянулись страшно медленно, и никто не знал, чем заняться: имело ли смысл приводить корабль в порядок, начать починки и налаживать обычную жизнь, когда в любой момент может произойти катастрофа.
Мрачно мы сидели за обедам, в полуразрушенной кают-компании, не было слышно обычных шуток и споров, точно кого-то оплакивали, да, впрочем, и действительно впору было оплакивать – гибель цвета русского флота.
Чем дальше шло время, тем роковая стрелка кренометра все больше наклонялась. Наконец, в 5 часов дня 15 мая пришлось прийти к убеждению, что минуты «Иртыша» сочтены и он каждый момент может начать тонуть. Поэтому дальше ждать становилось рискованным и настало время готовить шлюпки к спуску.
Как было решено, командир повернул к берегу и, на расстоянии около 10 миль от него, на глубине 55 сажен, стал на якорь. Началось сложное спускание шлюпок с корабля с предельным креном и поврежденными приспособлениями. Только после упорной работы в течение часа, наконец, они были на воде и началась погрузка раненых. Потом рассадили команду, затем сели офицеры и последними спустились – командир и старший офицер. Незабываемые моменты!
Невероятно тяжело покидать корабль, на котором совершен такой трудный переход и пережиты ужасы боя. Какую печальную картину теперь представлял наш «Иртыш»: всюду следы разрушений, разбросанные вещи, грязь и запустение. Транспорт сразу принял нежилой и покинутый вид, и он на наших глазах как бы, превращался в труп.
Вообще, каждый корабль, на котором пришлось прослужить долгое время, бывает жалко покидать, потому что к нему привыкаешь и с ним как-то сживаешься. Он уже кажется не бездушной железной коробкой, а существом, как-то духовно связанным с экипажем. Мы покидали сегодня «Иртыш», обреченный на неизбежную гибель, а ведь вчера он нас спас, вынес из опасного положения.
Бедный, бедный «Иртыш», не долго ты послужил в русском флоте, не долго на твоей корме развевался славный Андреевский флаг!
Пока плыли, никто не спускал глаз с «Иртыша», ожидая его последнего вздоха, но он продолжал печально стоять, уткнувшись носом в воду. Лишь Андреевский флаг слабо колыхался на корме.
Когда подходили к берегу, мы увидели в некоторых местах буруны, но никто даже не подумал искать удобного места для высадки и стали приставать там, где пришлось. Оттого несколько шлюпок перевернуло, и они затем разбились на камнях.
На берегу нас встретили какие-то люди с угрожающим видом и вооруженные палками, вилами и лопатами, но державшиеся на приличном расстоянии. В это время команда успела вытащить раненых и положить на песок. Затем привязали к веслу флаг с красным крестом и стали жестами показывать японцам, что оружия у нас нет. Убедившись, что мы имеем мирные намерения, они успокоились, однако подходить не решались и только показывали руками по направлению деревни.
Мы поняли, что они кого-то ждут и, следовательно, и нам приходилось делать то же самое. Действительно, скоро появились три полицейских с веревками. Не обращая на нас никакого внимания, они быстро вбили колья кругом места, где мы расположились, и между ними протянули веревку. Таким образом, наш лагерь оказался оцепленным, и они сами остались сторожить, объясняя жестами, что никто не должен за него выходить. Тут впервые почувствовалось, что мы уже не свободные люди, а пленники.
Время клонилось к закату. Все офицеры и матросы сидели на берегу и грустно всматривались в очертания «Иртыша». Издали трудно было сказать, что с ним происходит, но вдруг мы заметили, что он как бы стал уменьшаться в размерах: первым под воду ушел нос, виднелись только спардек и корма, а затем и они стали быстро погружаться. Несколько секунд торчали верхушки мачт и труба и – все исчезло. «Иртыша» не стало.
Через какое-то время прибыла группа японцев, оказавшихся представителями местных властей. Они немного говорили по-английски и задали нашему капитану несколько коротких вопросов о причинах нашей высадки. В свою очередь, капитан просил, как можно скорее сделать что-нибудь для раненых и помочь нашему доктору. Из разговора мы узнали, что мы высадились у крохотного поселка в 25 км от населенного пункта Камада. Жители его никогда раньше не видели европейцев, т.к. их в этот район не пускали. (Вот почему местные крестьяне сначала встретили нас с таким недоверием и недоброжелательностью.) По окончании разговора японцы стали отдавать распоряжения: раненых с помощью матросов перенесли в поселковую школу, команду поместили в местном храме, несколько лачуг были быстро очищены для офицеров. Затем нас предупредили, что, когда прибудет конвой, нас отправят в город, а пока мы должны оставаться в выделенных для нас местах и не покидать их без разрешения.»
Как только до Петербурга дошли первые слухи о катастрофе в Цусимском проливе, Адмиралтейство стали осаждать родные и близкие тех, кто был в море. Во многих высокопоставленных семьях сыновья служили младшими офицерами на 2-й эскадре, и многим выпал печальный жребий скоро узнать, что они их потеряли. Подробности доходили страшно долго. Даже царь должен был ждать, о чем он упоминает в своем дневнике: «16 мая. Понедельник. Сегодня начали приходить самые противоречивые сведения о сражении нашей эскадры с японцами – все о наших потерях и ничего о японских. Этот пробел в информации действует угнетающе».
Плохо был информирован и Микадо, но в другом отношении. Первые донесения Того при детальном рассмотрении показывают, что, хотя он сознавал, что победа за ним, японский адмирал имел лишь смутное представление о том, что же на самом деле произошло. Только через несколько дней точный отчет о русских и японских потерях был представлен японскому императору. Что же касается Николая, то он узнал худшее только 19 мая, что датировано его дневником: «19 мая. Четверг. Ужасная весть об уничтожении почти всей эскадры в двухдневном бою теперь полностью подтвердилась. Сам Рожественский взят в плен, раненный! Погода была чудесная, и это заставило меня переживать еще горше».
Новость о разгроме в Цусиме странным образом повысила котировки на Петербургской бирже. Деловая активность, как ни парадоксально, укрепилась в результате поражения, потому что было ощущение, что превращение долгожданной победы в оглушительное унижение заставит правительство начать переговоры об окончании этой несчастной войны (что и случилось почти сразу).
Поток всякого рода, в большинстве неточных, свидетельств и умозрительных объяснений уже хлынул и продолжался в течение многих лет. Так, корреспондент газеты «Новое время» во Владивостоке писал, например, 23 мая: «К сказанному можно еще добавить, что в первый день боя множество японских джонок пересекало курс нашей эскадры, и, по убеждению очевидцев, эти парусные лодки бросали плавающие мины, которые во многих случаях стали для наших судов роковыми».
На протяжении десятилетий многие морские офицеры были убеждены, что 2-ю эскадру атаковали подводные лодки, хотя фактически Япония не располагала тогда данным видом вооружения. Другие верили, что бок о бок с японскими в Цусимском бою на стороне Японии участвовали и британские корабли.
Хотя царь принял отставку «дяди Алексея», начальника русского военного флота, вера его в Рожественского осталась непоколебленной. Он послал своему верному адмиралу сочувственную телеграмму: «Токио. Генерал-Адъютанту Рожественскому. От всей души благодарю Вас и все чины эскадры с честью выполнившие свой долг в бою, за самоотверженную службу России и мне. Всевышнему не угодно было увенчать Ваш подвиг победой, но Отечество всегда будет гордиться Вашим беззаветным мужеством.
Желаю Вам скорейшего выздоровления и да будет Господь Вам утешением.
Николай. 28 мая 1905».
Однако многим достались переживания гораздо сильнейшие, чем Николаю. Например, Цивинскому, капитану учебного судна «Генерал-Адмирал». 14 мая он повел свой корабль в Балтийский порт на учения. Зная, что 2-я эскадра должна была со дня на день столкнуться с японцами, а его сын ушел мичманом на «Бородино», он уже тогда впал в отчаяние. 16 мая в газете, пришедшей на судно, сообщалось, что произошло сражение, что почти все русские корабли погибли, а имена спасшихся офицеров будут названы в свой черед. Позднее Цивинский писал, с каким страхом ждал он следующего сообщения и как, когда оно пришло, его сердце на какой-то момент остановилось, а в груди что-то болезненно сдавило.
«Дрожащими пальцами держал я газету, – пишет он, – а глаза без всякой надежды пробегали списки спасенных». Читая, как были спасены офицеры с «Нахимова», Цивинский казнил себя за то, что в 1904 г., нажимая на все педали, используя связи, он добился перевода своего сына с «Нахимова» на новенький «Бородино».
Его адмирал, держа в руках номер газеты, вошел к нему в каюту, дружески обнял и посоветовал ехать к жене. Вернувшись домой, он нашел ее убитую горем, в полном отчаянии.
Все морские семьи были в трауре. Когда телеграммы из зарубежных газет перепечатывались в местной прессе с указанием списков последних спасшихся (поднятых из воды или найденных на берегу), все жадно искали фамилии своих родных. Цивинский вспоминает, как они с женой каждый раз загорались новой надеждой, но это всякий раз кончалось лишь новым мучительным разочарованием.
Наконец они вырвались из этой агонии неизвестности, когда пришло известие о том, что с «Бородино» остался в живых только один человек, рядовой матрос.
Через неделю после боя при Цусиме в Маниле неожиданно появилась значительная уцелевшая часть 2-й эскадры: крейсера «Аврора», «Олег» и «Жемчуг», которые и были там интернированы. Хотя их командующий, контр-адмирал Энквист, в полной мере потом испытал нападки Адмиралтейства за то, что убежал с района боя, а раз убежавши, не смог прорваться во Владивосток. И хотя сам он, кажется, вполовину признал это возмущение справедливым, тем не менее ему следует отдать должное за то хотя бы, что он спас свои три крейсера.
«Круиз» из Цусимы в Манилу описал судовой врач «Авроры»: «Солнце еще не вставало. Погода была прекрасная, и море было тихое, успокоившись за ночь. Кроме «Олега» и «Жемчуга» других судов не было видно. С «Олега» что-то деятельно передавали по семафору.
На шканцах, выстроившись во фронт, команда пела утреннюю молитву «Христос Воскресе». Эти бледные землистого цвета лица, бесстрастное выражение глаз, повязки, пропитанные запекшейся кровью, надолго останутся в моей памяти.
Кругом виднелись следы ужасного разрушения. Все было смято, разворочено; торчали исковерканные стальные листы, обломки, зияли дыры пробоин. Мне некогда было заниматься рассматриванием повреждений; я спустился на центральный перевязочный пункт и, проходя через правый пункт, только покачал головой, глядя на его жалкий вид. Не уйди мы вовремя, ни одна душа не осталась бы в живых.
Приказав санитарному отряду готовиться к перевязкам, я начал обход раненых. Их уже поили горячим чаем.
Как оказалось, «Олег» спрашивал о потерях в личном составе, о характере повреждений, количестве оставшегося угля. Положение отряда было таково: на «Авроре» убито 10 человек (в том числе командир), раненых 89, из них 6 смертельно, 18 тяжело (3 офицера ранены тяжело, 5 легко). На «Олеге» было убито 11, раненых 40, из них 2 смертельно, 8 тяжело (2 офицера легко ранены). На «Жемчуге» убито 9 (в там числе 1 офицер), раненых 34; из них 1 офицер и 2 нижних чина смертельно, 7 тяжело (2 офицера ранены легко).
Относительно угля получились следующие сведения: на «Олеге» и на «Жемчуге» осталось его на переход в 1300 миль при экономическом ходе, на «Авроре» – несколько больше, но при этом нужно было помнить, что благодаря громадным пробоинам, зиявшим в трубах, расход угля чрезвычайно увеличился против нормы.
Самые большие повреждения по корпусу судна были на флагманском корабле «Олег». Много крупных пробоин, затоплено несколько отделений. Вследствие какого-то повреждения в цилиндре, а также оттого, что временную заделку пробоин срывало волной, «Олег» уже не мог дать прежнего своего хода.
Зато наш крейсер, не защищенный, как «Олег», барбетами и казематными броневыми башнями, понес гораздо большие потери людьми и орудиями.
Из числа пострадавших на «Авроре» 99 человек – 57 приходилось на комендоров и орудийную прислугу. По приведении в известность потерь, повреждений и количества угля адмирал запросил мнения командиров о том, куда идти.
Опросив офицеров, Небольсин передал по семафору мнение «Авроры» о том, что надо в ближайшую же ночь попытаться форсированным ходом проскочить Цусимский пролив; пока же просил позволения прекратить пары в лишних котлах, чтобы сберечь силы машинной и кочегарной команд.
Что заявили командиры остальных двух судов – не знаю.
Отряд продолжал пока двигаться прежним курсом, самым малым ходом, стараясь на тихой воде, пока не засвежело, заделать пробоины. Сигнальщики внимательно следили за горизонтом: ожидалось появление наших броненосцев, которых мы видели отступающими на юг.
Пока все это происходило наверху, я занялся своим делом. Работы предстояло много. Прежде всего надо было разместить раненых поудобнее, выбрать места более прохладные и светлые, переменить тюфяки, залитые кровью, вымыть раненых, переодеть в чистое белье, организовать постоянный уход и наблюдение за ними. Для этого было отряжено 15 человек санитарного отряда; им было поручено измерять температуру два раза в день, поить, кормить раненых. Помогали и свободные от службы товарищи. Наскоро были сооружены временные деревянные нары в батарейной палубе. Для раненых имелись постоянно под рукой горячий чай, кофе, холодное питье. Лазаретные и кают-компанейские запасы коньяку, рому, красного вина, консервированного молока щедро расходовались. Более тяжелым пришлось назначить легкую диету: бульон, молоко, кисель, яйца.
Всюду шла деятельная очистка от кровяных пятен – окровавленные вещи выбрасывались прямо за борт; все-таки уже в конце суток трупный запах стал давать себя чувствовать.
Раненые вели себя поразительно терпеливо. Повязки держались хорошо, некоторые промокли. Во время обхода я заглянул в каюту Лосева, поглядел на Евгения Романовича, лицо которого приняло уже строгое, спокойное выражение.
Составив список раненых и назначив, кого брать первыми, я приступил к перевязкам. Началась наша медицинская работа. Сейчас же я встретился с вопросом, к чему надо прежде всего приступить. Если мы будем прорываться ночью, то не стоило предпринимать каких-либо больших операций, а просто сменить повязки, перевязав кровоточившие сосуды.
Если же мы намерены идти на юг, то ранами можно заняться основательнее, как в мирное время. Я посылал несколько раз узнавать, в чем дело, выходил сам и так и не мог добиться толку. Никто не знал, что предпримет дальше адмирал.
Часов около 10 утра на центральный перевязочный пункт стали доноситься отдаленные выстрелы. Очевидно, с боем стал догонять нас с севера наш броненосный отряд. Это для всех настолько не было неожиданностью, что мы отнеслись к этому совершенно апатично, продолжали работу, как ни в чем не бывало, разве только с еще более серьезными лицами.
Через полчаса кто-то, однако, принес известия, что наверху к пробоинам в трубах стараются приделать железные листы: они-то своим хлопаньем и производили впечатление глухой отдаленной пальбы.
Общий характер ранений состоял в рваных ранах самой неправильной формы, различной величины, с краями большею частью ушибленными и обожженными.
Гораздо сильнее раны были обожжены внутри. Обрывки тканей одежды приходилось вытаскивать черными, обгоревшими, мышцы крошились на отдельные волокна.
Впрочем, ожоги ран имели и свою хорошую сторону – загрязненные раны обеззараживались, кровотечение из мелких сосудов останавливалось благодаря прижиганию. Разрушения в теле были варварские; осколки ведь не походили на гладкие пули, делали большие карманы, громадные, сильно развороченные выходные отверстия. Было много открытых осколъчатых переломов черепа и других костей.
Несколько человек, смертельно раненных, производили тяжелое впечатление.
Сквозная рана таза у матроса Колобова, кончавшаяся огромным развороченным отверстием у крестца, требовала не одной, а двух перевязок в день. У Ляшенко было огнестрельное повреждение позвоночного столба, паралич конечностей. У Морозова две крошечные ранки в области живота, которые в дальнейшем должны были неминуемо вызвать воспаление брюшины. Штаб-барабанщик Ледяев из 10 ран имел две в голову с проломом черепа. Во время перевязки он стонал: «За что, за что? Что я им сделал? Я ведь не стрелял».
Кто-то из его раненых товарищей заметил: «А зачем барабанил? Сам поднял артиллерийскую тревогу, а теперь жалуешься». Бедный Ледяев должен был согласиться с этим.
В час дня крейсера застопорили машины. Адмирал ввиду смерти командира «Авроры» и ранения ее старшего офицера перенес свой флаг на наш крейсер и перебрался со своим штабом. Так как фор-стеньга у нас была сбита, то контр-адмиральский флаг пришлось поднять на грот-стеньге (стеньга – верхняя, более тонкая часть мачты, служащая для подъема флагов, сигналов и т.д. Если стеньга – на передней мачте, то говорят: стеньга фок-мачты, если она находится на средней мачте, или на грот-мачте, то это грот-стеньга. – Примеч. пер.).
На гафеле все еще развевался боевой флаг, весь издырявленный, в лохмотьях. Адмирал, представительный, высокий, с длинной седой бородой старик, был, видимо, потрясен исходом боя.
Мы узнали о крупных повреждениях корпуса «Олега», который являлся небезопасным для плавания: большинство пробоин находилось у самой воды, у ватерлинии. Временные починки могли быть сбиты первой же сильной волной.
Идти обратно Корейским проливом с сильно поврежденными судами (на «Олеге» в рубашку правого цилиндра высокого давления просочился рабочий пар, и он уже не мог дать своего прежнего хода), с ограниченным количеством угля, расход которого на «Олеге» за день боя дошел до 350 тонн, и рисковать встречей с многочисленным и совершенно не пострадавшим неприятельским флотом адмирал находил невозможным.
Для прохода во Владивосток кружным путем, вокруг Японии, через Лаперузов пролив, не хватало угля. Поэтому адмирал пока решил идти в Шанхай, чтобы попытаться принять там с наших транспортов за 24-часовой срок уголь, и, заделав на тихой воде своими средствами пробоины и забрав с собою угольщиков, попытаться далее пройти во Владивосток Лаперузовым проливом или возвращаться в Россию. Пока же отряд наш стоял, не давая ходу.
Адмирал рассчитывал, что к нам должны приблизиться уцелевшие броненосные суда эскадры, отступившие на юг. Каких-либо инструкций насчет возможного разлучения с эскадрой после боя у адмирала не имелось.
В 3 часа дня «Аврора» хоронила 9 человек убитых нижних чинов и 2 умерших от ран – Вернера и Нетеса. Все 11 человек были бравые молодцы, все на подбор.
Я нашел минуту и выскочил наверх на ют, где происходило отпевание. Толпилась команда, впереди стояли адмирал и офицеры. У наших ног на палубе, покрытые брезентом, под сенью простреленного во многих местах, висевшего клочьями Андреевского флага, лежали тела умерших, зашитые наглухо в парусиновые койки, с двумя чугунными балластинами, прикрепленными к ногам.
Отец Георгий, совершенно лишившийся голоса, едва слышно произнес обряд отпевания, и матросы стали опускать по доске в море безмолвные серые фигуры, одну за другой.
Море, такое неприветливое накануне, сегодня, пригретое солнышком, заштилело и ласково жалось к бокам крейсера. После бросания слышался короткий всплеск, и тело быстро шло ко дну.
16 мая
На рассвете в тылу показался дымок. Застопорили машины, и в 9.30 утра нас нагнал буксир «Свирь», на котором оказались командир, старший офицер и 75 человек команды, спасенных с «Урала». Ничего другого, кроме того, что мы сами знали, «Свирь», конечно, сообщить нам не могла.
Крейсера, приблизившись друг к другу и держась на расстоянии голоса, долгое время вели переговоры в рупор.
Адмирал сильно колебался и намеревался оставить «Олег» и «Жемчуг» в Шанхае, а самому на «Авроре», взяв уголь в Шанхае, пробиваться кружным путем. Но выяснилось, что благодаря своей осадке «Аврора» должна ждать у Шанхая прилива, вследствие чего не успела бы использовать короткий 24-часовой срок для погрузки всего запаса угля, необходимого для обхода Японии кружным путем.
После долгого колебания, подсчитывания судовыми механиками всего количества оставшегося угля адмирал изменил решение заходить в Шанхай, в котором он боялся немедленного разоружения, приказал «Свири» продолжать свой путь и по прибытии в Шанхай сейчас же дать шифрованную телеграмму о высылке из Сайгона на Манилу нашего транспорта с углем. Сам же он решил на «Авроре» двинуться в этот американский порт, надеясь, что американцы будут гостеприимнее: дадут достаточный срок для исправления повреждений, как это было предложено в Сан-Франциско «Лене», а затем позволят выйти в море.
Уступая настойчивым просьбам не дробить отряд, после заявления их о том, что до Манилы угля хватит, хотя и в обрез, адмирал взял эти суда с собою. Для «Олега», поврежденного более других, этот путь являлся весьма рискованным, и «Аврора» должна была конвоировать его.
17 мая
Благодаря свежей погоде эта ночь была особенно тяжела для «Олега», которому все время приходилось работать у пробоин: заделки то и дело выбивались волной.
Медицинское дело наладилось недурно. Два раза в день обход, проверка назначений, с которыми быстро справлялись мои энергичные и толковые помощники, фельдшера Уласс и Михайлов.
С утра до позднего вечера, часто до 12 часов ночи, с небольшими промежутками для еды, шли перевязки.








