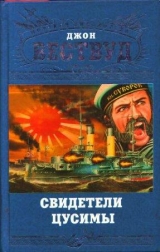
Текст книги "Свидетели Цусимы"
Автор книги: Джон Вествуд
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Как при любой катастрофе, люди и здесь вели себя по-разному. Одни были героями, другие нет, третьи же покрыли себя позором. К третьей категории, если не преувеличивает А. Затертый, относились три офицера «Нахимова». «Едва только начался бой, три офицера (капитан, казначей и лейтенант) залезли в поперечный проход на самом днище судна. Здесь было безопасно. Этим проходом подносчики снарядов подавали 75-мм снаряды на батарейную палубу. И вот в этом-то совсем не подходящем месте (и в неподходящее время!) эти офицеры бесстрашно занимались уничтожением вина, принесенного ими с собой. Там, наверху «мозолистые руки» – матросы, – глядя в глаза смерти, самоотверженно расплачивались за чужие грехи, а в это время три благородных представителя «белоручек» храбро и шумно опорожняли бутылку за бутылкой во славу их любимого Отечества. Подносчики боеприпасов были вынуждены обходить боком этих «синьоров», которые были заняты своей оргией и имели еще наглость покрикивать (насколько позволяли им их пьяные языки): «Держись стороной!».
Совсем другим человеком был Курсель, мичман с броненосца «Суворов», один из трех офицеров, которые, уцелев в бою, предпочли остаться на погибающем судне. Семенов встретил его в тот момент, когда японская артиллерия расстреливала броненосец.
« – Куда вы идете?
– Посмотреть кормовой плутонг и взять папирос в каюте – все выкурил.
– В каюте? – И Курсель хитро усмехнулся. – Я сейчас оттуда, но, впрочем, пойдемте, я провожу.
Он действительно оказался полезным провожатым, так как знал, где дорога свободна от обломков.
Добравшись до офицерского отделения, я в недоумении остановился: вместо моей каюты и двух смежных с ней была сплошная дыра. Курсель весело хохотал, радуясь своей шутке. Внезапно рассердившись, я махнул рукой и пошел обратно. В батарее Курсель меня догнал и стал угощать сигарами.
Когда мы спускались в нижнюю батарею, что-то ударило меня в бок (должно быть, какой-нибудь обломок), и я пошатнулся.
– Опять задело? – спросил Курсель, вынимая изо рта сигару и участливо наклоняя голову».
Новиков-Прибой позднее вспоминал, как в то время вели себя люди на «Орле»: «В кормовой каземат попало несколько снарядов. Один из них разорвался с такой силой, что броненосец так и дернуло с курса в сторону. Минному квартирмейстеру Хритонюку и минеру Привалихину показалось, что отвалилась вся корма. Они потом рассказывали: «Мы так и решили – должно быть, мина угодила. Ждали, вот-вот начнется крен и судно пойдет ко дну. Но крена не было. Услышали только треск. Это взрывались патроны».
Они поднялись в каземат и, не видя ни одной живой души, стали тушить пожар, сапогами черпая воду, проникавшую через пробоины.
С огнем кое-как справились. Хритонюк спустился к рулевому мотору, а минер Привалихин остался в кормовом каземате, разглядывая, что здесь произошло. Два орудия вышли из строя, иллюминаторы остались без стекол. Раненые, очевидно, расползлись отсюда, остались только мертвые. Упершись головой в борт, застыл матрос Вацук. Недалеко от него лежали два изувеченных трупа – подшкипер Еремин и какой-то комендор, причем рука одного, словно в порыве дружбы, крепко обняла за шею другого. Но Привалихин не знал, что эти два человека перед смертью из-за чего-то повздорили и чуть было не подрались. Японский снаряд примирил их обоих.
Свидетелем тому был другой матрос. Он находился в кают-компании на подаче патронов к пушкам и оказался засыпанным по пояс углем, служившим защитой бортов. Вылезая из вороха угля, он оставил в нем сапоги, но сам не имел никаких ранений. Рядом с ним командир кормового каземата, прапорщик Калмыков произнес: «Прицел – тридцать!» – и куда-то исчез с такой быстротой, как исчезает молния в небе. От прапорщика остался один только погон. Один из артиллерийской прислуги вылетел в полупортик, мелькнув в воздухе распластанной птицей, и сразу исчез в волнах.
Почти одновременно пострадала и 12-дюймовая кормовая башня. Снаряд ударил в броневую крышу около амбразур. При этом были легко ранены мичман Щербачев, кондуктор Расторгуев и квартирмейстер Кислов. Навсегда кончил здесь службу лишь один комендор Биттэ, у которого было сорвано полчерепа. Разбрызганный по платформе мозг теперь попирался ногами.
Мичман Щербачев недолго командовал этой башней, а потом, как и лейтенант Славинский, слетел со своей площадки управления. Руки и ноги его разметались по железной платформе. Матросы бросились к командиру башни и начали поднимать его. Около переносицы у него кровавилась дыра, за ухом перебит сосуд, вместо правого глаза осталась пустая впадина. Раздались восклицания:
– Конечно, убит! —Даже не пикнул! – Наповал убит!
Мичман Щербачев как раз в этот момент очнулся и спросил: – Кто убит?
– Вы, Ваше благородие, – удивленно ответил один из матросов.
Щербачев испуганно откинул голову и метнул левым уцелевшим глазом по лицам матросов.
– Как я убит? Братцы, скажите, я уже мертвый?
– Да нет, ваше благородие, не убиты. Мы только думали, что конец вам. А теперь выходит – вы живы.
Щербачев, ощутив пальцами пустое углубление правой глазницы, горестно воскликнул:
– Пропал мой глаз!
Через несколько минут снова загрохотали орудия. Башней теперь командовал кондуктор Расторгуев. А мичман Щербачев, привалившись к пробойнику, сидел и тяжело стонал, опуская все ниже и ниже обмотанную бинтом голову».
По боевому расписанию постом Новикова-Прибоя был операционный пункт, где он должен был помогать хирургу. По-видимому, у него было достаточно времени, чтобы оторваться от своих обязанностей, вдохнуть глоток свежего воздуха и обменяться парой слов с друзьями: «Находясь в операционном пункте, я взглянул через дверь в коридор и увидел там кочегара Бакланова. Он сделал мне знак рукою, подзывая к себе. Я вышел к нему, ожидая от него важных новостей. Меня крайне удивило, что толстые губы его на грязном, с тупым подбородком лице растянулись в самодовольную улыбку.
Он обдал меня запахом водки и заговорил на ухо:
– Ну, брат, и повезло мне! Господские закуски такие, что сами в рот просятся. А от разных вин душа поет. Первый раз в жизни я так сладко поел и выпил.
– Где? – спросил я.
– В офицерском буфете. – Кочегар показал на свои раздувшиеся карманы и добавил:
– Я, друг, и про тебя не забыл. Пойдем в машинную мастерскую. Будешь доволен угощением.
– И тебе не стыдно набивать свое брюхо в то время, как кругом люди умирают?
– А что такое «стыдно»? Это же не кусок от снаряда – желудок не беспокоит. Так лучше навеселе спускаться на морское дно. Идем!
Я рассердился и крикнул:
– Убирайся ко всем чертям, сволочь!
А он, обведя взглядом изувеченных и стонущих людей, которые лежали не только в операционном пункте, но и в коридоре, подмигнул одним глазом и спросил:
– Это все будущие акробаты?
Мне был противен его цинизм, и я раздраженно ответил:
– Вася Дрозд тоже записался в акробаты. Боцман Воеводин – видел его? – валяется на шканцах без ног.
Кочегар Бакланов сразу отрезвел:
– Врешь?!
– Сходи и посмотри.
Он повернулся и побежал по ступеням трапа вверх. Но не прошло и десяти минут, как я снова встретился с ним в коридоре. Это был теперь другой человек, подавленный потерей друга.
– Ну, что? – спросил я.
– Он уже мертвый. Я выбросил его за борт. Бакланов положил свою тяжелую руку на мое плечо и, волнуясь, заговорил глухо, сквозь зубы:
– Эх, какой человек погиб, друг-то наш Вася! Хотел все науки превзойти.
И вот что вышло. За что отняли у него жизнь? Разве она была у него краденая?
Бакланов размазал по лицу слезы и, ссутулившись, медленно полез по трапу».
Новиков-Прибой находился в операционном пункте, когда «Орел» стал крениться. (Васильев, к которому он обращается в своем изложении, на самом деле корабельный инженер Костенко, уже цитированный выше): «Сверху донеслись в операционный пункт крики «ура». Мы недоумевали: в чем дело? Старший боцман Саем, спустившись вниз для перевязки легкой рапы на руке, торжественно сообщил:
– Неприятель отступает, а его один подбитый броненосец еле движется и горит. Наша эскадра доканчивает его. Сейчас он пойдет ко дну.
Но вскоре выяснилось, что Саем ошибся: справа от нашей колонны, едва двигаясь, горел не японский броненосец, а наш флагман «Суворов». В лазарете наступило тягостное разочарование, по адресу боцмана послышалась ругань.
В ту же минуту заметили, что броненосец начинает крениться на правый борт. Раненые и здоровые вопросительно переглядывались между собой, но никто не понимал, что случилось с кораблем. Может быть, он уже получил подводную пробоину. Может быть, через несколько минут он, как и броненосец «Ослябя», перевернется вверх днищем. Беспокойство росло. Каждая пара глаз с тревогой посматривала на выход, и каждый человек думал лишь о том, как бы в случае гибели выскочить первым, а чуть опоздаешь – двери и люки будут забиты человеческими телами. Кое-кто уже начал подниматься по трапу. Некоторые что-то выкрикивали в бреду, остальные молчали, как будто прислушиваясь к выстрелам своих орудий и к взрывам неприятельских снарядов. Вздрагивал измученный корабль, словно пугался черной бездны моря, вздрагивали и мы все, как бы сливаясь с частями судна в одно целое.
Броненосец накренился градусов до шести и, не сбавляя ходу, надолго остался в таком положении. На один момент крен его еще более увеличился. Очевидно, это произошло на циркуляции. Казалось, перед нами опускается железная стена, чтобы навсегда отрезать нас от жизни.
Мне вспомнилась мать, и я, подойдя к инженеру Васильеву, для чего-то сказал ему:
– Моя мать умеет читать по-польски. У нее книг на польском языке – томов двадцать: и молитвенники, и романы. Она знает их все почти наизусть.
Васильев удивленно поднял брови и, стараясь понять смысл моих слов, заговорил:
– Да? Это хорошо. А по-французски она не может читать?
– Никак нет, ваше благородие. Во Франции она не была».
Вспоминая офицеров броненосца «Орел», Новиков-Прибой, который сам при Цусиме находился на этом корабле, не забыл и про лейтенанта Гирса, отнесенного им к числу героев: «На броненосце «Орел» было три артиллерийских офицера. Двое из них выбыли из строя. Командир корабля, капитан 2 ранга Сидоров, приказал:
– Вызвать в боевую рубку лейтенанта Гирса!
Во время боя Гирс командовал правой носовой шестидюймовой башней. Он был отличный специалист, однако и ему не пришло в голову израсходовать сначала запасные патроны. Когда он получил приказ явиться в боевую рубку, неприятельские корабли резали курс нашей эскадры и били по ней продольным огнем. Правая носовая башня отвечала противнику с наибольшей напряженностью. Но лейтенант Гирс вынужден был передать командование унтер-офицеру, а сам, соскочив на платформу, быстро приблизился к двери, высокий, статный, с русыми бачками на энергичном лице.
В тот момент, когда он стал открывать тяжелую броневую дверь, раздался взрыв запасных патронов. Лейтенант Гирс, опаленный, без фуражки с трудом открыл дверь и выскочил из башни, оставив в ней ползающих и стонущих людей.
Случайно встретившихся ему носильщиков он послал на помощь к пострадавшим. А сам, вместо того чтобы опуститься в операционный пункт, решил выполнить боевой приказ. Но когда он стал подниматься по шторм-трапу на мостик, под ногами от разрыва снарядов загорелся пластырь, и лейтенант Гирс вторично был весь охвачен пламенем.
Добравшись до боевой рубки, он остановился в ее проходе, вытянулся и, держа обгорелые руки по швам, четко, как на параде, произнес:
– Есть!
Заметив, что его, очевидно, не узнают и молча таращат на него глаза, он добавил:
– Лейтенант Гирс!
Все находившиеся в боевой рубке действительно не узнали его. На нем еще тлело изорванное платье. Череп его совершенно оголился, были опалены усы, бачки, брови и даже ресницы. Губы вздулись двумя волдырями. Кожа на голове и лице полопалась и свисала клочьями, обнажив красное мясо.
Кругом грохотали выстрелы, выло небо, позади, на рострах своего судна от взрыва с треском разлетелся паровой катер, а лейтенанту Гирсу до этого как будто не было никакого дела. Дымящийся, с широко открытыми безумными глазами, он стоял, как страшный призрак, и настойчиво глядел на капитана 2 ранга Сидорова, ожидая от него распоряжений.
Так продолжалось несколько секунд. Лейтенант Гирс зашатался. К нему на помощь бросились матросы и, подхватив под руки, ввели его врубку. Опускаясь на палубу, он тяжко прохрипел:
– Пить...»
Глава пятая
МИННЫЕ АТАКИ
Хотя в преисподнюю кочегарок и котельных удручающая весть еще не дошла, но на палубах каждому было ясно, что 2-я эскадра понесла поражение, и уже спустя час после начала боя Того просто-напросто использует свое преимущество.
В течение долгого времени в русском военном флоте, в правительстве и среди русской общественности спорили о причинах разгрома, который считался национальным позором. Они были очевидны.
Трудно было не столько раскрыть эти причины, сколько определить, какая из них была важнейшей, серьезной, роковой, а какая – случайной, второстепенной, неважной. Проявилась русская тенденция оправдывать, а в других случаях искать козлов отпущения, и аргументы, выдвигаемые в этих двух направлениях, лишь затемняли истинную сущность дела. Некоторые утешали себя, сваливая всю вину на правительство или Морское ведомство, другие, особенно те, кто участвовал в бою, предпочитали приписывать поражение техническим факторам, утверждая, что с теми средствами, которыми они располагали, они не могли сделать ничего большего.
Размышляя о том, почему была погублена 2-я эскадра, простейший ответ готов: потому что она встретилась с более сильным противником. Если же задаться вопросом: был ли какой-нибудь фактор, который, будь он применен, переломил бы ситуацию, ответ ясен: такой фактор был – это скорость. Если бы Рожественский имел преимущество в скорости хода, он бы, маневрируя, обвел Того и добрался до Владивостока. Возможно, он бы даже нанес японцам больший урон, нежели понес сам.
Царский «дядя Алексей», ведавший русским флотом, любил, как говорили, «быстрых женщин и медленные корабли». Он был также поклонником (и переводчиком) Магана, американского морского теоретика, считавшего скорость хода желаемым, но не главным атрибутом линкора. При Цусиме боевая линия русских двигалась со скоростью, не превышавшей 10 узлов, а Того мог рассчитывать на 14—15 узлов, имея, таким образом, подавляющее тактическое преимущество. Но русская тихоходность не была связана, как иные думают, с непригодностью машин или котлов, просто многие русские суда были откровенно старые и все без исключения несли на днище тяжелый слой морской растительности. На самом деле скорость русских броненосцев едва ли была ниже, чем у японских того же возраста. (Например, у «Суворова» и «Осляби» проектная скорость была 18 узлов, только на полузла меньше, чем у «Миказы», к тому же скорости японских кораблей часто завышались.) Но «суворовцы» пробыли в тропических водах целые месяцы, в то время как корабли Того незадолго до Цусимы прошли подготовку в доках, где их днища были очищены под скребок
Словом, низкая скорость 2-й эскадры не была связана с дизайном кораблей или их конструкцией. «Дядю Алексея» нужно было винить скорее не за тихие, а за маленькие корабли: русские броненосцы, несмотря на большую угольную вместимость, были значительно меньше, чем японские того же класса.
Что касается других технических факторов, то Введение к настоящей книге, надо думать, рассеяло представление о том, что русские корабли были хуже по своему проекту или хуже в конструктивном отношении. Равные по тоннажу, но обреченные носить на себе двойной относительно японцев запас угля, русские суда были по крайней мере не хуже, чем их японские ровесники. Правда, позднейшие русские броненосцы имели меньшую остойчивость, чем их японские оппоненты, но зато этот недостаток остойчивости приближал быстрее их конец, когда корабли затоплялись; этот недостаток уж не казался таким тяжелым, после того как бой был проигран.
К склонности русских броненосцев опрокидываться добавлялась еще серьезная перегрузка, в результате чего самый толстый слой брони корпуса частично уходил под воду. Другими словами, попадание снаряда выше ватерлинии грозило попаданием воды внутрь в условиях свежей погоды, что и случилось 18 мая.
Тот факт, что снаряженный корабль весил на сотни тонн больше, чем расчетный вес, был обычным делом и на других флотах: все ровесники британского корабля класса «Канопус» превышали их расчетный вес на 100 тонн, но количество угля, грузившегося на русские линкоры, было ни с чем не сравнимо. Чрезмерное количество угля, имевшегося на судне, прямо влияло на его остойчивость. В ходе боя, когда топливо расходовалось очень быстро, уголь брали из ближайших угольных ям, где он быстро уменьшался. А на более верхних уровнях он оставался лежать, вследствие чего центр тяжести судна становился выше. Аналогичный эффект имел место при постепенном опорожнении погребов и складов боеприпасов.
«Ослябя» был первым броненосцем, перевернувшимся в Цусимском сражении. Он тоже был спроектирован как устойчивое судно, но заплатил за это большей склонностью к переворачиванию. Однако ахиллесовой пятой этого корабля были его «слабые концы»: чтобы сэкономить вес, броневой пояс не протянули на всю длину корпуса, в результате разрывные снаряды пробили такие дыры в районе его носовой ватерлинии, что в них «могла проехать тройка с упряжкой». Интересно, что несколько кораблей, построенных на других флотах в это же время, имели такую же слабость.
Русские корабли, особенно класса «Суворов», были лучше, чем другие, оснащены водонепроницаемыми переборками ниже ватерлинии, поэтому они не желали тонуть после первой же торпеды. Сам «Суворов», говорят, выдержав все, прежде чем окончательно пойти ко дну, перенес еще один или два торпедных удара. И не известно, оправдались ли тут добавочный вес и неудобства, связанные с бронированной переборкой, стоявшей в шести футах за обшивкой корабля.
Русские броненосцы жестоко страдали от пожаров, вызванных японскими разрывными снарядами. Было ли на них чрезмерно много деревянных фитингов и других ненужных вещей? Многие офицеры обвиняли Рожественского в том, что он не прислушался к их совету выбросить за борт или отправить в Шанхай одним из транспортов мебель и другие деревянные вещи. Однако присутствие на борту дерева было еще не главным злом: там было много и других горючих материалов: палубы, окрашенные поверхности, шлюпки и др. легко воспламенялись от высокой температуры при взрыве шимозы.
Самым глубоко запавшим в душу воспоминанием тех, кто пережил Цусиму, была губительность японского артогня. Здесь было несколько его аспектов: мощнейший разрывной заряд, точность японских орудий и скорострельность. Нет сомнений в том, что шимоза – взрывчатое вещество лиддитного типа – производила разрушительное воздействие и на корабли, и на боевой дух команд. В этой важной области русский флот в то время был технически ниже. Нет сомнений и в том, что японская артиллерия была точнее, хотя некоторые из легенд надо осмотрительнее принимать на веру. Большое количество стволов, которые японцы сосредоточили на определенных целях, означало, что даже при низком соотношении попадания и промахов на цель падало большое количество снарядов, и жертвы их поневоле верили, что артиллерия их врага работает сатанински метко. С другой стороны, с их предыдущим боевым опытом и постоянной практикой стрельбы по мишеням было бы просто удивительно, если бы японские комендоры не стреляли бы лучше, чем их противники.
В то же время нужно сказать, что русская артиллерия все-таки была в загоне: комендоры не имели настоящей практики стрельбы на длинных дистанциях или на ходу, и отсутствие у них боевого опыта означало, что, когда они впервые оказались под огнем, они были не так дисциплинированы и выдержаны, как японцы.
Впрочем, вполне возможно, что русская артиллерия была все-таки не хуже, чем у большинства других флотов. (В те времена реформы, ассоциировавшиеся с именем капитана Скотта, только-только начинали просачиваться в Королевский флот, где многие корабли даже в легчайших условиях призовых стрельб по неподвижным мишеням на расстоянии всего 2000 ярдов не могли зафиксировать более 5% попаданий.)
Надо отметить, что в первые минуты боя, до того как стали попадать в корабли японские снаряды, русские комендоры действовали четко. Первый пристрелочный выстрел с «Суворова» дал «перелет». Но скоро был найден верный радиус, и, по словам британского морского атташе на борту «Асахи», русские снаряды один за другим стали падать вплотную с японскими броненосцами.
Припоминая положительные отзывы, слышанные им о русской артиллерии, и видя, как прицельно «впритирочку» стреляют русские броненосцы, этот атташе даже подумал в то время, что Того зажал свою эскадру в тесный угол. В самом деле, если бы уже попавшие в цель русские снаряды взрывались, как положено, т.е. в большей своей пропорции, то результат боя мог бы стать другим (в целом в бою из двадцати четырех 12-дюймовых и тридцати шести 6-дюймовых попавших снарядов, отмеченных русскими, восемь и шестнадцать не взорвались).
Русские, в особенности офицеры-артиллеристы, приписывали свое поражение плохим дальномерам. Есть много примеров, когда поставлявшиеся на флот дальномеры были действительно плохи или по крайней мере плохо калиброваны и обслуживались людьми, специально не обученными обращению с ними. Но японцы были не намного лучше. Предположение русских, что у их противников был стереоскопический прибор Цейса (противопоставляемый системе раздвоенного изображения Барра и Страуда), надо принимать с осторожностью. Во-первых, потому, что на сей счет нет прямых свидетельств (в Порт-Артуре японцы использовали систему Барра и Страуда), а во-вторых, потому, что система Цейса, хотя и замечательная во многих отношениях, имела свои недостатки. Скорее всего, японские дальномеры лишь с большой натяжкой можно было назвать лучше русских, и то же самое можно сказать и об их орудийных прицелах. «Миказа» и его соратники по эскадре потратили 10 минут, чтобы определить дистанцию, а это говорит о том, что японская артиллерия должна была еще пройти большой путь, прежде чем она вышла бы на стандарты, которых достигли Британия и Германия накануне Первой мировой войны.
Как только японские корабли начали осыпать дождем снарядов русские корабли, артиллерия последних стала давать сбои: брызги воды, дым, взрывы разбили оптические приборы, коммуникации были нарушены, люди, задачей которых были спокойные вычисления, оглушались шумом и ударами. Вероятно, здесь и лежала главная причина того, почему русские не показали в полной мере, на что способны их орудия. Однако сам факт, что японцы выиграли начало сражения (и инициативу), приводит к мысли, что японская артиллерия была все-таки сильнее.
Во Введении к настоящей книге достаточно сказано, почему русские матросы оказались менее эффективны, чем японские. Эта неадекватность, проистекавшая в значительной степени из особенностей самого русского общества, имела причинами отсутствие боевого опыта и физическое плюс психологическое воздействие длительного перехода из Либавы. Может быть, это даже удивительно, что русские после этого еще так хорошо сражались, особенно когда ко всем их испытаниям прибавился еще газ шимозы.
Вот что сказал об этом доктор Юшкевич, побывавший в этом бою: « При вдыхании газов происходил феномен, похожий на жестокий приступ кашля, как при сильных бронхитах; это сопровождалось покраснением лица. Такое состояние продолжалось довольно долго, и многие утверждали, что впоследствии они долго испытывали головную боль и жажду. Следовательно, газы также оказывали и психологическое воздействие».
Все русские офицеры (исключая Семенова) не имели свежего боевого опыта. Некоторые из них были совершенно неумелыми даже в мирных условиях. Но если бы, скажем, Рожественский больше доверял своим капитанам, посвящая их в свои мысли и планы, то, вне всякого сомнения, многие из них лучше бы справились со своей задачей. Одним из минусов русских офицеров младшего и среднего звена было отсутствие у них опыта вождения судна: им только позволялось присутствовать и наблюдать, стоя на мостике. Поэтому, когда старшие офицеры в бою бывали убиты или ранены, управление кораблем брали на себя младшие офицеры, которые прежде и штурвала в руках не держали.
Любой анализ сражения неизбежно приводит нас к характеру и компетенции самого адмирала. Рожественский был очень сложным человеком и не совсем подходил для своей задачи психологически. Но, как написал один английский адмирал в «Дейли телеграф» накануне сражения: «Нет ни одного британского адмирала, который мог бы сделать то, чего Россия хочет теперь от Рожественского».
Многие из нападок, обрушившихся впоследствии на Рожественского, были справедливы, но другие были не по делу. Возьмем сначала последние: его нежелание обсуждать свою тактику и проблемы с командирами было непростительно. Не верно, что они все были настолько некомпетентны, что всякое совещание с ними было бесполезно. Также непростительно было с его стороны не сообщить Небогатову о смерти Фелькерзама и, следовательно, о вступлении Небогатова в должность заместителя командира эскадрой. Его пристрастие красить трубы в желтый цвет, кажется, идет на руку тем, кто утверждает, что он был ненормальный.
И все же совершенная правда, что среди его командиров были люди несведущие, что сигналы были ненадежные (как, впрочем, на всех флотах) и что несколько его судов, машин и котлов держались на честном слове. Кроме того, не верно, что у Рожественского не было никакого плана. Возможно, понимая, что после битвы при Раунд Айлэнд Порт-Артурская эскадра могла бы пробиться к Владивостоку, если бы ее нервы не сдали в критический момент, Рожественский решил, что он тоже может достичь своей цели, если только его эскадра не позволит дезорганизовать себя вражескими атаками. Не питая доверия к своим капитанам, механикам, сигнальщикам, он не пускался ни в какие храбрые маневры, предпочитая двигаться вперед, покуда возможно.
Это можно объяснить и понять, потому что он еще не почувствовал на собственном опыте разрушительной силы атак Того. Его одержимость перегружаться углем тоже, по-моему, критиковалась несправедливо. (Впоследствии многие офицеры доказывали, что у них было много больше угля, чем нужно, чтобы дойти до Владивостока. Но Рожественский хорошо знал, что несколько часов работы машин на полном ходу или продырявленная дымовая труба могут в одночасье свести весь запас угля на нет, зато корабли с полным бункером могут поделиться углем с теми, кто испытывает в нем нужду.)
Как бы то ни было, хоть свидетельства и расходятся, есть основания считать, что ко дню сражения корабли уже сожгли свой сверхзапас угля и находились просто в состоянии полной заправки, хотя и это, в общем, было слишком много в условиях боя.
Опять-таки, неудача Рожественского с сигнализацией в ходе боя, может быть, обернулась далее к лучшему: как показал опыт Первой мировой войны, в пылу сражения эти сигналы могут быть не так истолкованы. Его часто приводимое утверждение, что Того не посмеет атаковать его, говорилось только для того, чтобы ободрить других. Более откровенно звучит другое его высказывание, а именно: он не строил никаких тактических планов, ибо знал, что преимущество японцев в скорости лишает русских любой инициативы. Но даже если бы Рожественский воистину верил, что лучшая тактика – избегать всяких маневров, он все-таки должен был бы на всякий случай приготовить какие-то альтернативы. По-видимому, в нужный момент ему изменила способность аналитического мышления, так необходимая командиру в боевой обстановке. Ведь если Того даже имел преимущество в скорости, то Рожественский и тут смог бы высказать какие-то идеи насчет своей тактики, которая давала бы возможность из многих зол выбрать наименьшее, коль скоро дело складывалось не в его пользу. Даже при неумении его капитанов бойко управлять кораблем (недостаток, так и не исправленный Рожественским, хотя для этого им было предоставлено несколько месяцев) знающий адмирал наверняка предпринял бы какие-то более осмысленные маневры, чем его странные первые ходы и последующая пассивность.
Короче, Рожественский. столкнулся с почти непреодолимыми обстоятельствами и не смог подняться над ними. Он был, пожалуй, «лихим моряком», но ему недоставало понимания того, что в войне с Японией эскадра на Балтийском море – это лучший козырь, нежели эскадра на дне Японского моря.
И если правда, что окончательная ответственность за продолжение похода на восток даже после падения Порт-Артура лежит па Морском министерстве, Рожественский (который, кажется, гордился своей прямотой) мог бы пожертвовать своей карьерой и отказаться идти дальше. Казалось, он был неспособен думать аналитически и прямо, но слишком много внимания уделял вопросам чести и слишком мало военным вопросам. Правда, в защиту самого ведения им боя нужно вспомнить, что переход из Либавы – неоспоримое его достижение – сильно отразился на нем физически и умственно. Остается не совсем ясно, пережил ли он нервный срыв на самом деле, но очевидно одно: после ухода из Мадагаскара 2-ю эскадру вел человек, очень нуждавшийся в длительном отпуске.
С наступлением темноты 16 мая Рожественского в полубессознательном состоянии увозили с района боя на миноносце «Буйный». Фактически он потерял командование эскадрой, уже когда «Суворов» на ранней стадии боя был выведен из строя (управление эскадрой перешло к Небогатову лишь через несколько часов). Тем временем Того уводил свои броненосные силы на север, чтобы избежать возможных ночных атак со стороны миноносцев, как русских (намеренно), так и японских (по ошибке). В это время японские торпедные суда двигались к уцелевшим русским кораблям с севера, юга и востока. Русскую линию возглавлял «Орел», который держал путь на запад. Крейсера шли в кильватерном строю, следуя за броненосцами, а в трех тысячах футов слева за ними двигался отряд транспортов.
Чтобы избежать торпедных атак, в 7.30 утра русские повернули налево, но одни сделали это поворотом «одновременно», а другие «последовательно». По мере движения на юг корабли постепенно снова вытянулись в одну линию; на сей раз ведущим стал флагман «Император Николай I» с контр-адмиралом Небогатовым на борту. (Судя по свидетельству адмирала Небогатова, скорость уцелевших судов теперь зависела от того, сколько узлов мог выдавать флагман.)








