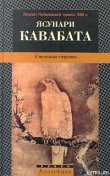Текст книги "Кимоно"
Автор книги: Джон Пэрис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава II
Медовый месяц
Утром, проснувшись,
Не трону я гребнем волос:
Для них изголовьем
Была, их касалась рука
Нежно любимого.
Баррингтоны покинули Англию для продолжительного свадебного путешествия; Джеффри мог теперь привести в исполнение свой любимый проект поездки за границу. Так попали они в число англичан вне Англии, которых беспокойная потребность движения переносит с места на место между Парижем и Нилом. Джеффри отказался от военной службы. Друзья его находили это ошибкой. Бросать начатую карьеру, даже если она не соответствует стремлениям, – серьезная ампутация и влечет за собой нечто вроде духовного кровотечения. Он отказался и от предложения отца поселиться в его поместье, потому что лорд Брэндан был неприятным старым джентльменом, любителем местных трактиров и трактирных девушек. Его сын хотел держать свою молодую жену как можно дальше от сцен, которых сам искренне стыдился.
Прежде всего направились в Париж, который Асако обожала; ведь он был родным для нее местом. Но на этот раз она познакомилась с таким Парижем, о котором знала разве по сказкам и во время жизни в монастырском пансионе и за надежной оградой виллы Мурата. Она была очарована театрами, магазинами, ресторанами, музыкой и жизнью, как будто танцующей вокруг нее. Ей хотелось снять апартаменты и прожить там до конца дней.
– Но сезон кончается, – говорил ее муж, – и все уедут.
Не привыкнув пока к своей свободе, он чувствовал еще себя обязанным делать то же, что и все.
Перед отъездом из Парижа они поехали с визитом на виллу в Отейле, где Асако жила столько лет.
Мурата был директором крупной японской фирмы в Париже. Почти всю жизнь он провел за границей и последние двадцать лет, если не принимать во внимание низкий рост и узкие глаза, он выглядел французом, со своей бородкой a’I’imperiale и быстрыми птичьими жестами. Его жена была японкой, но тоже не сохранила никаких следов национальной манерности.
Асако Фудзинами была привезена в Париж своим отцом, который здесь и умер еще молодым человеком. Он вверил свое единственное дитя попечениям семьи Мурата, требуя, чтобы она была воспитана на европейский лад, не имела общения с родственниками в Японии и, во всяком случае, была выдана замуж за человека белой расы. Он завещал ей все свое состояние, и доходы регулярно высылались Мурата токийским агентом, чтобы быть употребленными на нужды наследницы так, как найдет лучшим опекун. Эти деньги были единственной связью между Асако и ее родной страной.
Оторвать дитя от семьи, важным членом которой оно должно было оказаться в силу юридических и материальных связей, было, на взгляд всякого порядочного японца, актом столь революционным, что даже просвещенный Мурата возроптал. В Японии индивидуум значит так мало, а семья так много. Но Фудзинами настаивал, а ведь неповиновение воле умирающего влечет за собою проклятие «гневного духа» и всевозможные дурные последствия.
Так Мурата приняли Асако и полюбили ее, насколько их сердца, завядшие вдали от родины и неестественных условий жизни, способны были любить. Она стала дочерью хорошо воспитанной французской буржуазии и воспитывалась строго и вместе с тем мягко, с особенным вниманием к естественному росту ее мысли и индивидуальности.
Домашний очаг Мурата произвел на Джеффри Баррингтона не особенно приятное впечатление. Он удивлялся, как такой яркий цветочек, как Асако, мог быть взращен в такой мрачной обстановке. На вилле царствовал дух внешне приличной скупости и рабского подражания вкусам и привычкам парижских друзей. Жилые комнаты были так же безлики, как и номера в гостинице. Изобиловали нейтральные краски, безобразно темные и кошмарные растительные образчики на коврах, обивке мебели и обоях. Замечалась любовь к покрывалам – чехлам для кресел, диванов, скатертям для столов, салфеткам для ламп и ваз, чехлам для подушек, подставкам ламповым, подставкам для ваз и вообще ко всяким сортам декоративных тряпок. Повсюду тяжелый запах скрытой пыли, говорящей о недостаточной численности прислуги и поверхностном подметании. Ни одного украшения или картины, которые напоминали бы о Японии или служили ключом к личным вкусам хозяев.
Джеффри думал, что будет свидетелем трогательной сцены между своей женой и ее приемными родителями. Нет, приветствия были вежливые и с соблюдением правил. Нарядом и драгоценностями Асако восхищались, но без той нотки досадливой зависти, которая часто пробивается в самых сдержанных разговорах английских дам. Потом в мрачном расположении духа сели за завтрак, съеденный в совершенном молчании.
После завтрака Мурата увел Джеффри в свой каменистый сад.
– Я думаю, что вы будете довольны нашей Асако-сан, – сказал он, – ее характер еще пластичен. В Англии это не так, но во Франции и в Японии мы говорим, что характер жены должен воспитать муж. Она чистая белая бумага: пусть он возьмет кисть и пишет, что ему угодно. Асако-сан – очень милая девушка. Ею легко руководить. У нее очень хорошие наклонности. Она не лжет беспричинно, не заводит дружеских связей с неподходящими людьми. Не думаю, чтобы вам было трудно с ней.
«Говорит о ней, почти как о лошади», – думал Джеффри.
Мурата продолжал:
– Японская женщина – плющ, обвивающийся вокруг дерева. Она не стремится к самостоятельности.
– Так вы думаете, Асако до сих пор остается японкой? – спросил Джеффри.
– Не по манерам, не по взглядам, даже не по мыслям, – отвечал Мурата, – но ничто не может изменить сердца.
– Вы думаете, она испытывает иногда тоску по своей родине? – спросил муж.
– О нет, – улыбнулся Мурата. Сморщенный человечек был полон улыбок. – Она оставила Японию, не будучи и двух лет от роду, и вовсе ничего не помнит.
– Я думаю, мы когда-нибудь отправимся в Японию, – сказал Джеффри, – когда нам надоест Европа, вы понимаете? Говорят, это восхитительная страна, и, конечно, нехорошо, что Асако ничего о ней не знает. Кроме того, я хотел бы ознакомиться с ее имущественным положением.
Мурата уставился на свои желтые ботинки в затруднении. Англичанина внезапно поразила мысль, что он, Джеффри Баррингтон, стал родственником людей, похожих на этого человека, что они имеют право называть его своим кузеном. Он вздрогнул.
– Вы можете довериться ее адвокату, – сказал японец. – Мистер Ито – один из моих старых друзей. Можете быть совершенно спокойны, деньги Асако целы.
– О да, конечно, – подтвердил Джеффри, – но каково ее состояние, точно? Думаю, я должен это знать.
Мурата начал нервно смеяться, как все японцы, когда они смущены.
– Mon Dieu![5]5
Боже мой (франц.).
[Закрыть] – воскликнул он. – Я и сам не знаю. Деньги высылались регулярно почти двадцать лет, и мне известно, что Фудзинами очень богаты. Право, капитан Баррингтон, мне кажется, что Асако не понравится Япония. Последнее желание ее отца было, чтобы она никогда не возвращалась туда.
– Но почему? – спросил Джеффри. Он чувствовал, что Мурата хотел, чтобы Асако совсем забыла, что была японкой. – Да, но теперь она замужем и ее будущее определено. Притом она не возвратится навсегда в Японию, а только для того, чтобы посмотреть ее. Япония, наверное, понравится нам обоим. Говорят, это великолепная страна.
– Вы очень любезны, – сказал Мурата, – отзываясь так о моей родине. Но иностранец, женившись на японке, счастлив, только оставаясь в своей стране, и японка, вышедшая замуж за иностранца, счастлива только вдали от своей. В Японии им хорошо не будет. Национальная атмосфера в Японии слишком сурова для неяпонцев или полуяпонцев. В ней они увядают. Кроме того, жизнь в Японии очень бедна и сурова. Мне она не нравится самому.
Джеффри все-таки не мог счесть все это действительной причиной. Ему не случалось прежде долго разговаривать с японцами; но теперь он чувствовал, что, если все они так уклончивы, неестественны, скрытны, ему лучше держаться подальше от родственников Асако.
Ему интересно было знать, что на самом деле думает его жена о Мурата, и по дороге в гостиницу он спросил:
– Ну, девочка, хотелось бы вам вернуться и жить в Отейле? – Она покачала головой. – Но ведь приятно думать, что вы всегда можете найти родной дом в Париже, не правда ли? – продолжал он, желая вызвать признание, что для нее родной дом только в его объятиях – стиль разговора, который был для него «вином жизни» в этот период.
– Нет, – отвечала она с мягкой дрожью, – я не считаю это родным очагом.
Джеффри был немного смущен таким отсутствием чувствительности, и кроме того, разочарован, не получив точно такого ответа, какого ожидал.
– Почему, разве там было нехорошо? – спросил он.
– О, некрасиво и неудобно, – сказала она, – они так не любят тратить деньги. Когда я мыла руки, они говорили: не мыльте слишком много, это лишнее.
Асако походила на заключенного, выпущенного на солнечный свет. Она пугалась мысли быть брошенной опять в темноту.
В новой жизни все делало ее счастливой, то есть все новое, все, что давали ей, что-нибудь вкусное для еды или питья, что-нибудь мягкое и красивое из одежды. А муж ее был наиболее очаровательной новинкой. Он был гораздо приятнее леди Эверингтон, потому что не говорил постоянно «не надо» и не делал тонких замечаний, которых она не могла понять. Он давал ей полную самостоятельность и все, что ей нравилось. Он напоминал ей большого ньюфаундленда, бывшего ее рабом, когда она была еще маленькой девочкой.
Он забавлялся с ней, как играл бы с ребенком, наблюдал, как она примеривает украшения, прятал от нее и заставлял находить вещицы, держал их над ее головой, чтобы она прыгала за ними, как собачка, раскладывал ее сокровища для бесконечных частных выставок, которые поглощали такую значительную часть ее времени. Тогда она звонила и требовала, чтобы все горничные пришли и смотрели; и Джеффри должен был стоять посреди этой женской толпы, прислушиваясь к хору всех этих «Mon Dieu» и «Ah, que c’ext beau»[6]6
О, как это прекрасно! (франц.).
[Закрыть] и «Ah! qu’elle est gentille»[7]7
О, как она мила! (франц.).
[Закрыть], похожий на Гектора, зашедшего в гинекей[8]8
Женская половина дома.
[Закрыть] Приамова дворца. Он чувствовал себя, может быть, поглупевшим, но очень счастливым, счастливым наивным счастьем своей жены, ее привязанностью, которая угадывалась без всяких умственных усилий, исследований и изысканий, за которые ему приходилось приниматься не раз, чтобы не отстать от лукаво флиртующих красавиц салона леди Эверингтон.
Асако вся сияла счастьем. Но будет ли она счастлива всегда? Были обстоятельства, с которыми следовало считаться, – болезнь, рождение и воспитание детей, скрытое, постепенное изменение к тому, что раньше любили, разрушительные посторонние влияния, привлечение и отталкивание так называемых друзей и врагов и все, что усложняет примитивную простоту брачной жизни и разрушает Эдем медового месяца. Адам и Ева в садах мироздания могли слышать голос Бога в шелесте вечернего ветерка; они могли жить без борьбы и честолюбия, без подозрений и упреков. У них не было ни родственников, ни братьев, ни сестер, ни теток или опекунов, ни одного друга, чтобы проложить дорогу клевете или постоянно стараться вырвать их из объятий друг друга. Но первое влияние, которое проникает через стены их рая, первое существо, с которым они говорят, которое обладает человеческим голосом, вернее всего окажется сатаной, тем старым змеем, который был лжецом и клеветником искони и чьи советы неминуемо влекут за собой изгнание от лица Бога и мрачную жизнь труда и страдания.
Было маленькое облачко на небе их счастья. Джеффри был склонен надоедать Асако ее родиной. Его сведения насчет Японии были почерпнуты главным образом из музыкальных комедий. Он охотно называл жену Юм-Юм или Питти-Синг. Он прикрепил конец одной из ее черных вуалей себе под шляпу и спрашивал, больше ли он ей нравится с косичкой.
– Капитан Джеффри, – печально сказала она, – это китайцы носят косы; они совсем дикий народ.
Потом он хотел назвать ее своей маленькой гейшей, но она не согласилась, потому что знала от Мурата, что гейши – нехорошие женщины, которые отнимают у жен мужей, а это совсем не забавное дело.
– Что за пустяки! – воскликнул Джеффри, ошеломленный этим внезапным отпором. – Они милые, маленькие штучки, как вы, дорогая, приносят чай и машут веерами над вашей головой, и я рад был бы иметь их двадцать, чтоб они служили вам.
Он дразнил жену, подозревая в ней пристрастие к рису, к палочкам, которыми едят китайцы, бумажным веерам и джиу-джитсу. Ему нравилось дразнить ее, как дразнят ребенка, едва не доводя до слез. У Асако тоже слезы были не очень далеко от смеха.
– Почему вы мучите меня? За то, что я японка? – почти плакала она. – Но ведь на самом деле это не так! Что мне делать, что мне делать!
– Но, милочка, – говорил ей капитан Джеффри, внезапно устыдясь своего юмора, достойного слона, – о чем же тут плакать? Я бы гордился, если бы был японцем. Они отличный, храбрый народ. Они задали русским великолепную взбучку.
Ей было приятно, что он хвалит ее народ, но она все же сказала:
– Нет, нет, они вовсе не такие. Я не хочу быть японкой. Я не люблю их. Они безобразные и злые. Почему мы не можем выбирать, кем быть? Я хотела бы быть английской девушкой или, пожалуй, французской, – прибавила она, вспомнив о Рю де-ля-Пе.
Они оставили Париж и поехали в Довилль. И там-то впервые вполз в Эдем змей, нашептывающий о запрещенном плоде. Этим змеем были очень милые люди, развлекающиеся мужчины и изящные женщины, только и думавшие, что о знакомстве с сенсационной парой – японской миллионершей и ее представительным супругом.
Асако завтракала с ними, и обедала с ними, и сидела у моря в таких восхитительных купальных костюмах, что просто стыдно было бы их замочить. Сравнивая себя с окружающими ее стройными «русалками» и осознав недостатки своего тела, Асако вернулась к кимоно, к большому удивлению мужа; и «русалки» должны были признать себя побитыми.
Она прислушивалась к их разговорам и научилась при этом сотне вещей, но еще по крайней мере сотня осталась скрытой для нее.
Джеффри предоставил жене развлекаться самой в космополитическом обществе французского купального курорта. Он хотел этого. Все жены, которых он знал прежде, казалось, веселились больше, когда были вдали от мужей. Он не совсем верил в дух взаимного обожания, который ниспослали боги ему и его жене. Может быть, это был болезненный симптом. Еще хуже: это могло быть дурным тоном. Пусть Асако будет естественной и веселится сама; не надо обращать их любовь в какой-то дом заключения.
Но он чувствовал себя очень одиноким без нее. Нелегко было найти себе занятие, если ее присутствие не помогало ему в том. Он бродил взад и вперед по эспланаде и иногда пускался в смелые плавания по морю Он часто становился добычей скучающих людей, которые всегда водятся в приморских местах у себя и за границей, высматривая одиноких и вежливых людей, чтобы нагружать их своими разговорами.
Все они, казалось, или были сами в Японии, или имели друзей и родных, которые досконально знали страну.
Удивительная земля, уверяли они. Народ будущего, сад Востока; но, конечно, капитан Баррингтон сам хорошо знал Японию. Нет? Нет. Никогда не был там? Ах, наверное, миссис Баррингтон описала ему все. Не может быть! В самом деле? С тех пор как была младенцем? Это необычайно! Очаровательная страна, такая спокойная, такая оригинальная, такая живописная, настоящее место для отдыха, и потом, японские девушки, маленькие «мусме», в их ярких кимоно, носящиеся вокруг, как бабочки, такие милые, мягкие и любезные. Но нет! Капитан Баррингтон – женатый человек; это не для него. Ха, ха, ха!
Пожилые прожигатели жизни, отогревавшиеся, как февральские мухи, на солнце Довилля, казалось, имели особенно богатые воспоминания о населении чайных домиков и о восточных любовных похождениях под вишневыми деревьями Йокогамы. Ясно, Япония та же, что в оперетках.
Джеффри начинал стыдиться, что не знает родины своей жены. Кто-то спросил у него, что такое, собственно, бусидо. Он ответил наудачу, что это делается из риса с приправами. По веселой реакции на его объяснение он понял, что попался на удочку. Тогда он попросил наиболее ученого из своих скучных знакомых назвать ему несколько книг о Японии. Он хотел проглотить их и получить основные сведения по важнейшим вопросам. Эрудит сразу же одолжил ему несколько томов Лафкадио Хирна и «Мадам Хризантему» Пьера Лоти. Он прочел повесть прежде всего. Сначала пикантную закуску, не правда ли?
Асако увидела книгу. Это было иллюстрированное издание; и маленькие изображения японских сцен так ей понравились, что она принялась читать.
– Это история нехорошего мужчины и дурной женщины, – сказала она, – Джеффри, зачем вы читаете такие вещи? Они приносят вред.
Джеффри улыбнулся. Он сомневался, чтобы общество воображаемой Хризантемы было более вредным нравственно, чем компания настоящей мадам Ларош-Мейербер, с которой его жена была в этот день на пикнике.
– Потом, это несправедливо, – продолжала Асако. – Люди прочтут такую книгу и подумают, что все японские девушки такие нехорошие.
– Но милочка, я не думал, что вы уже прочли это, – сказал Джеффри, – кто говорил вам о ней?
– Виконт де Бри, – отвечала Асако. – Он назвал меня Хризантемой, и я спросила его почему.
– Ах вот как! – сказал Джеффри.
Положительно, пора было покончить с пикниками и «русалками». Но Асако была так счастлива и так явно невинна.
Она вернулась к своему кругу поклонников, а Джеффри – к своему изучению Дальнего Востока. Он прочел книги Лафкадио Хирна и не заметил, что вкусил при этом опиума. Прелестные описания этого мастера поэтической речи в прозе носились перед его глазами, как клубы наркотического дыма. Они убаюкивали ум, как во сне, и сами постепенно слагались в видения страны более прекрасной, чем любая из существующих, – страны оживленных рисом равнин и обрывистых холмов, изящных лесов, красных храмовых ворот, мудрых священников, фантастических сказок, простосердечного, улыбающегося народа, детей, прелестных, как цветы, смеющихся и играющих в мягком солнечном свете, страны, в которой все мило, красиво, миниатюрно, ясно, артистично и безукоризненно чисто, где люди становятся богами не в силу внезапных апофеозов, а просто и легко, естественным течением жизни, – словом, страны, противоположной нашему собственному бедному и неприятному континенту, на котором все чудовищное и отвратительное с каждым днем умножается.
Однажды после полудня Джеффри лежал на террасе гостиницы, читая «Кокоро», как вдруг его внимание было привлечено прибытием автомобиля мадам Ларош-Мейербер с Асако, самой хозяйкой и другими женщинами в глубине. Асако выскочила первая. Она прошла в свой номер, не глядя по сторонам и прежде чем муж успел позвать ее. Мадам Мейербер наблюдала ее бегство, быстрое, как полет стрелы, и пожала своими массивными плечами, прежде чем медленно вылезти самой.
– Все в порядке? – осведомился Джеффри.
– Ничего особо неприятного, – улыбнулась дама, известная в Довилле под именем мадам Цитеры, – но вам лучше пойти и утешить ее. Мне кажется, она увидела дьявола в первый раз.
Он открыл дверь ее солнечной, светлой комнаты и нашел Асако лихорадочно укладывающей вещи и громко рыдающей.
– Моя бедная крошка, – сказал он, обнимая ее, – в чем дело?
Он уложил ее на софу, снял с нее шляпу, распустил платье, и понемногу она пришла в себя.
– Он хотел поцеловать меня, – сказала она, плача.
– Кто? – спросил муж.
– Виконт де Бри.
– Проклятая обезьяна! – воскликнул Джеффри. – Я переломаю все кости в его несчастном теле.
– О нет, нет, – протестовала Асако, – уедем сейчас отсюда. Уедем в Швейцарию, куда-нибудь!
Змей-искуситель заполз в райский сад, но оказался не очень ловким пресмыкающимся. Он слишком рано обнажил ядовитые зубы, и оскорбленная японка сделала один его глаз похожим на импрессионистский солнечный закат, так что несколько дней ему пришлось прятаться, боясь насмешек друзей.
Но и Асако была глубоко поражена в невинности сердца, и понадобились все снежные ветры Энгадина, чтобы сдуть с ее лица горячий след мужского дыхания. Она больше не выходила из-под защиты мужа. Прежде не отвергавшая самой усиленной любезности, теперь она осыпала стены своего оскверненного рая острыми осколками стекла холодной вежливости. Всякий мужчина казался подозрительным: немецкие профессора, собиравшие альпийские растения, горные туристы – маньяки с глазами, прикованными к тем вершинам, на которые еще надо было забраться. У нее не находилось словечка ни для кого из них. Даже мужеподобные женщины, которые играли в гольф, гребли и карабкались по горам, казались ее негодующему взору опасными прислужницами мужских страстей, замаскированными союзницами мадам Цитеры.
– Они все скверные? – спрашивала она Джеффри.
– Нет, девочка, вряд ли. Они слишком безобразны для этого.
Джеффри был доволен ходом событий, сделавшим его опять единственным компаньоном жены. Он был очень рад ее желанию обедать в своем номере и избегать общих комнат. Ему наскучило одиночество в Довилле. Ее прежнее общество он не любил больше, чем признавался себе сам; потому что все это бабье – жалкая компания. Поистине, это-то и был дурной тон.
В это время он нуждался в ней, как в зеркале для своих мыслей и собственной особы. Она следила за тем, чтобы его платье было без пятен и чтобы его галстук был красиво завязан. Разумеется, он всегда переодевался к обеду, даже если они обедали в своей комнате. Она тоже надевала свои новые драгоценности исключительно для его глаз. Она прислушивалась к его словам, налагая запрет на предметы разговора, которых он не решился бы коснуться в беседе с кем-нибудь еще. Она никогда не прерывала его, не обнаруживала невнимания, хотя ее ответы часто бывали странны и невпопад.
Человеку с его характером была очень приятна эта молчаливая лесть. Она, казалось, впитывала в себя его мысли, как промокательная бумага, а он не переставая наблюдал, усиливалось ли или, наоборот, ослабевало впечатление. Он, бывший таким молчаливым среди «гениальных» гостей леди Эверингтон, теперь сразу стал разговорчив, что было простой реакцией его любви к жене, инстинктом, который заставляет петь самцов-птиц. Он продолжал свои разговоры и с каждым днем становился в собственном мнении и в глазах Асако интеллигентнее, оригинальнее и красноречивее.