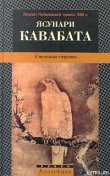Текст книги "Кимоно"
Автор книги: Джон Пэрис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава XIII
Семейный алтарь
Встречи во сне,
Как печальны они,
Когда, пробуждаясь,
Ищешь вокруг —
И нет никого.
Мисс Фудзинами решила добиться дружбы Асако и узнать от нее все, что возможно. Поэтому она сразу пригласила кузину в таинственный дом в Акасаке, и Асако приняла приглашение.
Двери, казалось, сами отворялись как по волшебству перед возвратившейся странницей. За каждой из них был кто-нибудь из слуг семьи, кланяющийся и улыбающийся. Три девушки помогали ей снимать ботинки. Чувствовались ожидание и гостеприимство, что успокаивало робость Асако.
– Добро пожаловать! Добро пожаловать! – распевал хор горничных.
– Просим войти в дом!
Посетительницу ввели в красивую, просторную комнату, выходящую в сад. Она не могла сдержать восклицания удивления, взглянув в первый раз на открывшийся вид. Все было так зелено, так тонко, так изящно – волнистые лужайки, полосы серебристой воды, карликовые леса по ее берегам, и все кончалось уступами скал на заднем плане и высокими деревьями, закрывавшими горизонт и препятствовавшими вторжению безобразного города.
Японцы лучше нас умеют производить месмерические эффекты с помощью видов и звуков. Чтобы дать ей возможность рассмотреть окружающее, Асако оставили одну на полчаса, пока Садако и ее мать убирали волосы и переодевали кимоно. Были принесены чай и бисквиты, но ее фантазия блуждала в саду. В ее воображении крошечный город возник на берегах маленькой бухты, как раз напротив нее. Белые паруса кораблей блестели в солнечных лучах на воде, а у скалистого мыса она видела блеск корабля принца, с высокой кормой и палубой, покрытой чистым золотом. Он плыл, чтобы освободить леди, заключенную на вершине красной пагоды на противоположном холме.
Ноги Асако онемели. Она сидела все это время в корректной японской позе. Она гордилась талантом, который считали наследственным, но все же не могла выдержать более получаса. Вошла мать Садако.
– Добро пожаловать, Асако-сан!
Начались бесконечные поклоны, причем Асако чувствовала свое невыгодное положение. Длинные складки кимоно с огромным шарфом, завязанным сзади, укладывались сами с особенной грацией при поклонах и приседаниях японского приветствия. Но Асако понимала, что ее позы, в короткой голубой жакетке костюма, очень напоминают те, которые в английских книжках с рисунками усвоены негодным маленьким мальчиком, подвергающимся наказанию.
Миссис Фудзинами надела совершенно гладкое кимоно, черно-коричневое, с гладким же золотистым шарфом. Для женщин средних лет в Японии считается приличным одеваться скромно и строго. Она была высокого для японки роста и с широкими костями, с длинным, как фонарь, лицом и почти европейским носом. Дочь была копией матери. Только ее лицо было совершенно овальное, формы дынного семечка, что особенно высоко почитается в ее стране. Строгость ее выражения еще усугублялась темно-синими очками; и как у многих японских женщин, ее зубы были полны золотых пломб. Она вся сияла в голубом кимоно, цвета вод Средиземного моря; гирлянды вишневых цветов и лепестки гвоздики были вышиты на его полах и на концах преувеличенно длинных рукавов. Шарф из толстой широкой парчи отливал голубыми и серебряными волнами света. Он был завязан сзади громадным бантом, который казался присевшей на ее спину гигантской бабочкой, прильнувшей к стеблю цветка. Ее прямые черные волосы были зачесаны в одну сторону на иностранный манер. Но у матери была шлемообразная прическа, больше похожая на парик.
Кольца блестели на пальцах Садако, и поперек шарфа шла бриллиантовая застежка; но ни ценностью, ни вкусом они не могли поразить ее кузину. Ее лицо было такого же цвета слоновой кости, как у Асако, но оно скрывалось под обильным слоем жидкой пудры. Это отвратительное украшение скрывает не только азиатскую желтизну, которую стремится замазать, кажется, всякая японская женщина, но и естественные и очаровательные оттенки молодой кожи под своим однообразным покровом, похожим на глиняную маску. Нарисованные «розы» цвели на щеках девушки. Брови были выведены искусственно, так же как и линии вокруг глаз. Лицо и его выражение были совершенно не видны из-под косметики; и мисс Фудзинами была окутана в облака дешевых ароматов, как горничная в ее выходной вечер. Она говорила по-английски хорошо. Школу она действительно закончила блестяще и даже поступила в университет с намерением добиваться ученой степени – успех, редкий для японской девушки. Но чересчур усиленная работа принесла неизбежные плоды. Книги пришлось изгнать и надеть очки, чтобы предохранять усталые глаза от света. Это было горьким разочарованием для Садако, девушки гордой и честолюбивой, и не улучшило ее настроения.
После первых формальностей Асако повели показывать дом. Одинаковость комнат удивила ее. Единственное различие между ними только в сорте дерева, употребленного на потолок и стены, а его ценность и красота заметны только опытному глазу. Все они были чрезвычайно чисты и совершенно пусты, с золотистыми татами из рисовой соломы на полу; на краях их черная кайма; их количеством определяется площадь японской комнаты. Асако восхищалась палево-белыми шодзи и «фусума», тоже раздвижными перегородками между комнатами, вставленными в рамы дома; некоторые из них прелестно украшены эскизами пейзажей, цветов, человеческих фигур, другие – гладкие кремовые, а края их оттенены тонким золотым бордюром.
Ничто не нарушало одинаковости комнат, кроме двойных альковов, или «токоном», с их неизбежным украшением – висящим рисунком, изображающим цветущую ветвь. Двойные ниши разделялись деревянными колоннами, которые, по объяснению Садако, являлись душой комнаты, их самой характерной чертой: одни были гладкие и солидные, другие перекручены и изукрашены или даже бесформенны, протестующие против утонченности сухими и черными сучками обрезанных веток. Токонома, как показывает само название, было первоначально местом для сна хозяина комнаты, потому что это единственный угол в японском доме, защищенный от сквозного ветра. Но, вероятно, уважение к невидимым духам заставило в конце концов спавших там покинуть свой удобный уголок, предоставить его для эстетических целей, а самим растянуться на полу.
Каждая комната производила впечатление чистоты и обнаженности. Все были строго прямоугольны, как ячейки в пчелином улье. Не было ничего, что указывало бы на индивидуальные привычки и характер лиц, для которых та или другая комната была назначена. Не было также ни столовой, ни гостиной, ни библиотеки.
– Где же ваша спальня? – спросила Асако, смело прося этого доказательства чувств сестры, принятого у западных девушек. – Я так рада была бы посмотреть ее.
– Я обычно сплю, – отвечала японская девушка, – в той комнате на углу, в которой мы только что были, где нарисован бамбук. Это комната, где спят и отец с матерью.
Они стояли на балконе комнаты, в которой Асако была сначала.
– Но где же постели? – спросила она.
Садако прошла на конец балкона и открыла огромный шкаф, сделанный в наружной стене дома. Он был полон свертков – толстых, темных и стеганных ватой.
– Вот постели, – усмехнулась японская кузина. – У моего брата Такеши есть иностранная кровать в его комнате; но отец не любит ни их, ни иностранной одежды, ни иностранных кушаний, ничего иностранного. Он говорит, японские вещи лучше для японца. Но он так старомоден!
– Японский стиль красивее, – сказала Асако, представляя себе, как большая и грубая кровать выделялась бы в этой чистенькой пустоте и как ее железные ножки рвали бы эти соломенные подстилки, – но разве не дует и не неудобно?
– Мне иностранные кровати очень нравятся, – сказала Садако, – брат мне давал попробовать.
Итак, в стране отцов Асако «пробуют», что такое кровать, как если бы она была поразительным изобретением вроде велосипеда или фортепиано.
Кухня сильнее всего привлекла гостью. Для нее это было единственное помещение в доме, имевшее свою индивидуальность. Она была велика, темна, высока и полна служанок, сновавших по ней, как мыши; при приближении обеих хозяек они кланялись и исчезали. Асако заинтересовали особые печи для варки риса, круглые железные чаны, как европейские котлы, стоявшие каждый на особом кирпичном очаге. Все надо было объяснять ей: наверху была подвешена странная посуда из белого металла и белого дерева; бутылки саке и «шойу» (соусы) с яркими этикетками неподвижно расположились в темноте, как депутация от дружественного общества в ее официальных одеждах; молчаливые банки с чаем, зеленоватые и исписанные странными знаками – именами знаменитых чайных фирм; железный котел, привешенный цепями к балке над очагом для угля, вырытым в полу; изящные формы самых простых глиняных кувшинов; маленькая доска и тарелка для стругания сырой рыбы; чистые, белые рисовые ящики с медными обручами, полированные и блестящие; странность формы и совершенно японские особенности отличали самые обычные вещи и придавали сидящим на корточках слугам сказочно романтический вид, а большим деревянным ложкам – сходство с орудиями колдовства; наконец, маленький алтарь кухонному божку, укрепленный на полке у самого потолка, имел фасад кукольного храма и был украшен медными сосудами, сухими травами и полосками белой бумаги. Вся обширная кухня была пропитана запахом, с которым уже освоился нос Асако, ароматом, наиболее типичным для Японии: это – запах туземной стряпни, влажный, острый и тяжелый, как дым сырых дров; к нему примешивается что-то кислое и гнилостное от заготовленной впрок редьки дайкон, милой японскому вкусу.
Центральной церемонией приема Асако было ее приобщение к культу умерших родителей. Ее привели в маленькую комнату, где в алькове, почетном месте, помещался запертый ящик «бутсудан» прекрасной столярной работы, покрытый, как решеткой, полосами красного лака и золота. Садако подошла и благоговейно открыла этот алтарь. Внутренность вся сияла ослепительным золотом, таким, какое встречается на древних рукописях. В центре этого блеска сидел Будда с золотым лицом, в темно-синем платье и с волосами такого же цвета, в ореоле золотых лучей. Под ним были расположены ихай – таблицы смерти, миниатюрные надгробные плиты, около фута высотой, с черной, обрамленной золотом поверхностью, на которой написаны имена умерших, новые имена, данные священниками.
Садако ступила назад и трижды сжала ладони рук, повторяя формулу секты буддистов Ничирен.
– Поклонение дивному закону лотосовых письмен! – Она велела Асако сделать то же самое. – Потому что, – сказала она, – мы верим, что духи умерших здесь, и мы должны очень заботиться о них.
Асако повторила, раздумывая, не наложил ли бы на нее исповедник покаяния за это идолопоклонство. Затем Садако усадила ее на пол. Она взяла одну из таблиц и поставила перед кузиной.
– Это ихай вашего отца, – сказала она, потом, вынимая другую и ставя рядом с первой, прибавила:
– Это ваша мать.
Асако была глубоко тронута. В Англии мы любим наших умерших, но мы предоставляем их заботам природы, смене времен года и холодному смешению с почвой кладбища. Японские умершие никогда не покидают своего места в доме и в кругу семьи. Мы несем нашим мертвым цветы и молитвы; но японцы дают им пищу, питье и ежедневные беседы. Общение теснее. Мы много болтаем о бессмертии. Мы верим, многие из нас, в посмертную жизнь. Мы даже думаем, что в ином мире мертвый может встретить умершего, которого знал при жизни. Но действительное общение живых и мертвых для нас скорее прекрасная и вдохновенная метафора, чем живая вера. Ну а японцы, хоть их религия настолько ниже нашей, даже не ставят вопроса о возможности близкого общения предков с их детьми и внуками. Маленькие погребальные таблицы заключают в себе для них невидимую индивидуальность.
«Это ваша мать». Асако была под влиянием окружающего. Ее память стремилась оживить то, что еще не было окончательно забыто. Как раз в этот момент появилась миссис Фудзинами, неся старый альбом с фотографиями и сверток шелка. Вид у нее был такой торжественный, что всякий человек, менее наивный, чем Асако, заподозрил бы, что сцена была заранее разучена. В тишине и очаровании этой маленькой комнаты духов лицо старухи казалось мягким и добрым. Она открыла альбом посередине и поставила его перед Асако.
Она увидела портрет японской девушки, сидящей в кресле; мужчина стоял рядом, положив руку на спинку. Она сразу узнала отца: широкий лоб, глубокие глаза, орлиный нос, выдающиеся скулы и тонкие, саркастические губы; это совсем не обычное японское лицо, это тип, попадающийся в нашем переутонченном свете, культурный, печальный, останавливающий на себе внимание. Асако очень мало имела с ним общего, потому что характер отца был отлит в форму или перекован двумя могучими силами – его мыслью и его болезнью. Дочь, к ее счастью, не получила этого мрачного наследия. Но никогда прежде она не видала лица матери. Иногда она пыталась представить себе, какая была ее мать; что она думала, пока развивался в ней ребенок, и с какой тоской отдала свою жизнь за его. Но чаще она рассматривала себя как существо, не имеющее матери, дитя чуда, принесенное в мир солнечным лучом или рожденное цветком.
Теперь она видела лицо, дышавшее для нее страданием и смертью. Оно было бесстрастное, кукольное и очень молодое, чистый овал по очертаниям, но лишенное выражения. Крохотный рот был самой характерной чертой, но он не был оживлен улыбкой, как у дочери. Он был сжат, сужен, нижняя губа подтянута.
Фотография была, очевидно, свадебным сувениром. Мать была одета в черное кимоно невесты и многочисленные нижние платья. Что-то вроде маленькой карманной книжки с серебряными украшениями, привешенными к ней, старинный символ брака, было помещено на ее груди. Голова была покрыта странным белым колпаком, похожим на шапочку из рождественской хлопушки. Она сидела, выпрямившись на краю своего неудобного кресла, и казалась переполненной важностью этой минуты.
«Любила ли она его, – думала дочь, – как я люблю Джеффри?» Пользуясь Садако как переводчицей, миссис Фудзинами рассказала, что имя матери Асако было Ямагата Харуко (Дитя Весны). Ее отец был самурай в старые дни, когда носили два меча. Фотография ей не нравилась. Вышло слишком серьезно.
– Как вы, – говорила старуха, – она всегда улыбалась и была веселой. Отец моего мужа часто называл ее «Сами» (Цикада), потому что она всегда напевала песенки. Ее выбрали для вашего отца, потому что он был так печален и молчалив. Думали, что она сделает его веселее. Но она умерла, и он стал печальнее, чем был.
Асако заплакала. Она почувствовала прикосновение руки кузины к своей. Рассудительная мисс Садако тоже плакала; слезы разрушали ее белейший цвет лица. Японцы очень чувствительная нация. Женщины любят плакать; и даже мужчины не отказываются от этого очень естественного выражения чувств, которое англосаксонцы выучились презирать как что-то детское. Миссис Фудзинами продолжала:
– Я видела ее за несколько дней до вашего рождения. Они жили в маленьком доме на берегу реки. Можно было видеть плывущие лодки. Было очень сыро и холодно. Она говорила все время о своем ребенке. «Если это мальчик, – говорила она, – все будут довольны, если девочка – Фудзинами-сан будет очень огорчен из-за семьи, а предсказатели говорят, что будет, наверно, девочка. Но, – прибавляла она обыкновенно, – я охотнее играла бы с девочкой: я знаю, что их забавляет!» Когда вы родились, ей стало очень плохо. Она больше не говорила и через несколько дней умерла. Ваш отец стал как сумасшедший, он запер свой дом и не хотел никого из нас видеть, и как только вы окрепли, он взял вас и увез на корабле.
Садако положила перед кузиной сверток шелка и сказала:
– Это японское оби. Оно принадлежало вашей матери. Она дала его моей матери незадолго до вашего рождения; потому что она говорила: «Это слишком роскошно для меня; когда у меня будет ребенок, я откажусь от общества и все время буду проводить с детьми». Моя мать передает его вам от вашей матери.
Это было чудесное произведение искусства: тяжелая золотая парча, вышитая веерами, и на каждом веере японское стихотворение и маленькая картинка старых времен.
– Она очень любила это оби, а стихи выбирала сама.
Но Асако не восхищалась прекрасной работой. Она думала о материнском сердце, которое билось для нее под этой длинной полосой шелка, о маленькой матери-японке, которая сумела бы забавлять ее. Слезы тихо падали на старый шарф.
Обе японки видели это и с инстинктивным тактом их нации оставили ее наедине с этим странным представителем ее матери. Есть для нас особое трогательное очарование в одеждах умерших. Они так близко связаны с нашим телом; кажется почти неестественным, что они с упорством бездушных вещей остаются и тогда, когда те, что давали им видимость жизни, сами становятся более мертвыми, чем они. Может быть, было бы правильнее, если бы все вещи, связанные с нами тесно, погибли с нами же вместе на костре. Но страсть к реликвиям никогда не потерпела бы такого полного исчезновения тех, кого мы любили, и то, что мы храним волосы, украшения и письма, есть отчаянная и, может быть, не совсем бесплодная попытка задержать освободившуюся душу на ее пути в бесконечное.
Асако понимала, что этот убор матери приносил ей гораздо более верное отражение жизни, отданной за нее, чем аляповатая фотография. Она выбирала стихи сама. Асако может дать их списать и перевести, они будут верным указанием на характер ее матери. И теперь дочь могла уже видеть, что мать любила богатые и красивые вещи, веселье и смех.
Старый мистер Фудзинами называл ее Сэми. Асако еще не слыхала голоса маленьких насекомых, составляющих летний и осенний оркестр Японии. Но она знала, что это что-то веселое и милое; иначе ведь ей не рассказали бы этого.
Она поднялась с колен и нашла свою кузину ожидающей на веранде. Каково бы ни было действительное выражение ее лица, оно совершенно скрывалось за цветными стеклами и слоем белил, возобновленным после разрушительного волнения. Но сердце Асако было покорено могуществом мертвых, живыми представителями которых были Садако и ее семья.
Асако взяла обе руки кузины в свои.
– Так хорошо, что вы и ваша мать подарила мне это, – сказала она, и глаза ее были полны слез, – нельзя было придумать ничего, что доставило бы мне столько удовольствия.
Японская девушка почти готова была начать поклоны и традиционные извинения за малоценность подарка, но вдруг и она почувствовала себя охваченной неизвестной ей до сих под властью, силой западных чувств.
Ее руки сжались сильнее, лицо наклонилось к кузине, и она почувствовала в уголке рта теплое прикосновение губ Асако.
Она отскочила с криком «Йя!»[26]26
Не надо.
[Закрыть], криком оскорбленной японской женственности. Потом она вспомнила свои книги, вспомнила, что поцелуи обычны у европейских девушек, что они знак приветствия и симпатии. Она надеялась, что это не испортило снова цвета ее лица и что никто из служанок не заметил.
Удивление кузины вывело Асако из ее грез, а поцелуй оставил горький вкус пудры на губах, что разрушило очарование совсем.
– Не пойдем ли в сад? – спросила Садако, чувствуя, что свежий воздух будет полезен.
Они взялись за руки; столько фамильярности допускается японским этикетом. Они шли по усыпанным песком дорожкам на вершину холма, где цвели недавно вишни, Садако – в ярком кимоно, Асако – в своем темном платье. Она казалась простым смертным существом, введенным в волшебную долину Титании своенравной феей.
Солнце садилось на ясном небе, одна половина которого была бурным смешением цветов – оранжевого, золотого и красного, другая – теплой и спокойной, с розоватым отливом. Над тем местом, где фокус всего этого сияния опускался в темноту, медлило, покачиваясь, будто задержавшись на невидимой зарубке, пурпурное облачко, как кусочек нимба монарха. Края его были цвета пламени, как если бы часть солнечного огня скрывалась за ним.
Даже с этого высокого места почти ничего не было видно за оградой владений Фудзинами, кроме верхушек деревьев. Вдоль по долине виднелись серые уступы крыш разбросанных домов, а на противоположном холме – высокие деревья и пробивающийся среди них странной формы зубец пагоды. Он походил на серию шляп, нагроможденных продавцом одна на другую. Огни зажглись в доме Фудзинами, еще больше огней виднелось сквозь кусты внизу. Этот мягкий свет, проходя через бумажные стены, давал впечатление сияющего жемчуга. Это свет родного дома японцев, символ его, как у нас пылающий очаг; он зеленоватый, тихий и чистый, как блеск светлячка.
Среди глубокой тишины зазвучал колокол. Как будто невидимая рука ударила по блестящему металлическому небосводу или голос заговорил с облаков на закате.
Девушки спустились к берегу озера; на конце его, не видном из дома, вода была гораздо шире. Зеленые водяные растения росли по берегу, и листья ирисов, теперь черные при закатном свете, поднимались, как шпаги. Была умышленная дикость в этом маленьком уголке, а посреди него стояла избушка.
– Какой прелестный летний домик! – вскричала Асако.
Он похож был на хижину колониста: выстроен из грубых, необтесанных бревен и покрыт соломой.
– Это помещение для чайных церемоний, – сказала ее кузина. Внутри стены были вымазаны глиной; а круглое окно с бамбуковой решеткой выходило в чащу деревьев.
– Совсем как кукольный дом! – воскликнула Асако в восхищении. – Можно туда войти?
– Да, – сказала японка.
Асако вбежала сейчас же и села на светлую циновку. Но ее более предусмотрительная кузина обмахнула местечко носовым платком, прежде чем рискнуть присесть.
– Часто совершаете вы чайные церемонии? – спросила Асако.
Мурата рассказывали ей кое-что об этих таинственных обрядах.
– Два или три раза весной и столько же раз осенью. Но моя наставница приходит каждую неделю.
– Долго вы уже учитесь? – пожелала знать Асако.
– О, с десятилетнего возраста.
– Разве это так трудно? – сказала Асако, находившая, что налить чашку чаю в столовой, не проявив при этом неуклюжести, довольно легко.
Садако снисходительно улыбнулась наивности кузины, ее незнанию вещей эстетических и интеллектуальных. Это было все равно, как если бы спросили, трудна ли музыка или философия.
– Никогда нельзя научиться достаточно, – сказала она. – Учатся всегда, не достигая совершенства. Жизнь коротка, искусство вечно.
– Но ведь это не искусство, как живопись или игра на рояле, – просто налить чай.
– Нет, – опять улыбнулась Садако, – это нечто большее. Мы, японцы, не думаем, что искусство – это делание вещей, какие показывают гейши. Искусство в характере, в духе. И чайные церемонии учат нас воспитывать характер, устранять все уродливое и грубое во всяком движении, в движении рук, в положении ног, во взоре и лице. Мужчины и женщины не должны сидеть и ходить, как животные. Положение их тела, их манеры и движения должны выражать собой поэзию. Вот это искусство чайной церемонии.
– Я хотела бы посмотреть на это, – сказала Асако, возбужденная энтузиазмом кузины, хотя едва ли поняла хоть одно слово из сказанного ей.
– Вы должны научиться кое-чему из этого, – говорила Садако с рвением пропагандиста. – Моя учительница говорит – а она была воспитана при дворе шогуна Токугава, – что ни одна женщина не может иметь хороших манер, если она не изучила чайную церемонию.
Конечно, Асако больше всего на свете желала бы сидеть в этой прелестной чаще в теплые дни наступающего лета и забавляться чайными церемониями с недавно обретенной кузиной. Она очень хотела бы, кроме того, учиться по-японски и помочь Садако во французском и английском.
Обе кузины работали над фундаментом их будущей близости, пока звезды не начали отражаться в озере и ветерок не стал для них слишком прохладным.
Тогда они оставили маленький эрмитаж и продолжали прогулку по саду. Они прошли мимо бамбуковой рощи, длинные перья которой, черные в сумерках, танцевали и кивали, как дочери лесного царя. Прошли мимо маленького домика, закрытого, как Ноев ковчег, откуда доносился монотонный стонущий звук, как жалоба страдания, и ритмические удары деревянной колотушки.
– Что это? – спросила Асако.
– Это дом брата моего отца. Но он незаконный брат, не принадлежит семье. Он очень благочестив. Он повторяет молитву Будде десять тысяч раз каждый день и бьет в «мокуже», барабан вроде рыбы, употребляемый буддийскими священниками.
– Был он на обеде в тот раз? – спросила Асако.
– Нет, он никогда не выходит. Он ни разу не покинул дома за десять лет. Может быть, сумасшедший немного. Но говорят, что он приносит этим счастье семье.
Дальше они подошли к двум каменным столбам, холодным и темным, как надгробные камни. Каменные ступени начинались между ними и вели в темноту, к чему-то похожему на большую собачью будку. Бумажный фонарь висел перед этим сооружением, как большой спелый плод.
– Это что? – спросила Асако.
В наступающих потемках этот чудесный сад становился все волшебнее. В иные моменты ей казалось, что можно встретиться с самим императором в белом одеянии минувших дней и черной изогнутой шляпе.
– Это маленький храм Инари Сама, – объяснила кузина.
На верхней ступени Асако увидела двух каменных лисиц. Их выражение было голодное и коварное. Они напомнили ей – но что именно? Потом она подумала о маленьком храме близ Йошивары, виденном ею, когда она ходила смотреть процессию.
– Молитесь вы здесь? – спросила она кузину.
– Нет, я не молюсь, – отвечала японка, – но служанки зажигают лампу каждый вечер; и мы верим, что это приносит дому счастье. Мы, японцы, очень суеверны. Кроме того, это очень украшает сад.
– Мне не нравятся морды лисиц, – сказала Асако, – они выглядят злыми существами.
– Они и на самом деле злые существа, – был ответ, – никому не нравятся лисицы, они дурны.
– Тогда зачем молиться, если они злы?
– Именно потому, что злы, – сказала Садако, – надо нравиться им. Мы льстим им, чтоб они не вредили нам.
Асако не знала разницы между религией и почитанием демонов и не вполне поняла значения этого замечания. Но впечатление было неприятное, в первый раз за весь день. И она подумала, что, будь она сама хозяйкой этого милого сада, изгнала бы этих каменных лисиц, рискуя навлечь их немилость.
Девушки вернулись в дом. Ставни были закрыты, и он имел вид Ноева ковчега, только лучшего и большего. Маленькое отверстие в деревянной броне было оставлено для их возвращения.
– Пожалуйста, приходите опять, часто, часто, – были последние слова кузины Садако. – Дом Фудзинами – ваш дом. Сайонара[27]27
Прощайте (яп.).
[Закрыть]!
Джеффри ожидал свою жену в зале отеля. Он был обеспокоен ее поздним возвращением. Обнимая, он приподнял ее, к удовольствию бой-санов, которые дискутировали об опоздании окусан и о том, что у нее может быть любовник.
– Слава Богу! – сказал Джеффри. – Что вы делали? Я уже собирался организовать розыски.
– Я была у миссис Фудзинами и Садако, – отвечала Асако, – они долго не отпускали меня, – и она готова была рассказать ему все о портрете матери, но внезапно остановилась и сказала: – У них такой прелестный сад!
Она описала в ярких красках дом своих родных, гостеприимство семьи, любезность кузины Садако и знания, приобретенные от нее. Да, отвечала она на вопросы Джеффри, она видела похоронные таблицы отца и матери и их свадебную фотографию. Но какой-то странный паралич сковал ее уста, и душа ее не высказалась. Она увидела, что совершенно не в состоянии объяснить своему огромному иностранному мужу, как ни любила она его, чувства, испытанные ею лицом к лицу с умершими родителями.
Джеффри никогда не говорил с ней о ее матери. Казалось, у него не было ни малейшего интереса к ее личности. Эти «японские женщины» не казались ему стоящими внимания. Она боялась открыть ему свои тайны и не получить никакого отзыва на свое волнение. Кроме того, у нее было инстинктивное нежелание усиливать в уме Джеффри сознание ее родства с чужими ему людьми.
После обеда, когда она ушла в свою комнату, Джеффри остался один со своей сигарой и своими мыслями.
«Странно, что она так мало говорила о своих отце и матери. Но, верно, они для нее не так много и значат. И, клянусь Юпитером, это хорошо для меня. Не хотел бы я жены, постоянно бегающей к своим родным и собирающей сведения о матери».
Наверху, в спальне, Асако развернула драгоценный оби. Фотография без рамки, шурша, выпала из свертка. Это был портрет отца, одного, снятый незадолго до его смерти. Он был одет в европейский костюм, лицо прозрачное, неземное, глубокие складки у рта и под глазами. На обороте фотографии была японская надпись.
– Здесь ли Танака? – спросила Асако у своей горничной Титины.
Ну разумеется, Танака был здесь – в соседней комнате, приложив ухо к двери.
– Танака, что это значит?
Маленький человек посмотрел на надпись, склонив набок голову.
– Японское стихотворение, – сказал он, – значение очень трудное, много значений. Это, верно, значит: и путешествуя по всему свету, он очень грустит.
– Да, но слово в слово, что это значит, Танака?
– Эта строка значит: мир на самом деле не то, что он говорит; мир много лжет.
– А это?
– Это значит: я путешествовал всюду.
– А это, в конце?
– Это значит: везде все одно и то же. Я плохо перевожу. Очень печальные стихи.
– А эта надпись здесь?
– Это японское имя – Фудзинами Кацундо – и дата: двадцать пятый год эры Мейдзи, двенадцатый месяц. – Танака перевернул фотографию и внимательно всматривался в портрет. – Это почтенный отец леди, я думаю, – заметил он.
– Да, – сказала Асако.
Ей послышались шаги мужа в коридоре. Она поспешно бросила оби и фотографию в ящик.
«Ну почему она это сделала?» – удивлялся Танака.