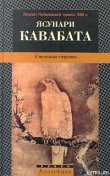Текст книги "Кимоно"
Автор книги: Джон Пэрис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава XIV
Карликовые деревья
На старые сосны
У дома из камней
Гляжу я и вижу
Тех лица, что жили
В минувшие годы.
В первый раз за время путешествия и совместной жизни Джеффри и Асако шли разными дорогами. Без сомнения, вполне нормальная вещь, чтобы муж уходил в свою работу и развлечения, в то время как жена отдается своим общественным и домашним обязанностям. Вечер приносит общение с новыми впечатлениями и новыми темами для разговора. Такая жизнь с короткими перемежающимися разлуками предохраняет любовь от скуки и от раздражения нервов, которое, постепенно нарастая, может повести к кощунству над самой искренней верой сердца. Но брак Баррингтонов был особенный. Выбрав долю путешественников, они осудили себя на продолжительный медовый месяц, на беспрерывное общение с глазу на глаз. Пока они были в непосредственном движении, они, постоянно освежаемые новыми сценами, не чувствовали тяжести испытания, наложенного на себя ими самими. Но когда их пребывание в Токио приняло почти постоянный характер, их дороги разделились так естественно, как две ветви, связанные вместе, начинают расти в разные стороны, как только перевязка снята.
Это разделение было так неизбежно, что они даже не осознавали его. Джеффри всю жизнь увлекался гимнастикой и играми всех видов. Они были необходимы, как пища для его большого тела. В Токио он нашел совершенно неожиданно великолепную площадку для тенниса и первоклассных игроков.
Утро они еще проводили вместе, бродя по городу и осматривая все любопытное. Поэтому вполне понятно, что Асако любила проводить время после полудня со своей кузиной, которая так старалась понравиться ей и приобщить ее к интимной японской жизни, естественно гораздо более привлекательной для нее, чем для ее мужа.
Джеффри находил общество этих японских родственников необычайно скучным.
В ответ на прием в «Кленовом клубе» Баррингтоны пригласили представителей клана Фудзинами на обед в «Императорском отеле», за которым следовало общее посещение театра.
Это был обед, подавляющий скукой. Никто не говорил. Все гости нервничали: одни – по поводу своей одежды, другие – ножа и вилки, все – по поводу их английского языка. Нервничали до того, что даже не пили вина, хотя оно могло бы быть единственным лекарством от столь холодной обстановки.
Только Ито, адвокат, болтал, болтал шумно, с полным ртом. Но Ито не нравился Джеффри. Он не доверял этому человеку; но ввиду растущей близости его жены с ее родственниками он счел нужным прекратить тайное выяснение положения ее состояния. Именно Ито, предвидя затруднения, предложил эту поездку в театр после обеда. За это Джеффри был ему благодарен. Это избавляло его от бесплодных попыток завязать разговор с родственниками.
– Разговаривать с этими японцами, – сказал он Реджи Форситу, – все равно что играть в теннис в одиночку.
Позже по настоянию жены он присутствовал на прогулке в саду Фудзинами. Он снова жестоко страдал от молчаливости и сдержанности, которые, замечал он, были стеснительны для самих японцев, хотя те этого не показывали.
Чай и мороженое подавались гейшами, которые потом танцевали на лужайке. Когда представление закончилось, гостей привели на открытое пространство позади вишневой рощи, где был устроен маленький плац для стрельбы, с мишенью, духовыми ружьями и ящиками свинцовых пуль.
Джеффри, конечно, принял участие в состязании и выиграл хорошенький дамаскированный ящик сигарет. Но он думал, что это довольно жалкая игра, и никогда не догадывался, что развлечение было придумано специально для него, чтобы польстить его военным и спортивным вкусам.
Но самым большим разочарованием был сад Акасака. Джеффри приготовился к тому, что все остальное будет скучно. Но жена так восхищалась прелестями поместья Фудзинами, что он ожидал, что будет введен в настоящий рай. И что же он увидел? Грязную лужу и несколько кустов; притом ни одного цветка, чтобы нарушить монотонность зеленого и желтого цветов; и все такое маленькое. Он мог бы обойти вокруг ограды в десять минут. Джеффри Баррингтон привык к сельским усадьбам в Англии с их громадными пространствами и расточительной роскошью цветов и ароматов. Ювелирное искусство ландшафта у японцев показалось ему мелким и ничтожным.
Он предпочитал сад при доме Саито. Господин Саито, недавний посол при Сент-Джеймском дворе, сгорбленный человек с седеющими волосами и глубокими глазами, устремляющимися из-под золотых очков, провозгласил здоровье капитана и миссис Баррингтон на их свадебном завтраке. С тех пор он уже вернулся в Японию, где скоро должен был играть видную политическую роль. Встретив однажды Джеффри в посольстве, он пригласил его и жену посетить его знаменитый сад.
Это был «висячий» сад на склоне крутого холма, разделенный посередине маленьким потоком с целой цепью водопадов, на обоих берегах росли группы ирисов, красных и белых, шепчущихся между собой, как длинные прерафаэлитские девушки. Вокруг искрящегося на солнце фонтана, из которого вытекал поток, как раз над террасой, где стояло жилище графа, они теснились гуще, склоняясь под музыку воды в движениях медленной сарабанды или неподвижно стоя на краю бассейна, как бы любуясь собственным отражением.
Саито показал Джеффри, где у него были розы, новые разновидности которых он привез с собой из Англии.
– Возможно, что они не захотят ояпониться, – заметил он, – ведь роза – такой английский цветок.
Они прошли и туда, где скоро должны были распуститься огненным цветом азалии. Истинного садовода неясное обещание завтрашнего дня более побуждает восхищаться, чем уже достигнутый успех распустившегося цветка.
Саито носил шуршащее туземное платье; но по пятам его ходили две черные легавые собаки. Эта комбинация представляла странное смешение жизни английского эсквайра и даймио феодальной Японии.
На вершине холма, над ним, возвышался высокий дом в итальянском вкусе, серая штукатурка которого смягчалась ползучими растениями, жасмином, вьющимися розами. В стороны тянулись низкие неправильные крыши японской части резиденции. Почти всякий богатый японец имеет такой двойной дом, полуиностранный-полутуземный, чтобы удовлетворить потребности его двойственной, как у амфибии, натуры. Это гротескное соединение попадается всюду на глаза в Токио; кажется, что высокий надменный иностранец сочетался с робкой японской женщиной.
Джеффри спросил, в каком крыле этого двойного дома хозяин, собственно, живет.
– Когда я вернулся из Англии, – сказал Саито, – я пытался жить опять по-японски. Но мы не смогли – ни жена, ни я. Мы простудились и получили ревматизм, засыпая на полу; и пища делала нас больными; пришлось все это оставить. Но я был опечален. Потому что я думаю, что для страны лучше держаться своих собственных обычаев. Теперь угрожает опасность, что весь мир станет космополитическим. Нечто вроде интернационального типа уже появилось. Его язык – эсперанто, его почерк – скоропись, у него нет родины, сражается он за того, кто больше платит, как швейцарцы в средние века. Он наемник коммерции, идеальный коммивояжер. Я очень напуган им, потому что я японец, а не гражданин мира. Мне нужно, чтобы моя родина была великой и уважаемой. Сверх того, я хочу, чтобы она была всегда Японией. Я считаю, что потеря национального характера – потеря национальной мощи.
Асако хозяйка показала прославленную коллекцию карликовых деревьев, сделавшую знаменитой квартиру – посла в Гросвенор-сквере.
Госпожа Саито, как и ее муж, прекрасно говорила по-английски; и здоровалась она с Асако по-лондонски, а не по-токийски. Она взяла обе ее руки в свои и дружески потрясла их.
– Милая, – говорила она своим странным, грудным и несколько хриплым голосом, – я так рада видеть вас. Вы приходите, как кусочек Лондона, сказать, что не забыли меня.
Эта важная японская дама была низкого роста и очень проста. Ее лоб был в глубоких морщинках, а на лице следы оспы. Большой рот, когда она говорила, открывался широко, как у птенца. Но она была необычайно богата. Единственное дитя самого богатого банкира Японии, она принесла мужу возможность тратить громадные суммы в качестве политического лидера, и роскошь, с которой они жили.
Деревья-карлики были повсюду: они украшали жилые комнаты, стояли, как часовые на посту, на террасе, были помещены на видных местах вместо статуй в саду. Но главным местом для них был солнечный уголок за кустами, где они были выстроены на полках в лучах солнца. Три садовника были приставлены к ним; они ухаживали за ними, наряжали и убирали их для временных выступлений перед публикой. Для них была особая оранжерея с тщательно поддерживаемой температурой для нежных сортов, а также для лечения более грубых; потому что эти драгоценные карлики были похожи на людей, что касается болезней, удовольствий и личных склонностей.
Госпожа Саито имела сотню, и даже больше, этих модных любимцев, всех сортов и форм. Здесь были гиганты первобытных лесов, сведенные к размерам меньше одного фута; они казались великанами парка, на которых смотришь через задний конец бинокля. Были грациозные клены, чьи маленькие звездообразные листья постепенно приводились к размерам, пропорциональным задержанному росту ствола и ветвей. Были плакучие ивы со светло-зеленой перистой листвой, такие маленькие, что печальные феи могли бы посадить их на могилке Тальесин во дворе Оберона. Была поздноцветущая вишня: ее цветы натуральных размеров висели среди тоненьких ветвей, похожие на гнезда громадных птиц. Был дуб, задержанный в росте, ползущий по земле с искривленными и неуклюжими членами, как миниатюрный динозавр; над ним покачивался в воздухе клубок крохотных листьев с угрожающим видом, как перчатка боксера или клешня омара. В центре прямоугольника, образуемого этой компанией деревьев, расставленных на длинном столе, помещалась маленькая вистерия, образованная собственно двенадцатью растениями, расположенными пятиугольником. Переплетшиеся веточки поддерживались бамбуковыми подпорками, а цветочные гнезда, как виноградные кисти или маленькие канделябры, еще висели над опавшей красой лепестков; несколько цветков, блеклых и бледных, еще держались на них, походя на птиц.
– Им двести лет, – сказала гордая собственница, – это из одного императорского дворца в Киото.
Но истинной гордостью коллекции были хвойные и вечнозеленые деревья, которые имеют только японские и латинские названия, все деревья из темных, погребального вида семейств ели и лавра, которых избегают птицы и чья яркая зимняя зелень летом делается ржавого цвета. Там были кедры, черные, как палатки бедуинов, и прямые криптомерии, идущие на мачты для кораблей. Было странное дерево со светло-зеленой листвой, растущей круглыми площадками, как полочки зеленого лака, на оконечностях искривленных ветвей – естественная этажерка. Были искривленные сосны Японии, символ старости, верности и терпения в несчастье, наконец, японской нации самой; они приняли самые различные позы – угрозы, любопытства, радости и печали. Некоторые выползли из горшков и склонили голову на землю под ними; иные ползли по земле, как пресмыкающиеся; другие были голыми стволами и только на вершине имели пучок зеленых ветвей, напоминая пальмы; еще другие – трогательно вытягивали вперед одну длинную ветвь в поисках бесконечного, пренебрегая всем остальным; было несколько вытянутых и изогнутых в одну сторону, как будто ветер, дующий с моря, наклонял их к берегу. Образуя миниатюрный ландшафт, они шептали друг другу легенды минувших лет.
Японское искусство культивирования этих крохотных деревьев – странное и болезненное занятие, близкое к вивисекции, но не имеющее соответствующих оправданий. Оно походит на китайский обычай уродовать ноги женщин. Результат забавляет глаз, но подавляет ум сознанием ненормальности, а сердце – жалостью.
Восхищение Асако, вообще легко возбуждаемое, дошло до высшей степени, когда госпожа Саито рассказала ей кое-что из личной истории своих растений-фаворитов; этому было двести лет, тому триста пятьдесят; такое-то дерево было свидетелем таких-то знаменитых в японской истории сцен.
– О, как они милы! – вскричала Асако. – Где их достают? Я хотела бы иметь несколько таких.
Госпожа Саито дала ей имена нескольких хорошо известных на рынке садоводов.
– Вы можете получить от них маленькие деревья по пятьдесят, по сто иен за штуку, – говорила она. – Но, конечно, настоящие, исторические деревья очень редки; они едва ли когда и бывают на рынке. Ведь вы знаете, они совсем как животные и требуют так много внимания. Им нужен сад для прогулок и собственный слуга.
Эта важная японская леди чувствовала привязанность и симпатию к девушке, которая, как и она сама, была выделена судьбой из однообразных рядов японских женщин, подавленных их тяжелой зависимостью.
– Маленькая Аса-сан, – сказала она, называя ее ласкательным именем, – не забывайте, что если вы можете сделаться опять японкой, то ваш муж этого не может.
– Конечно нет, – смеялась Асако, – он чересчур большой. Но я иногда убегаю от него и прячусь за шодзи. Тогда я чувствую себя независимой.
– Но не на самом деле, – сказала японка, – ни вы, ни другие женщины. Вы видите эту вистерию, висящую на большом дереве. Что будет, если большое дерево убрать? Вистерия станет независимой, но упадет на землю и умрет. Знаете ли вы японское имя вистерии? Это – фудзи, Фудзинами Асако. Если вам будет трудно, придите и расскажите мне. Вы видите, я тоже богатая женщина; и я знаю, что почти так же трудно выносить богатство, как и нищету.
Капитан Баррингтон и бывший посол сидели на одной из скамеек террасы, когда дамы присоединились к ним.
– О, Дэдди, – обратилась госпожа Саито к мужу по-английски, – о чем это вы говорите так серьезно?
– Об Англии и Японии, – отвечал граф.
И в самом деле, во время разговора, переходящего с одного предмета на другой, Саито спросил гостя:
– Что больше всего поразило вас из того, чем отличаются наши две страны друг от друга?
Джеффри с минуту взвешивал ответ. Он хотел сказать откровенно, но еще был стеснен канонами дурного тона. Наконец он сказал:
– Это Йошивара.
Японский аристократ казался удивленным.
– Но ведь это только местная разновидность регулирования всемирной проблемы, – сказал он.
– Англичане не лучше других, – сказал Джеффри, – но мы не желаем слышать о том, чтобы женщин выставляли на продажу, как вещи в лавке.
– Так, значит, вы сами не видели их? – спросил Саито. Он не мог не улыбнуться типичной британской привычке судить о вещах поверхностно.
– Нет, действительно, но я видел процессию в прошлом месяце.
– Вы в самом деле думаете, что лучше позволить падшим женщинам бродить по улицам, не пытаясь предупредить преступления и болезни, которые они порождают?
– Это не то, – сказал Джеффри, – мне кажется ужасным, что женщины поступают в продажу и выставляются в витринах с ценниками.
Саито улыбнулся снова и сказал:
– Я вижу, что вы идеалист, как большинство англичан. Но я практичный политик. Проблема порока есть проблема управления. Никакой закон не может уничтожить его. Забота государственных людей – сдерживать его и его дурные последствия. Три сотни лет тому назад эти женщины обычно ходили по улицам, как теперь в Лондоне. Они носили маленькие соломенные циновки на спинах, чтобы устроить постель в любом подходящем месте. Токугава Йеясу, величайший из государственных людей Японии, умиротворивший всю страну, устранил и этот беспорядок. Он построил Йошивару и поместил женщин туда, где полиция может следить и за ними, и за мужчинами, посещающими их. Англичане должны были поучиться у нас, я думаю. Но вы непоследовательный народ. Вы не только возражаете по нравственным причинам против заключения этих женщин; но ваши мужчины еще и очень недовольны тем, что глаз полисмена следит за ними, когда они совершают свои визиты туда.
Джеффри был вынужден умолкнуть перед сведениями хозяина. Он, как и большинство англичан, легко пугался, когда говорили об их идеализме, и побоялся настаивать на том, что британская решимость игнорировать порок и оставлять его непризнанным и бездомным в нашей среде, как бы она ни была опасна на практике, все-таки в идее благороднее, чем соглашение, дающее злу право на существование и ставящее его на определенное место в нашей жизненной обстановке.
– А как относительно людей, которые извлекают из этого прибыль? – спросил Джеффри. – Они должны быть заслуженно презираемы.
Лицо мудрого политического деятеля, суровое, пока он развивал свои аргументы, внезапно смягчилось.
– Я мало знаю о них, – сказал он. – Если и встречаемся, то они не хвастаются этим.
Глава XV
Евразия
Странно привлекают
Те цветы, что поздно
Цветут одиноко.
Хотя Джеффри чувствовал, что его интерес к Японии иссяк, он все-таки наслаждался своим пребыванием в Токио. Он устал от путешествия и рад был пожить этим подобием домашней жизни.
Он очень увлекался своим теннисом. Большим удовольствием также было видеться часто с Реджи Форситом. Кроме того, он помнил о поручении, данном ему леди Цинтией Кэрнс, спасти своего друга от опасного союза с Яэ Смит.
Реджи и он были вместе в Итоне. Джеффри, на четыре года старше, член «общины», атлет во многих специальностях, заметил однажды, что стал предметом поклонения, почти кумиром худенького, маленького мальчика, до неприличия искусного в сочинении латинских стихов и имеющего малопочтенную привычку свободное время одиноко проводить за роялем. Он был смущен, но и тронут этой преданностью, совершенно для него необъяснимой, и украдкой поощрял ее. Когда Джеффри оставил Итон, друзья несколько лет не виделись, хотя издали следили друг за другом. Встреча их произошла наконец в гостиной леди Эверингтон, где Баррингтон слышал, как светские красавицы восхищались талантами и чарами молодого дипломата. Он слышал его игру на рояле; слышал также и оценку общепризнанных судей. Он слышал его живой разговор, напоминающий арабески. Наступила очередь Джеффри почувствовать чужое превосходство, и он уплатил старый долг восхищения; его щедрость заполнила образовавшуюся пропасть, и они стали прочными друзьями. Живость ума Реджи разрушала духовную инертность Джеффри, обостряла его способность наблюдения и развивала в нем интерес к окружающему миру. Благоразумие и флегматичность Джеффри несколько раз удерживали молодого человека на самом краю сентиментальных пропастей.
Ведь бесспорный музыкальный талант Реджи питался впечатлениями любовных увлечений – опасных и необдуманных. Он не хотел и думать о браке с одним из тех милых молодых созданий, которые рады были бы использовать его нарождающуюся привязанность в надежде стать со временем супругой посланника. Равным образом отказывался он принести свою молодость в жертву одной из тех зрелых замужних женщин, которым их положение и характер в соединении с такими же качествами их мужей позволяли играть роль признанных Эгерий. У него была опасная склонность к авантюристкам высокого полета и к пасторальной любви, задумчивой и печальной. Но он никогда не дарил своего сердца; он только отдавал его за проценты. Потом он целиком брал его назад, и с прибылью в виде музыкальных вдохновений. Так его связь с Вероникой Джерсон породила издание ряда музыкальных поэм, которые выдвинули его сразу в первый ряд молодых композиторов; но они же обеспокоили министерство иностранных дел, которое отечески интересовалось карьерой Реджи. Это повлекло за собой его изгнание в Японию. Недавно прогремевшая «Attente d’hiver»[28]28
«Зимнее ожидание» (франц.).
[Закрыть] – его чистосердечное музыкальное признание в том, что молчание, порожденное изменой Вероники, было только дремотой ожидания земли, перед тем как новый год возобновит старую историю.
Реджи никогда не чувствовал влечения к туземным женщинам и не имел сухого любопытства своего предшественника Обри Лэкинга, которое могло бы побудить его купить и держать женщину, к которой не чувствовал ни малейшей привязанности. Любовь, при которой нельзя обмениваться мыслями, была слишком груба для него. Скорее эмоции, а не чувственность порождали в нем любовные возбуждения. Его слабое тело просто следовало даваемому направлению, как следует маленький челнок за сильным ветром, надувающим его паруса. Но еще с тех пор как он полюбил Джеффри Баррингтона в Итоне, для его натуры стало необходимостью любить кого-нибудь; и с тех пор как прояснился туман юности, этим кем-нибудь должна была непременно быть женщина.
Он скоро понял, почему министерство иностранных дел выбрало для него Японию. Это была голодная диета, которую ему предписали. Тогда он отдался воспоминаниям и «Attente d’hiver», думая, что пройдет два долгих года, может быть, и больше, пока снова расцветет для него весна.
Потом он услышал историю о дуэли из-за Яэ Смит двух молодых английских офицеров, которые, как говорили, оба были ее любовниками, и смутную историю о самоубийстве ее жениха. Несколько недель спустя он встретился с ней в первый раз на балу. Она была там единственной женщиной в японском костюме, и Реджи сразу вспомнил об Асако Баррингтон. Как умно со стороны этих маленьких женщин носить кимоно, которое драпирует так грациозно их короткое тело. Он танцевал с ней и не раз касался рукой складок громадного банта с вышитыми павлинами, закрывавшего ее спину. Под твердой парчой нисколько не чувствовалось живое тело. Казалось, что нет у нее костей и что она легка, как перышко. Тогда он и вообразил ее Лилит, женщиной-змеей. Она танцевала легко, гораздо лучше его и после нескольких туров предложила посидеть, не танцуя. Она провела его в сад, и они сели на скамью. В бальной зале она казалась робкой и говорила очень сдержанно. Но в этом тенистом уединении, при звездах, она стала говорить откровенно о собственной жизни.
Она рассказала ему, что была в Англии один раз, с отцом; как она полюбила эту страну и как скучно ей здесь, в Японии. Она спрашивала о его музыке. Она так хотела бы слышать его игру. В их доме очень старый рояль. Может быть, он и вообще этого не хочет? (Реджи уже дрожал от предвкушения удовольствия.) Не прийти ли ей к нему на чашку чаю в посольство? Это было бы великолепно! Может ли она взять с собой мать или брата? Нет, лучше она придет с подругой. Прекрасно, завтра?
На другой день она пришла. Реджи терпеть не мог играть перед публикой. Он говорил, что это все равно что стоять обнаженным перед толпой или читать вслух собственные любовные письма на бракоразводном процессе. Но нет ничего более приятного, чем играть для внимательного слушателя, особенно если это женщина и если интерес, который она проявляет, – интерес личный, который у стольких женщин занимает место справедливой оценки: они смотрят поверх искусства на самого артиста.
Яэ пришла с подругой, тощей девушкой, тоже полукровной, похожей на цыганку, которой Яэ покровительствовала.
Она пришла еще раз с подругой, а потом уже одна. Реджи был смущен и высказал это. Яэ засмеялась и сказала:
– Но я приводила ее только ради вас. Я всегда и всюду хожу одна.
– В таком случае, пожалуйста, не принимайте более во внимание моих интересов, – отвечал Реджи. Так начались эти послеполуденные встречи, которые скоро затянулись и стали вечерними, когда Реджи сидел у рояля, играя вслух свои мысли, а девушка лежала на софе или сидела на большой подушке у огня, с сигаретами и рюмочкой ликера подле, окутанная атмосферой такой лени и благополучия, каких никогда не знала до этого. Потом Реджи переставал играть: он усаживался рядом с ней или брал ее на колени, и они начинали болтать.
Они разговаривали, как разговаривают поэты, волнуясь по поводу ничтожных рассказов, извлекая смех и слезы из того, мимо чего она прошла бы, не замечая. Она рассказывала еще о себе, о ежедневной жизни в их доме, о своей печали и одиночестве с тех пор, как умер ее отец.
Он был товарищем ее детства. Он никогда не жалел ни времени, ни денег для ее забав. Она воспитывалась, как маленькая принцесса. Она была до последней степени избалована. Он передал ее восприимчивому уму свою любовь к возбуждениям и потребность в них, свое любопытство, свою смелость и отсутствие предрассудков, а потом, когда ей было шестнадцать лет, он умер, оставив в качестве последнего распоряжения своей жене-японке, которая готова была подчиняться ему мертвому так же послушно, как и живому, строгое требование, чтобы Яэ распоряжалась собой самостоятельно всегда и во всем.
Он оставил значительное состояние, японку-вдову и двух недостойных сыновей.
Бедная Яэ! Если бы она была окружена друзьями и развлечениями жизни английской девушки, хорошие качества ее счастливо одаренной натуры могли бы развиться нормально. Но после смерти отца она оказалась изолированной, без друзей и развлечений. Она была пересажена на остров Евразии, плоскую и бесплодную землю с узкими пределами и задержанной в росте растительностью. Японцы обычно не имеют сношений с полукровными, и европейцы смотрят на них сверху вниз. Они живут отдельно, особым кружком, в котором госпожа Миязаки – признанная королева.
Госпожа Миязаки – упрямая старая леди; ее характер как будто заимствован из какой-то комедии восемнадцатого века. Ее покойный супруг – а молва утверждает, что она была его экономкой в то время, когда он учился в Англии, – занимал высокое положение при императорском дворе. Его жена, в силу величественности манер и потому, что у нее подозревали необычайно глубокие знания, добилась того, в чем не могла преуспеть ни одна белая женщина, – приобрела уважение и дружбу высокопоставленных дам в Японии. Она ввела пентонвильский выговор, со всеми его простонародными особенностями, в английский язык высшей японской аристократии.
Но сначала умер ее муж, а потом старый императорский двор императора Мейдзи, был распущен. Так госпожа Миязаки должна была отказаться от общества принцесс. Она отошла не без достоинства, чтобы занять вакантный трон в евроазиатском кружке, где ее владычества никто не оспаривал.
Каждую пятницу вы можете видеть ее, окруженную маленьким двором, в жилище Миязаки, среди характерной для него смеси блеска и пыли. Бурбонские черты лица, высокий белый парик, слоновые формы, шуршащая тафта и палка из черного дерева с набалдашником из слоновой кости переносят ваши мысли назад, в дни Ричардсона и Стерна.
Но ее верноподданные, окружающие ее, – их невозможно отнести к определенному месту или эпохе. Они бедны, подвижны, беспокойны. Их черные волосы растрепанны, их темные глаза печальны, их одежда безусловно европейская, но дурно сшитая и изношенная. Они говорят все вместе без перерыва и быстро, как скворцы; при этом с курьезными искажениями английской речи и фразами, заимствованными из туземного наречия. Они постоянно переглядываются и шепчутся, разражаются по временам дикими взрывами хохота, далеко выходящими за предел обычных выражений радости. Это народ теней, носимых резким ветром судьбы по лику земли, в которой они не могут найти себе постоянного спокойного уголка. Это дети Евразии, несчастнейший народ на земле.
И в среду этих-то людей судьба кинула Яэ. Она быстро поднялась между ними на значительную высоту благодаря своей красоте, своей личности, а больше всего благодаря своим деньгам. Госпожа Миязаки сразу увидела, что у нее появилась соперница в Евразии. Она ненавидела ее, но спокойно выжидала удобного случая, чтобы помочь ее неизбежному падению: как женщина с большим опытом, она ждала ошибок со стороны девушки, наивной и опрометчивой; баронесса играла роль Елизаветы Английской по отношению к Яэ – Марии, королеве Шотландской.
Между тем Яэ узнала, о чем шепчутся между собой постоянно евроазиатские девушки – любовные приключения, интриги с секретарями посольств из Южной Америки, тайные сношения, замаскированные послания.
Это семя упало на хорошо подготовленную почву. Ее отец был развратен до самого дня смерти, и перед ней он посылал за своей фавориткой, японской девушкой, чтобы та пришла массировать его больное и обессилевшее тело. Ее братья имели одну постоянную тему для разговоров, причем не стеснялись нисколько присутствием сестры – гейши, дома свиданий, узаконенные кварталы проституции. Ум Яэ привык к идее, что для взрослых людей есть только одно поглощающее наслаждение – именно находиться в компании людей другого пола, а вершина тайны, полной страсти, – телесная близость. В доме Смитов никогда не говорили о романтической стороне брака, о любви родителей к детям и наоборот, что могло бы, может быть, придать здравое направление господствующему в нем настроению. Говорили о женщинах все время, но женщинах как орудии наслаждения. И миссис Смит, ее японская мать, не могла направлять шаги своей дочери. Она была исполнительницей долга, иссохшей, полной самоотречения. Она делала все, что только могла, для того чтобы удовлетворить физические потребности своих детей: она самоотверженно выкормила их, несмотря на собственную слабость, она заботилась об их одежде и удобствах. Но даже не пыталась влиять на их моральные убеждения. Она потеряла всякую надежду понять своего мужа. Она приучила себя принимать все, что угодно, без удивления. Бедняга муж! Он был иностранец, и «имел лисицу» (то есть был помешан); и, к несчастью, его дети унаследовали это неисправимое животное.
Для развлечения дочери она открыла свой дом для гостей до неприличия скоро после смерти мужа. Смиты давали частые балы, охотно посещаемые молодежью из иностранцев, живущих в Токио. На первом из балов Яэ прислушивалась к страстным признаниям молодого человека по имени Госкин, клерка английской фирмы. На втором балу она была уже его невестой. На третьем ее поразил южноамериканский дипломат, с зеленой лентой боливианского ордена, пересекающей манишку. Дон Кебрадо д’Акунья был опытным соблазнителем, и невинность Яэ исчезла очень скоро после празднования семнадцатого дня ее рождения и ровно за десять дней до того, как ее обожатель отплыл на корабле, чтобы присоединиться к своей законной супруге в Гуаякиле. Связь с Госкином еще продолжалась, но молодой человек, обожавший ее, худел и бледнел. А у Яэ был новый поклонник – учитель английского языка в японской школе, который великолепно декламировал и писал стихи в ее честь.
Тогда госпожа Миязаки решила, что ее время пришло. Она пригласила молодого Госкина в свое высочайшее присутствие и с серьезным материнским видом предостерегала его по поводу легкомыслия его невесты. Когда он отказался поверить дурным слухам о ней, она показала ему трогательное письмо, полное полупризнаний, которое девушка сама написала ей в момент откровенности.
Неделю спустя тело молодого человека было выброшено на берег волнами близ Йокагамы.