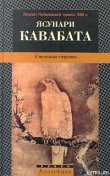Текст книги "Кимоно"
Автор книги: Джон Пэрис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
После неаппетитного завтрака в серо-желтом отеле Джеффри и его жена снова принялись за свои исследования и открытия. Нагасаки – заколдованный город; если пассивно двигаться по его узким улицам, как течет вода в ручье, по их змеиным изгибам, то скоро очутишься в самой его глубине.
Они оставили позади иностранный квартал с его неописуемой уродливостью и погрузились в лабиринт маленьких туземных переулков, запутанных и прихотливых, как тропинки, с внезапно открывающимися крутыми холмами и ступенями, которые мешают движению рикш.
Здесь дома богачей были тщательно ограждены, строго недоступны; но домашняя жизнь бедняков и лавочников выливалась на улицу из тех ящиков, которые они называют домами.
С помощью еще одного человека, подталкивающего сзади, рикши зигзагами привезли их на холм, к деревянным воротам, полуоткрытым в плотной бамбуковой ограде.
– Чайный дом! – заявил рикша, останавливаясь и скаля зубы. Он явно ждал, что иностранцы остановятся и войдут.
– Выйдем и посмотрим, милая? – предложил Джеффри. Они прошли под низкими воротами, по усыпанной мелким щебнем дорожке, через уютный хорошенький сад ко входу в чайный дом; легкая постройка из коричневых досок, очень чистая и не знающая прикосновения грязных ботинок. На ступенях – целая коллекция гета – местных деревянных галош – и отвратительных модных ботинок говорила, что как раз принимали гостей.
Внутри темных коридоров дома слышался непрерывный легкий шум, как воркование голубей. Четыре или пять маленьких японок простирались на полу перед посетителями, бормоча шопотом: «Ирасшаи!» («Удостойте войти!»).
Баррингтоны сняли обувь и последовали за одной из этих женщин по светлому коридору с другим миниатюрным огороженным садиком, с одной стороны, и бумажными шодзи и выглядывающими из-за них лицами – с другой, через еще один сад, род восточного моста вздохов, к маленькому отдельному павильону, как бы купавшемуся в море зеленых кустов и чистого воздуха и связанному деревянным проходом с главной массой строения.
Этот летний домик заключал в себе единственную небольшую комнату, наподобие очень светлого ящика с деревянными рамами, стенами из непроницаемой бумаги, бледно-золотистыми циновками на полу. Только одна стена казалась капитальной и представляла род алькова. В этой нише был помещен продолговатый рисунок, изображающий цветущую вишню на склоне горы, а под ним на подставке из темного сандалового дерева сидела бронзовая обезьяна с хрустальным шариком в руках. Вот единственное украшение комнаты.
Джеффри и его жена сели или прилегли на четырехугольных шелковых подушках, называемых «забутан». Затем шодзи были отодвинуты, и открылся вид на Нагасаки.
Это было восхитительное зрелище. Чайный дом нависал над городом. Легкий павильон казался пульмановским аэропланом, парящим над гаванью. Был тот час вечера, когда волшебное очарование Японии особенно сильно. Все неизящное и грязное было скрыто бамбуковыми заборами и окутано туманом сумерек. Это полчаса серого сияния. Серо было небо, и воды гавани, и крыши домов. Серый туман поднимался над городом, и черно-серые полосы дыма шли от доков и пароходов к порту. Деятельный шум города доносился ясно и отчетливо, но бесконечно далекий, как доносятся к небесным богам звуки земли. Волшебный час, когда ожидаешь чуда.
Две маленькие женщины принесли чай и сладкое печенье; зеленый чай, похожий на горьковатую горячую воду, безвкусный и не утоляющий жажды. Поразили их лица: покрытые слоем пудры, они были старые и сморщенные.
Они заметили национальность Асако и заговорили с ней по-японски.
– «Вежливость у них не особенная, – подумал Джеффри, – достаточно любопытства, назойливости и распущенности».
Но Асако знала всего несколько фраз на родном языке. Это привело девушек в затруднение, и после совещания шепотом и хихикания в рукава одна из них побежала искать подругу, которая могла бы рассеять тайну.
– Несан, несан[10]10
Старшая сестра (яп.).
[Закрыть], – звала она через сад.
Странная маленькая посуда была подана на лакированных красных подносах, рыба и овощи живописно расположены, но чрезвычайно невкусные.
Появилась третья «несан». Она говорила немного по-английски.
– Оку-сан[11]11
Госпожа (яп.).
[Закрыть] – японка? – начала она после того, как поставила перед Джеффри маленький квадратный столик и проделала обряд преклонения.
Джеффри отвечал утвердительно. Снова преклонения, уже перед «оку-сан» и приветствия шепотом на японском языке.
– Но я не говорю по-японски, – сказала Асако, смеясь.
Это смутило девушку, но любопытство подталкивало ее.
– Данна-сан – ингирис[12]12
Англичанин.
[Закрыть]? – спросила она, смотря на Джеффри.
– Да, – сказала Асако.
– Что, у многих англичан японские жены?
– Очень у многих, – был неожиданный ответ.
– О Фудзи-Сан, – продолжала она, указывая на другую девушку, – иметь ингирис – данна-сан – много лет назад: очень хороший данна-сан: дать О Фудзи масса красивых кимоно: он сказать О Фудзи – очень хорошая девушка, идти в ингирис с ним; О Фудзи сказать нет, не могу идти, мать очень больна, так, данна-сан уезжать. Дать О Фудзи-сан очень красивое кольцо.
Она заговорила на туземном языке. Другая девушка с деланным смущением показала колечко с поддельными сапфирами.
– О! – воскликнула Асако, смутно понимая.
– Все ингирис данна-сан приходить Нагасаки, – продолжала болтливая девушка, – нуждаться японские девушки. Ингирис данна-сан хороший человек, но очень много пить. Японский данна-сан нехороший, недобрый. Ингирис данна-сан много денег, много. Нагасаки девушка очень много чужой данна-сан. Жены иностранцев из Нагасаки знамениты. Ингирис данна-сан уходить постоянно. Один год, два года – тогда уходить в Ингирис страну.
– Что же тогда с японками? – спросила Асако.
– Другие данна-сан приходить, – был лаконичный ответ. – Ингирис данна-сан жить в Японии, японская девушка очень красива. Ингирис данна-сан уезжать, не надо японская девушка. Японская девушка идти другая страна, она чувствует очень больна; сердце очень одиноко, очень печально!
В маленькую комнату пробралось смутное неприятное чувство – непривычные мысли, понятия чуждой морали, зловещие птицы.
Две другие девушки, не умевшие говорить по-английски, явно позировали перед Джеффри; одна из них, прислонившись к раме открытого окна, вытянула вперед длинные рукава своего кимоно, как крылья; ее раскрашенное овальное лицо смотрело на него, несмотря на то, что глаза казались опущенными; другая присела на пятках в углу комнаты с тем же выражением жеманства и с руками, скрещенными на груди. Несмотря на спокойствие поз, они также призывали на свой манер, как и покачивающие бедрами девицы Пиккадилли. Это истинно сегодня, как и двести пятьдесят лет тому назад, в дни Кэмпфера, старого голландского путешественника, что в Японии всякий отель – публичный дом и всякий чайный домик – дом свиданий.
Из ближайшего крыла здания донеслись звуки струн, похожие на игру на банджо в странном ритме. Несколько резких нот, казалось, были взяты наудачу, сопровождались несколькими отрывками песни, полной трелей, все разрешилось хохотом клоуна. Молодежь Нагасаки пригласила гейшу, чтобы развлекать их за обедом.
– Японская гейша, – сказала девушка из чайного домика, – может быть, данна-сан хочет видеть танец гейши?
– Нет, благодарю, – сказал Джеффри поспешно. – Асако, милая, пора домой, нам время обедать.
Глава V
Чонкина
Сидеть молчаливо,
Спокойно смотря,
Не значит сравняться
С пьющими саке,
Буйно кричащими
Сейчас же после обеда Асако ушла спать. Она была утомлена массой виденного и новых впечатлений. Джеффри сказал, что он немного погуляет и покурит, возвращаясь. Он направился по улице, которая ведет к порту Нагасаки.
«Чонкина, Чонкина, Чон, Чон, Кина, Кина
Йокогама, Нагасаки, Хако-дате-Гой!»
Припев старой песни пробудил в его памяти мелодичное название места.
Он спустился с холма, на котором стоял отель, и перешел по мосту узкую речку. Город был полон прелести. Теплый свет в маленьких деревянных домиках, кремовый оттенок бумажных стен их, освещенных изнутри, с черными силуэтами обитателей, просвечивающими сквозь них, покачивающиеся на лодках в гавани фонари, огни на больших судах, расположенные правильно, как линии в чертежах Евклида, фонари на экипажах и рикшах, фонари, похожие на фрукты: красные, золотые, сверкающие и круглые, висящие над входом в каждый дом, с китайской надписью на них, сообщающей имя жильца.
«Чонкина, Чонкина!»
Как бы в ответ на свое пение Джеффри внезапно встретил Вигрэма. Вигрэм был пассажиром на пароходе вместе с ними. Он старый итонец, и, правду сказать, это было единственным сходством между двумя мужчинами. Вигрэм был низкого роста, толст, вял, имел глупые глаза и помятое лицо. Он растягивал слова, имел литературные претензии и путешествовал для развлечения.
– Эй, Баррингтон, – сказал он, – вы совсем один?
– Да, – отвечал Джеффри, – моя жена сильно утомилась, ушла спать.
– Так вы, пользуясь благоприятным случаем, изучаете ночную жизнь, а, повеса?
– Немножко в этом роде, – сказал Джеффри, который считал, что быть благонравным мальчиком – дурной тон, и не хотел прослыть таким даже перед Вигрэмом, хотя его мнение и не ставил ни во что.
– Не следует ходить по улицам; а впрочем, все равно. Здесь в клубе мне сказали, что Нагасаки – одно из самых жарких мест на земном шаре.
– Довольно сонное место, – отвечал Джеффри.
– О, здесь! Здесь английские товарные склады и консульства. Здесь всегда мертво. А вот пойдемте со мной смотреть танец Чонкина.
Джеффри был поражен таким эхом собственных его мыслей, но сказал:
– Я должен вернуться: жена будет беспокоиться.
– Нет еще, не сейчас. Все это окончится в полчаса, и это стоит посмотреть. Я как раз иду в клуб за приятелем, который обещал повести меня.
Джеффри позволил убедить себя. В конце концов, дома его не ожидают сию минуту. Уже много лет он не посещал мест с дурной репутацией. Это дурной тон, и они не влекли его. Но странность и новизна привлекательны, и ему хотелось на минутку заглянуть за кулисы этой новой и неизвестной страны.
Чонкина, Чонкина!
Почему бы ему не пойти?
Он был представлен Вигрэмом его приятелю мистеру Паттерсону, шотландскому коммерсанту в Нагасаки, имевшему обычай в субботние вечера выходить из клуба в состоянии некоторого опьянения.
Они позвали трех рикш, которые, казалось, знали без всяких приказаний, куда их везти.
– Это далеко отсюда? – спросил Джеффри.
– Не очень, – сказал шотландец, – очень удобно расположено.
Они ехали по узким, запутанным улицам с той же фантастической игрой света и теней, освещенными бумажными стенами и яркими шарами ламп на воротах.
Издали донесся звук барабанного боя. Джеффри слышал раньше звуки барабана, похожие на эти, в сомалийском селении близ Адена, дикие, примитивные звуки с подобием маршевого ритма, побуждавшие двигаться сотни черных тел на каком-то диком празднестве.
Но здесь, в Японии, такая музыка звучала призывом оторваться от цивилизации, как старой, так и новой.
«Чонкина, Чонкина!» – казалось, выбивал барабан.
Рикши свернули на улицу пошире, с домами более высокими и богатыми, чем были до сих пор. Они были выстроены из темного леса, как большие швейцарские шале, и увешаны красными бумажными фонарями, похожими на огромные спелые вишни.
Снова вход, похожий на театральные подмостки, но более заполненный женщинами с их нижайшими преклонениями, шествие по освещенным коридорам и крутым лестницам, похожим на пароходные трапы, и всюду тяжелый запах дешевых духов и пудры – запах публичного дома.
Трое гостей поместились сидя или полулежа вокруг низкого столика с пивом и печеньем. В коридоре слышался целый хор писклявых и хихикающих голосов. Затем распределение ролей, видимо, совершилось, и шесть маленьких женщин вбежали в комнату.
– Патасан-сан! Патасан-сан, – кричали они, хлопая в ладоши.
Это, наконец, были женщины-мотыльки из видений путешественников. На них яркие кимоно, красные и голубые, вышитые золотом. Лица их бледны, как фарфор, и кажутся эмалированными от употребляемой ими жидкой пудры. Их волосы, черные и блестящие, как солодковый корень, собраны в фантастические завитки, украшены серебряными колокольчиками и бумажными цветами. Очарование, впрочем, разрушало облако тяжелого запаха, окружавшее их.
– Добрый день вам, – пищали они на комическом английском языке. – Как поживаете? Я люблю вас. Пожалуйста, целуйте меня. Дам! Дам!
Паттерсон представил их: О Хана-сан (мисс Цветок), О Юки-сан (мисс Снег), О Эн-сан (мисс Близость), О Тоши-сан (мисс Год), О Таки-сан (мисс Высота) и О Кома-сан (мисс Пони).
Одна из них, мисс Пони, обвила руками шею Джеффри маленькие пальцы давали ощущение прикосновения насекомых – и сказала:
– Милый, любите вы меня?
Огромный англичанин освободился осторожно. Ведь это дурной тон – грубо обходиться с женщиной, хотя бы и японской куртизанкой. Но он начинал жалеть, что пришел сюда.
– Я привел двух дорогих друзей, – ораторствовал Паттерсон, – скорее для наслаждений художественных, а не плотских; хотя, конечно, смело могу предсказать, что удовольствие чувственное будет венцом истинного искусства. Мы пришли смотреть национальный танец Японии, вихрь Нагасаки, знаменитый Чонкина. Я-то сам привык к нему. Два или три раза я и сам исполнял его в этих залах. Но вот два джентльмена специально приехали из Англии только для того, чтобы видеть, как его танцуют. Поэтому прошу плясать сегодня ночью заботливо и внимательно, давая волю воображению, с чувством предвкушения наслаждения и полным уважением к голой истине.
Он говорил с истинным красноречием и упоением, и когда шлепнулся в конце концов на пол, Вигрэм хлопнул его по плечу с одобрением: браво, старина!
Джеффри молчал и чувствовал себя очень неловко. «Чонкина, Чонкина!» Маленькие женщины принимали скромный вид, закрывая лица длинными рукавами кимоно. Служанка раздвинула стены-ширмы, отделявшие соседнюю комнату, точную копию той, в которой они сидели. Пожилая женщина в зеленоватом кимоно сидела там молча, с видом строгим и достойным.
На минуту Джеффри подумал, что произошла ошибка, что это тоже гостья, потревоженная во время спокойного размышления и оттого негодующая.
Но нет, эта римская матрона держала на коленях белый диск «самисена», род местного банджо, по которому она ударяла широкой белой костяшкой. Она, прежде гейша, была теперь оркестром.
Шесть маленьких мотыльков построились перед ней и начали танец, не западный, со свободными движениями членов, а восточный, танец бедер с перемещениями рук и ног. Они пели резкую, прерывистую песню без всякого сколько-нибудь заметного соответствия аккомпанементу, наигрываемому серьезной дамой.
«Чонкина, Чонкина!» Шесть фигурок склонялись вперед и назад. «Чонкина, Чонкина! Гой!» Резким криком внезапно оборвались песня и танец. Шесть танцовщиц застыли, простирая руки, в разнообразных позах. Одна из них сбилась с круга и должна была уплатить штраф. Она сняла широкий вышитый шарф. Он был отброшен в сторону, и хриплая песня зазвучала снова.
«Чонкина, Чонкина! Гой!» Та же девушка ошиблась опять; и с легким шуршанием великолепное красное кимоно упало на землю. Она осталась в красивом голубом нижнем кимоно из легкого шелка; все оно было бледно расшито изображениями вишневых цветов.
«Чонкина, Чонкина!» Круг за кругом та же игра, и ошибалась то одна девушка, то другая. У двух уже была обнажена верхняя половина тела. На одной оставалось что-то вроде вязаной белой нижней юбки, грубой и в пятнах, обернутой вокруг бедер; на другой – короткие фланелевые панталоны типа мужского купального костюма, окрашенные в цвета Британии, подарок какого-нибудь матроса своей возлюбленной. Обе были молоды. Их груди были плоски, лишены формы, и на желтой коже их лиловые соски казались какими-то ядовитыми ягодами. Желтая кожа у горла и шеи резко граничила с линией пудры. Шея и лицо были покрыты сплошным белым слоем. Это производило сильный эффект: казалось, тело потеряло под ножом гильотины свою настоящую голову и получило дурно сделанную замену ее из рук хирурга.
«Чонкина, Чонкина!» Паттерсон придвинулся ближе к исполнительницам. Его красное лицо и похотливая улыбка были образцом того, что он назвал предвкушением наслаждения. У Вигрэма вялое лицо стало бледнее обыкновенного, глаза выкатились, губы раскрылись и отвисли, и смотрел он, как в гипнотическом трансе. Он прошептал Джеффри:
– Я видел танец живота в Алжире, но это побьет все, что угодно.
Джеффри из-за облаков табачного дыма наблюдал эту дикую фантасмагорию как видение сна.
– Сорвите это! Сорвите это! – кричал Паттерсон. – Не бойтесь, мы знаем, что там!
«Чонкина, Чонкина!» Танец стал еще более выразительным не в смысле искусства, но животности. Тела тряслись и изгибались. Лица искажались, чтобы выразить экстаз чувственного наслаждения. Маленькие пальцы сплетались в нескромных жестах.
«Чонкина, Чонкина! Гой!» Девушка в узких панталонах ошиблась опять. Она сбросила их с выражением стыдливости, подчеркивающем бесстыдство. Потом, в уродливой наготе, встала в позу посреди группы отрицанием всех канонов эллинской красоты.
Джеффри видел до сих пор обнаженных женщин только идеализированными в мраморе или на полотне. Тайна Венеры была для него, как для многих мужчин, недоступной Меккой, возбуждавшей благоговение. Он знал только проблески, призраки мягких изгибов, слюдяной блеск кремовой кожи, но не грубый анатомический факт.
Она же казалась огромным эмбрионом, нелепо и безобразно отлитой формой.
«Женщина, – думал Джеффри, – должна быть изящной и гибкой, и оттенок стремительности в движениях должен оживлять тонкость линий». Аталанта была для него идеалом женщины.
Но это создание, видимо, не имело ни нервов, ни костей. Она казалась набитой опилками, начиненным ими мешком из темной ткани. Совсем не было волнистых, упругих линий. Грудь складками падала вниз, как веки, а большой живот выглядывал из-под них своим бесстыдным глазом. Ляжки свисали с бедер, как бока у шаровар, и казались заправленными в ноги, как штаны в гетры. Вывернутые пальцы ног были смешны и отвратительны. Грудь, живот, колени, икры были бесформенны. Ничто в этой фигуре из глины не указывало на нежную заботливость руки Создателя. Она была отлита бездарным ремесленником в минуту невнимательности.
Но она стояла там, выпрямившись и призывая, этот жалкий головастик, узурпирующий трон Лаисы, окруженная поклонением таких почитателей, как паттерсоны и вигрэмы.
«Неужели все женщины безобразны? – пронеслось в мозгу Джеффри. – Неужели видение Афродиты Анадиомены – ложь артиста?» И он подумал об Асако: «Без газового ночного покрова не будет ли она такой? Страшно подумать об этом!»
Паттерсон посадил полуголую девушку к себе на колени. Вигрэм хотел схватить другую.
Джеффри сказал, но никто не слышал его:
– Для меня здесь становится слишком жарко. Я ухожу.
И он ушел. Его жена проснулась и собиралась плакать.
– Где вы были? – спросила она. – Вы сказали, что вернетесь через полчаса.
– Я встретил Вигрэма, – сказал Джеффри, – и пошел с ним смотреть танец гейш.
– Вы могли взять и меня. Это красиво?
– Нет, очень безобразно; не стоит и думать об этом.
Он принял горячую ванну, прежде чем лечь рядом с ней.
Глава VI
Через Японию
Хоть много людей
В больших городах
С сотнями башен,
Но в сердце одна лишь
Дорогая сестра.
Путешественник в Японии прикреплен к определенному избитому маршруту, предписанному ему господами «Кук и сын» и информационным бюро туристов.
Эта via sacra[13]13
Священная дорога (лат.).
[Закрыть] отмечена гостиницами в европейском стиле различного достоинства, назойливыми лавочками, продающими вещицы местного производства, и туземными гидами, разделяющими путешественников на два класса: посетителей храмов и посетителей чайных домов. Одиноких мужчин-путешественников обязательно подозревают в склонности к тем поддельным гейшам, которые поджидают в туземных ресторанах; женатые пары водят в храмы и к тем торговцам древностями, которые предлагают гидам самую высокую комиссионную плату. Всегда составляются маленькие заговоры в ожидании туристов, посещающих страну. Если иностранец склонен к энтузиазму, он восхищен наивностью манер и считает их отражением сердца «счастливого маленького японца». Если он не любит страну, он считает доказанным, что вымогательство и подлость сопровождают каждый его шаг.
Джеффри и Асако бесконечно наслаждались, знакомясь с Японией. Неутешительные опыты в Нагасаки были скоро забыты, когда они прибыли в Киото, древнюю столицу Микадо, где обаяние старой Японии еще сохранилось. Они были счастливы в своей невинности, любя друг друга, легко приходя в восторг, имея возможность тратить массу денег. Они восхищались всем: народом, домами, лавками, тем, что на них глазели, что их обманывали, что их тащили на самые окраины громадного города только за тем, чтобы показать сады без цветов и совершенно развалившиеся храмы.
Особенно увлечена была Асако. Прикосновения к японскому шелку и вид ярких кимоно и красивых вышивок пробудили в ней нечто наследственное, жадность целых поколений японских женщин. Она покупала кимоно дюжинами и проводила часы, примеряя их посреди хора восхищающихся горничных и служанок, специально выдрессированных дирекцией отеля в трудном искусстве восторгаться приобретениями иностранцев.
А потом лавки редкостей! Антикварные магазины Киото производят на наивного иностранца такое впечатление, будто бы он в гостях в частном доме у японского джентльмена, конек которого – коллекционирование. С самыми чистосердечными упрашиваниями предлагаются сигареты и почетный чай, густо-зеленый, как суп с горошком. Подают альбом автографов, где записаны имена самых богатых и образованных людей, посетивших коллекцию. Просят вас присоединить вашу скромную подпись. Потом показывают глазированные глиняные горшки, утварь тибетского храма эпохи Хан. Они уже приобретены для коллекции Винклера в Нью-Йорке, пустячок в сотню тысяч долларов.
Ослабив в госте силу сопротивления, продавец древностей передает его своим мирмидонянам, которые водят его по лавке – потому что, в конце концов, это только лавка. Точно взвесив его кошелек и его вкус, они заставляют его купить то, что угодно им, совершенно как заклинатель заставляет свою публику вынуть именно намеченную карту.
Комнаты Баррингтонов в Мийяко-отеле скоро сделались копией выставочных залов в торговых складах господ Яманака. Парча и кимоно раскинулись на креслах и кроватях. Столы были загромождены фарфором, посудой из перегородчатой эмали и статуэтками богов. С потолка спускались фонари; в одном углу комнаты огромный чашеобразный колокол покоился на красном лаковом треножнике. При ударе толстой кожаной палкой, похожей на барабанную, он издавал глубокое рыдание, удивительный, закругленный законченный звук, полный меланхолии ветра в сосновых лесах, мрачного величия исчезнувших цивилизаций и буддийского одиночества. Был на холме, позади отеля, храм, откуда такие ноты доносились к путешественникам на восходе и на закате солнца. Все очарование страны звучало в этих тонах; Асако и Джеффри решили скорее отказаться от всяких дальнейших покупок, но непременно привезти с собой домой, в Англию, эхо этой тюремной музыки.
И вот они купили этот циклопический голос, украшенный каббалистическими надписями; возможно, что это был, как утверждали, пятисотлетний колокол фабрики для производства античной медной утвари в Осака. Джеффри называл его «Большой Бэн».
– Для чего нам все эти вещи? – спрашивал он жену.
– О, для нашего дома в Лондоне, – отвечала она, хлопая в ладоши и смотря с экстатическим упоением на все свои сокровища. – О, Джеффри, Джеффри, как вы добры, давая мне все эти вещи!
– Но ведь это ваши собственные деньги, дорогая!
Никогда Асако не казалась более чуждой расе своих отцов, как в эти первые недели пребывания в родной стране. Она до такой степени «не помнила родства», что ей нравилось играть в подражание туземной жизни как чему-то в высшей степени чуждому и нелепому.
Обеды в японских трактирах бесконечно забавляли ее. Сидение на корточках на голом полу, преувеличенная почтительность служанок, необычные кушанья, неудобство палочек для еды, онемение ног после получасового сидения – все заставляло ее разражаться взрывами веселого хохота, к удивлению ее соотечественников, которые довольно часто принимали ее за одну из своих.
Однажды она с помощью служанок отеля нарядилась важной японской леди, причесав свои черные волосы наподобие шлема и перетянув талию широким шарфом «оби», который, в конце-концов, нисколько не стеснительнее корсета. В таком виде она сошла вечером к обеду, держась позади мужа, как благовоспитанная японка. В чуждой одежде она казалась маленькой и экзотичной, но трудно было бы отгадать ее родину. Джеффри поразил ее вид в туземном костюме. В Европе он выделял ее, но здесь, в Японии, делал частью местного пейзажа. Он никогда не чувствовал так ясно, до какой степени его жена – представительница своего народа. Низкий рост, семенящая походка, маленькие, тонкие руки, косой разрез глаз, овал лица – все было чисто японское. Противоречила остальному только белая кожа, цвета слоновой кости, которая, впрочем, как красивая особенность, встречается иногда и у выросших дома японок, а больше всего выражение подвижных глаз и красных губ, созревших для поцелуев, – выражение свободы, счастья и природного ума, чего не найдешь в стране, где женщины почти несвободны, всегда неестественны и редко счастливы. Взор японской женщины не оживляет лица, так что оно кажется просто маской; он часто блестит украдкой воровским блеском, как у хищного животного, полуприрученного страхом.
Надев местный костюм, Асако спустилась к обеду в Мийяко-отеле, смеясь, болтая и, в подражание туземным женщинам, делая крошечные шаги и преувеличенно жеманясь. Джеффри пытался принять участие в маленькой комедии, но его шутки были неестественны, и постепенно воцарилось молчание, какое наступает иногда в фантастических маскарада, после того как пытались вести разговор, соответствующий обстановке, но запас воображения истощился и фантазия перестала служить. Если бы Джеффри был способен к более глубоким мыслям, он понял бы, что как раз эта комедия с переодеванием и указывала на пропасть, разверзтую между его женой и желтыми женщинами Японии. Она поступала теперь, как белая женщина, уверенная в невозможности смешать ее с туземными. Но Джеффри в первый раз почувствовал экзотичность жены, и не со стороны очаровательно-романтической, но со стороны уродливой, неприятной и – страшное слово – как что-то низшее по отношению к нему. Так он женился на цветной женщине? Он – муж желтокожей? Болезненное видение Чонкина в Нагасаки представилось ему.
По окончании обеда Асако, приняв комплименты других гостей, ушла наверх, чтобы переодеться. Джеффри любил после обеда выкурить сигару, но Асако не выносила клубов ароматного дыма в своей комнате. Как и все, они скоро усвоили привычку рано ложиться спать в стране, где не было театров с пьесами на понятном языке и вечерних ресторанов, обращающих ночь в день.
Джеффри зажег сигару и прошел в курительную. Два пожилых человека, купцы из Кобе, сидели там за виски с содовой, разговаривая о своем общем знакомом.
– Нет, – говорил один из них, американец, – я мало его вижу, как и все теперь. Но даю слово, когда он приехал сюда еще молодым, он был одним из самых способных людей на Востоке.
– Я вполне верю вам, – сказал другой, медленный в движениях англичанин, куривший трубку из шиповника, – он произвел на меня впечатление чрезвычайно воспитанного человека.
– Я вам скажу больше. Это был финансовый гений с огромным будущим.
– Бедняга! – вздохнул другой. – Впрочем, виноват он сам.
Джеффри вовсе не имел склонности подслушивать, но вдруг заинтересовался судьбой этого анонима и нетерпеливо хотел узнать причину его падения.
– Когда эти японки завладевают мужчиной, – продолжал американец, – они лишают его яркости, всякого блеска. Пройдите по клубу в Кобе и посмотрите на лица. Вы сразу сможете сказать, кто женат на японке, у кого японка в доме. Чего-то не хватает в выражении их лиц.
– Это ужасно, – сказал англичанин. – Женится такой парень на японке и должен содержать всех ее лентяев родственников, а потом появится целая куча полукровных птенцов, и он не знает, его они или не его.
– Хуже того, – был убежденный ответ, – и с белой женой может быть много неприятностей, и мужчине можно пойти повеселиться в чайный дом, что ж тут такого? Но жениться на них – это все равно что подписать договор с дьяволом. Такой человек пропал.
Джеффри встал и вышел из комнаты. Ему надо было или уйти, или ударить по лицу этого янки с резким голосом. Он чувствовал, что оскорбили его жену. Но ведь разговаривавший мог не знать, перед кем он говорил. Он просто высказывал мнение, которое, как подсказывал Джеффри внезапно проснувшийся инстинкт, должно быть очень распространенным у белых людей, живущих в желтой стране. Теперь, думая об этом, он вспомнил любопытные взгляды, бросаемые иногда на него и Асако иностранцами и, странно сказать, японцами, взгляды полупрезрительные. Быть может, он уже приобрел то выражение, которое отличает лица несчастных в клубе Кобе? Он вспомнил также бестактные замечания на борту парохода: «Миссис Баррингтон прожила всю жизнь в Европе; конечно, в этом вся разница».
Размышляя, Джеффри взглянул в большое зеркало в зале. На его честном, здоровом британском лице не было признаков преждевременной гибели. Были, пожалуй, признаки более зрелой мысли, опытности, менее поверхностных оценок. Глаза, казалось, провалились, как у фигурок в игрушечных барометрах, когда они чувствуют сырость.
Он начал понимать правильность советов тех, кто хотел удержать его от посещения Японии. Здесь, в колыбели расовых предрассудков, злые духи были на свободе. Совсем иначе в великодушном, терпимом Лондоне. Асако была прелестна и богата. Ее принимали всюду. Жениться на ней было не страннее женитьбы на француженке или русской. Они могли бы мирно жить в Европе, и ее далекое отечество еще придавало бы ей прелести. Но здесь, в Японии, где между горсточкой белых и мириадами желтых людей лежит пустынная и укрепленная нейтральная полоса, отмеченная кровавыми схватками, подозрительностью и коварством, положение Асако, жены белого, и самого Джеффри как мужа желтой женщины было иное. Услышанные им фразы прояснили все. Нехорошо, когда белые мужчины связывают свою жизнь с желтыми девушками. Это их падение. Джеффри слышал о подающих надежды молодых офицерах в Индии, которые женились на туземных женщинах и должны были оставлять службу. Он ведь сделал то же самое. Лучше идти забавляться в чайные дома, как Вигрэм. Он – муж цветнокожей.