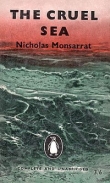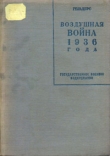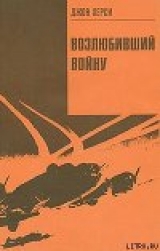
Текст книги "Возлюбивший войну"
Автор книги: Джон Херси
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Мне казалось, Дэф, что сердце у меня колотится вдвое быстрее обычного и выстукивает одно и то же: Бреддок-Бреддок-Бреддок-Бреддок-Бреддок…
– Включите кран своего огнетушителя, – посоветовал Хендаун.
Ты знаешь, я не мог оторвать глаз от огня – так, наверно, сидят в зимний вечер у камина и завороженно смотрят на танцующие языки пламени.
– Лейтенант Боу-у-мен! – как бы пропел Хендаун.
Только тогда до меня дошел смысл его слов, и я, мысленно обозвав себя болваном, быстро схватился за кран.
– Ладно, – сказал Мерроу, – пусти тушитель, будь он проклят!
Я потянул за кран, и огонь погас. Я чувствовал себя так, словно совершил нечто важное или блеснул своей находчивостью. Или знал заранее, что ты будешь гордиться мною, Дэф.
Мерроу помешал мне умиляться самим собой.
– Хорошо, – сказал он, – зафлюгируй винт.
К тому времени я уже почти полностью пришел в себя, выключил регулятор состава смеси третьего двигателя, расположенный над секторами газа, быстро перевел на центральном пульте управления маленький рычажок, похожий на металлический электровыключатель (этот рычажок закрывал подкачивающий насос третьего мотора), потом протянул руку над указателем крена и поворота и старательно, не торопясь, но с силой нажал кнопку установки винта во флюгерное положение.
Возможно, Дэф, все это покажется тебе пустяком, но мне-то тогда не казалось. Сердце у меня выстукивало: Бред-Бред-Бред-Бред, вокруг щетинилось миллиардов шесть переключателей, кнопок, рычагов, а я нашел нужный рычаг и нужный переключатель и нажал нужную кнопку. Это было совсем неплохо.
Теперь, когда кризис миновал, пламя было потушено, а воздух свободно обтекал застывший винт, туман у меня в голове рассеялся, и я стал соображать с поразительной быстротой и отчетливостью…
Очень ясно я припомнил: в течение тех нескольких минут, что я работал с Хендауном – по моей инициативе мы занялись переливкой топлива из бака выключенного двигателя, – меня не беспокоили никакие посторонние мысли, я весь был поглощен делом. Благодаря твердой руке Мерроу мы и на трех моторах держали свое место в боевом порядке так уверенно, словно нас связывали с группой стойки, болты и заклепки. Когда мы опустились тысяч до двенадцати, Мерроу стащил с себя маску и взглянул на меня, как бы говоря: «Ты, олух, конечно, думал, что с нами все кончено, но я спас вас».
Я продолжал размышлять. «Тело» могло получить повреждение. Самолет Мерроу был уязвим, как и все остальные. И тут я ощутил тошноту. Решив несколько размяться, я сказал, что пойду в уборную, отстегнулся и направился в хвост самолета. В радиоотсеке Батчер Лемб делал вид, что никакой войны нет; он снял маску, согнулся над приставным столиком и на бланке формы номер один писал матери письмо…
– О чем ты думаешь? – спросила Дэфни.
Я думал о том, что в конце концов «Тело» вовсе не такое уж неуязвимое.
– Ни о чем. Я думаю, что Мерроу не маг. А ведь, пожалуй, раньше я считал его волшебником.
3
– И все же, – продолжал я, – он вырос в моем мнении.
Я сказал Дэфни, что Мерроу выглядел просто великолепным в своем хладнокровии и что нельзя не вохищаться его умением принимать в сложной обстановке единственно правильное решение. Я же в критические минуты терял всякое представление о времени и ошеломленно взирал на происходящее, пока вновь не наступало просветление и не возвращалась способность действовать, причем у Мерроу и, очевидно, у Нега Хндауна этот переход совершался мгновенно. Я сказал Дэфни, что останусь плохим солдатом, пока не научусь брать себя в руки так же быстро, хотя понимал, что это не зависит ни от моего желания, ни от самовнушения, сколько бы я ни заклинал самого себя, будто становлюсь все храбрее и храбрее.
– На следующий день после пожара, – продолжал я, – Мерроу дал мне понять, как можно этого добиться.
В тот день боевого вылета не предполагалось, но Мерроу чуть свет отправился в штаб и получил разрешение воспользоваться самолетом «Бетти Грейбл», поскольку на нашей машине менялся неисправный двигатель; он собрал экипаж, поднял нас на такую высоту, что нам пришлось надеть кислородные маски, и устроил учебную тревогу на тему: «Воспламенился мотор номер один». Мерроу повторил все, что случилось накануне, затем несколько раз прорепетировал с нами порядок действий, если вновь произойдет нечто похожее. Он давал нам вводные о возникновении пожара то в одном, то в другом месте самолета, и мы практиковались в тушении огня.
Только так, по мнению Базза, можно было закалить людей. Он не представлял себе опасность в виде чего-то целого и неделимого, как монолит; подлинная опасность складывалась из больших и малых неприятностей, которые уже случались и могли случиться в будущем, и секрет его внутренней силы заключался в том, что он предвидел их и старался предупредить – постепенно, одну за другой. Мне вдруг пришло в голову, что Мерроу отбивал от Опасности небольшие осколки, складывал в изолированные отсеки и время от времени извлекал, чтобы очистить от пыли. Наверно, он много раз разбирал в уме любые возможности поломки, мелкие и крупные, пока не приучил себя инстинктивно их предвосхищать. Казалось, в летном деле для него не осталось ничего неожиданного или неизвестного, и когда происходила какая-то неприятность, она не представляла для него непреодолимую стену, перед которой в бессилии и страхе цепенеет ум. Он встречал эту неприятность, как нечто давно знакомое, она вызывала у него вполне реальные представления о возможных последствиях, о средствах устранения и предупреждения, о необходимых контрмерах.
Все это я рассказывал Дэфни, но понимал и еще кое-что, о чем не говорил ей, – в той войне, какую вели мы, от человека требовалась поистине безграничная стойкость. Вначале неведение с успехом заменяло нам силу. Во время первых боевых вылетов мы держались мужественно и твердо, потому что не понимали, что представляет собой опасность. Но постепенно, уясняя, как надо предупреждать возникшую угрозу или бороться с ней, какой бы характер она ни носила, мы быстро усваивали и то, что всех опасностей все равно не избежать – опыт подсказывает, что стоит устранить одну, как появляется другая. Они словно соревновались между собой, а ставкой была наша жизнь, и, должен признать, именно у Мерроу я научился интуитивно отражать возникающую опасность, что и помогло мне – какая ирония судьбы! – пережить его.
4
Потом я заговорил о том, как часто мы допускаем оплошности и даже серьезные ошибки и к чему они приводят, когда под вами двадцать с лишним футов и ваши бомбы, предназначенные для какого-нибудь важного промышленного центра противника, падают не на него, а на жилые дома. Краешком сознания, вероятно, я все еще помнил про беднягу отца Дэфни, заколоченные окна и пустые коробки домов, которые мы видели в то утро, во время поездки в автобусе. Я прямо заявил, что мне все больше претит убийство. Плохо, когда мы убивали немцев, но еще хуже, когда убивали французов, бельгийцев, голландцев. Я сказал, что меня воспитывали в умеренно буржуазной строгости, что мои родители были добрыми людьми, хотя и не до приторности, и что природа наделила меня довольно общительным характером и той добропорядочностью, которой обладали до службы в армии многие наши офицеры и солдаты. В армии, где нет ничего святого, где поощряются жестокость и распущенность, а человеколюбие и нравственность ценятся не дороже куриного помета, я довольно легко отказался от многого из того, что именуется порядочностью, постоянно прибегал, как и мои приятели, к нецензурным словечкам и выражениям, пьянствовал, развратничал и любой ценой добивался удовлетворения своих прихотей. Но оставалось кое-что такое, чего я не мог переступить, как бы меня ни толкали обстоятельства, прежде всего – убийство. Чего проще – жить с друзьями и не мешать им жить; куда сложнее – убивать, даже врагов, чтобы жить самому. Я начинал войну без особой уверенности, что немцы действительно представляют какую-то угрозу для меня или для моего образа жизни; я переслушал об этом великое множество разговоров, читал в газетах, но ни тогда, ни теперь не верил в реальность такой угрозы, даже после того, как увидел утром руины Лондона. Своими мыслями я попытался поделиться с Дэфни.
– Счастливчик, – сказала она, снова поглаживая меня по лицу; на какое-то мгновение этот массаж показался мне чем-то вроде тех дешевых лекций, что часто устраивались в наших ВВС для политической обработки личного состава, ну, и для того, разумеется, чтобы рассеять личные мои сомнения; Дэфни, как англичанка, потерявшая по вине немцев отца и возлюбленного, тоже была заинтересована в том, чтобы укрепить мой высокий боевой дух.
– Это почему же счастливчик? – грубо спросил я.
– Потому, что ты не такой, как некоторые другие.
Внезапно мне захотелось немножко поссориться.
– Черт побери, что, собственно, ты хочешь сказать?
– Кое-кто из них воспринял войну как разрешение.
– Уж не на охоту ли? – Я пытался иронизировать.
– Вот именно, – спокойно ответила Дэфни. – Война для них легализует и даже облагораживает все, что бы они ни делали.
– Кто это «они»?
– Ну, уж я-то их знаю. Я сделала ошибку, влюбившись в одного из них. – Она перестала гладить меня по лицу.
– Да ну же, Дэф! – попросил я; ее пальцы снова пришли в движение, и я понял, что их теплое прикоснование гораздо важнее для меня, чем все земные беды. Я потерял интерес к разговору, прижался головой к упругому животу Дэфни и чуть не прослушал то, что она сказала дальше.
– Ты должен бы знать одного из них.
Конечно, она имела в виду Мерроу. Так моя Дэфни, уже составив мнение о моем командире, бросила намек, и жаль, что я не обратил на него особого внимания.
Если бы я вдумался в ее слова, если бы не впал в блаженное полусонное состояние, убаюканный прикосновением ее пальцев, гладивших меня по виску, я бы значительно раньше раскусил Мерроу и не был бы так потрясен жесточайшим разочарованием и внезапной решительной переменой в моем отношении к нему незадолго до конца нашего пребывания в Англии.
5
Время неслось подобно быстроходному катеру, и не успели мы оглянуться, как нам вновь пришлось занять места на барже, чтобы спуститься вниз по реке; оба мы проголодались. По установленному правилу, во всей Англии ваш счет в ресторане или кафе не должен был превышать пяти шиллингов, однако Дэфни знала одно место около Сохо-сквера, где за соответствующую мзду подавали отменную, поджаренную до хруста баранину. («Какое это удовольствие – нарушать установленный порядок!» – сказал я). Потом, во второй половине дня, мы сняли номер в одной из лучших гостиниц, а когда чопорный клерк спросил о багаже и Дэфни приподняла свою сумку, достаточно вместительную, чтобы в нее вошла ночная рубашка и всякие другие принадлежности, он, не моргнув глазом, пробормотал: «Блдрю вс», – с ударением на последнем слове, что должно было обозначать: «Благодарю вас», и даже не предложил мне уплатить вперед, наверно, из-за войны и из-за того, что мы союзники и все такое прочее; но, возможно, он благодарил меня за ленд-лиз. У меня мелькнула мысль, что американцы говорят «ленд-лиз», англичане же «лиз-ленд»[20]20
Имеется в виду принятый в 1941 г. в США «Закон о передаче взаймы (ленд) и в аренду (лиз)" вооружения союзникам.
[Закрыть] – самовосхваление в первом случае и самообман во втором.
Дряхлый швейцар – все молодые люди были заняты делом более важным – с единственным ключом на огромном кольце привел нас в номер.
– Прошу, сэр, – сказал он, стоя в дверях и показывая локтем (наверно, чтобы не видела дама) на внутреннюю задвижку. Я не поскупился на чаевые, а когда он ушел, решительно закрыл задвижку, и мы с Дэфни, смеясь, обнялись.
Постель была превосходна. Мы провели в ней, большей частью без сна, часов двадцать.
6
В воскресенье после полудня Дэфни нужно было выехать в Кембридж, чтобы в понедельник утром вовремя выйти на службу; я проводил ее на вокзал Кинг-кросс, потом поймал такси и поехал к Мерроу и остальной банде в гостиницу «Дорчестер», где они собирались остановиться. Как оказалось, Мерроу действительно снял здесь номер, но когда я позвонил по внутреннему телефону, мне никто не ответил, и я, сунув коридорному чаевые, попросил его открыть номер; в нем никого не оказалось; я лег на кровать и отдался во власть самых счастливых воспоминаний.
Дэфни действительно стала моей! Вчера, оставшись в номере одни, мы испытывали не только глубокую радость, но и непреодолимое желание. Все последующее в самом деле казалось нашим первым прикосновением друг к другу, нашим первым сближением, потому что на этот раз Дэфни отдалась мне полностью, и я понял, что не ошибался: где-то глубоко в ней таились неожиданности, бури чувств, пламя, бездонные пропасти, нежность, покой.
– Ты все еще любишь меня? – с тревогой спросила она перед расставанием.
Никаких деклараций на сей счет я не делал, ибо и сам не мог с уверенностью сказать, что такое любовь. Но у меня не было сомнений, что хозяин положения я, и вопрос удивил меня.
Потом она расплакалась. Она рыдала в моих объятиях, и это тронуло меня до глубины души, я воспринял ее слезы, ее судорожные рыдания как бесценный дар, – она дарила мне всю себя, целиком. Я понимал, что какие-то события прошлого заставляли ее до поры до времени оставаться сдержанной; до сих она просто была покорной, и, наверно, в тот первый раз, в Кембридже, я овладел ею силой, хотя и не встретил сопротивления; во всяком случае, тогда она не ответила со всей искренностью на мое чувство. Но сейчас она была искренней, сейчас она рыдала от переполнявшей ее радости. Новыми порывами страсти я осушил ее слезы. Мы были вместе всю ночь и все утро и словно заново узнавали друг друга.
Я уснул и еще ни разу после нашего приезда в Англию не спал так крепко; я погрузился в бархатную темноту, уснули все сокровенные тайники моей души, но этот оздоровляющий покой нарушил полупьяный Мерроу – он влетел в комнату, собираясь принять перед обедом душ. Он разбудил меня и уговорил отправиться в странствование по кабакам. Как оказалось, могучему воину было больше нечем себя занять. Мы вышли и стали бродить из бара в бар. Впрочем, бродил, возможно, один Мерроу, что же касается меня, то я летал. Я был пьян. Мне не хотелось пить, но я выпил. Потом еще. Мы упивались вином, пробовали джин, пили шампанское, нашли так называемое виски. И горланили на Пелл-Мел.
В «Беркли-беттери» мы спутались с несколькими голландцами, летчиками английских ВВС, снова пили шампанское и закусывали требухой.
Мы разговорились с голландцами, и они начали изливать свою ненависть к Гитлеру («Дэф! Дэф!» – твердил я, погружаясь временами в задумчивость), когда Мерроу вдруг заявил двоим из них: «А знаете, кого ненавижу я?»
Мерроу набросился на Джона Л. Льюиса. Голландцев, которых Гитлер лишил дома, семей, работы, поразила неистовость Мерроу, ибо они и понятия не имели, кто такой Льюис. Мерроу начал с описания непомерно большой головы Льюиса и его огромной, набухшей от высокомерия верхней губы; он нарисовал яркий портрет Льюиса, и, как ни странно, это оказался портрет существа, в которое с годами мог превратиться сам Мерроу, – грубого, агрессивного, похожего на жабу. В конце апреля Льюис организовал забастовку шахтеров каменноугольных рудников в Алабаме, Кентукки и Пенсильвании и натянул нос провательственному комитету по урегулированию отношений между рабочими и промышленниками, так что пришлось вмешаться самому Рузвельту. А люди тем временем гибли на фронтах вдали от родины! Начав свое обличение со скотских эпитетов – вонючка, свинья, лошадиный зад, Мерроу перешел от скотологии и демонологии и в конце концов договорился до того, что Гитлер стал выглядеть у него всего лишь как дерзкий и шаловливый мальчишка, Льюис же – как настоящее чудовище. У голландцев чуть глаза на лоб не полезли, но и меня, признаться, удивила злобная брань Мерроу; даже о сержантах он не говорил так плохо. Я спрашивал себя: почему? Возможно, ответ надо было искать в нарисованном им портрете, – точнее, карикатуре Льюиса, – в нем угадывались некоторые черты самого Мерроу: а возможно, в Баззе все еще бродила неугасшая злоба, вызванная борьбой с холодом и неудобствами в марте и апреле, когда он участвовал в хищении угля, завезенного для душевых рядового и сержантского состава.
Голландцы ушли, покачивая головами, а вскоре и мы покинули «Беркли-беттери». В «Савое» мы застали Макса Брандта в компании каких-то военных пижонов из штабных крыс в габардиновом обмундировании, сшитом, как они утверждали, на Сейвил-роу. Они все время вели ожесточенную войну с портными, поскольку им приходилось покупать новое обмундирование каждый раз, как только у них на сиденье начинали лосниться штаны.
– Боумен, – заговорил Мерроу, когда мы снова выпивали с ними, – что с тобой происходит? Вид у тебя такой, будто ты начинился гашишем.
Баззу явно не давала покоя моя рассеянность, а она объяснялась тем, что я не переставал мечтать о Дэфни; он же всегда хотел, чтобы все внимание уделяли только ему, и обычно добивался своего.
– Девушка по имени Дэфни, – ответил я.
– У тебя что, мозги набекрень? – удивился Мерроу.
– В чем дело, верзила, тебе не нравится имя Дэфни? – спросил один из этих портновских манекенов, уже изрядно клюкнувший.
– Знаешь что, мой милый, – сказал Мерроу, – дай тебе Бог пожать столько рук в разных там посольствах и герцогских чертогах, если ухитришься туда пробраться, сколько женщин побывало у меня в постели. Но я летчик! Никогда ни одна женщина не сумеет встать между мной и самолетом.
– Да, но откуда ты взял, что Боу собирается бросить летать? – вмешался в разговор Макс, да благословит его Господь.
– А ты взгляни на него! – заорал Мерроу, ткнув пальцем в мою сторону.
– Капитан, – заговорил наш новый знакомый, – вы разговариваете так, словно на тему «А» никто другой, кроме вас, и заикнуться не смеет.
Уж больно откровенно парень выражал свои мысли, и я встревожился, опасаясь, как бы Мерроу не пришел в бешенство. Однако он покровительственно ответил:
– Знаешь, друг, в разведке, возможно, бабы могут быть темой «А». В военной же авиации тема «А» – летное дело. Тема «Б» – хреновина, или, иначе говоря, бомбы, так, Макс? А бабы – тема «В». Верно, Боумен?
Он искал поддержки у меня, у всех нас. Летчики против всего мира…
Мы снова отправились дальше. В тот вечер мы здорово покуролесили. В «Кабине капитана» попали в компанию каких-то щеголей из штаба VIII воздушной армии, расположившихся за большим столом в обществе нескольких девиц из Мейфера, искательниц острых ощущений; и здесь со мной произошла странная вещь. Я начал флиртовать с одной из них, танцевал с ней, чувствовал себя настолько самоуверенным, что чуть не пригласил отправиться в постель, причем не сомневался в согласии. И тем не менее я любил во всем мире одну лишь Дэфни. Наверно, это была инерция, дух того сумасшедшего сумеречного времени, которое мы переживали.
Я прикорнул в «Дорчестере», когда на востоке, среди аэростатов заграждения, уже занимался шафранный рассвет.
Последнее, что я слышал, засыпая, был грохот британских башмаков, простучавших твердыми каблуками по тротуару под нашим окном, эхо удаляющихся и постепенно затихающих шагов.
7
Я проспал глубоким сном до следующего полудня, потом отправился в старомодную фотостудию и самодовольно ухмылялся, словно человек, в одиночку выигравший войну, пока вдова, владелица студии, нырнув под кусок черной материи позади огромного фотоаппарата, нажимала резиновый шар; я не стал ожидать, пока будут готовы карточки, расплатился и велел послать один экземпляр Дэфни, а другой – моей матери.
8
Наш экипаж, как мы заранее условились, собрался на Кинг-кросс, чтобы поймать поезд, отправляющийся на базу. Ожидая поезда, мы наблюдали, как маневровый паровозик с пыхтением двигался взад и вперед; выждав, когда он тронулся в очередной раз, Мерроу вскочил на подножку, паровозик резко прибавил скорость, и наш могучий крошка укатил с вокзала.
– К сожалению, железная дорога недостаточно длинна, чтобы увезти его в тартарары, – сказал Хендаун.
Подходило время отправки нашего поезда. Мы начали беспокоиться о своем командире. Прошло минут пятнадцать. Прибыл знаменитый экспресс с севера – «Королева Шотландии» или что-то вроде того; величественный черно-красный паровоз, словно радуясь остановке, со свистом выпускал клубы пара. В окне кабины появилась большая голова в испачканной углем фуражке английского машиниста; гнусную физиономию рассекала торжествующая ухмылка, и принадлежала она, конечно, Мерроу. За его спиной мы увидели солидного пожилого английского железнодорожника в сплющенной блином форменной фуражке ВВС.
Мерроу так никогда и не рассказал, как он ухитрился проделать этот трюк.
9
В поезде, на обратном пути в Пайк-Райлинг (Мерроу всю дорогу оставался в фуражке машиниста), мы узнали, что во время отпуска Хендаун попытался просветить Малыша Сейлина относительно некоторых деталей нашей грешной жизни и подыскал для крохотного парня крохотную женщину, снял для них крохотную комнату с крохотной постелью в крохотном доме, но в последнюю минуту, когда Хендаун инструктировал его о предстоящей крохотной операции, Малыш вдруг взбунтовался и выгнал Нега из комнаты ко всем чертям. Дальше выяснилось, что, закрыв дверь на задвижку, неблагодарный маленький мерзавец заткнул туалетной бумагой крохотную замочную скважину.
– Ну и как, Малыш? – поинтересовался Мерроу.
– Здорово, – ответил Малыш, довольно похоже копируя ухмылку своего командира.
10
Вернувшись на базу и покончив с обычной процедурой регистрации, мы мимоходом взглянули на доску объявлений командира авиагруппы и обнаружили следующее извещение:
«В связи с увеличением интенсивности операций, в различных местах аэродрома скопилось много мусора, ненужной бумаги, пустых банок. Предупреждаю командиров всех частей в Пайк-Райлинге о личной ответственности за содержание в чистоте отведенных им секторов».
Ниже висел еще один отпечатанный на машинке документ:
«На базе наблюдается прискорбное ослабление дисциплины, особенно в отдании чести. Всему личному составу рекомендуется более строго следить за своим внешним видом и вести себя, как полагается военнослужащим. Все офицеры, сержанты и солдаты обязаны четко и правильно выполнять порядок приветствия старших по званию».
– Сдает полковничек, – заметил Мерроу. Он имел в виду командира нашей авиагруппы Уэлена.
– Чушь, – ответил Хеверстроу. – Просто он предполагает, что мы хорошо провели отпуск, и потому хочет испортить нам настроение.
Однако Мерроу говорил совершенно серьезно.
– Нет, – продолжал он, – вы еще увидите. Он спятил. Любой строевик, у которого на уме только устав… – И Базз посверлил пальцем висок.
В течение двух следующих дней мы отдавали честь с такой четкостью, словно кололи дрова. Но потом все пошло по-старому.
11
Доложив о возвращении, я отправился в нашу комнату и провел в одиночестве около часа, так как Мерроу счел себя обязанным побывать в офицерском клубе и подробно отчитаться в потрясающих победах над лондонскими женщинами. Я боялся, что мысли о Дэфни не дадут мне покоя, но, бросившись на койку, ощутил лишь одно желание: насладиться мыслью, что снова оказался в привычной обстановке своей комнаты. Печка. Муслиновые занавески для затемнения, некогда черные, а теперь с желто-зелено-серыми пятнами от солнца и сырости. Острый запах грязных солдатских одеял. Все было хорошо мне знакомо. Мой дом. Я закрыл глаза и представил себе свой металлический шкафчик, где, несмотря на тесноту, царил относительный порядок, где нашлось место для всего и все было если и не на месте, то, во всяком случае, под рукой. Потом я начал думать о Мерроу – не о живом Мерроу, а о том, что был разбросан по всей нашей комнате, – неорганизованном, самоуверенном, способном свести с ума, непохожем на других. Я ненавидел его неряшливость и одновременно восхищался ею. Свои полотенца – сухие и мокрые – он швырял под кровать. Он часто забирался в мой шкаф за носками или носовыми платками, потому что ленился порыться в куче собственного белья, хотя мог бы найти в ней все, что требовалось. Вместо пепельницы на его столике красовалась верхняя половина человеческого черепа (по его утверждению, женского), вечно наполненная цилиндрическими горками пепла. Его восьмидолларовая подушка… Гавайская гитара без струн… Вырезанные откуда-то фотографии хорошеньких женщин, аккуратно покрытые прозрачным целлофаном: Даниэль Дарье всего лишь на расстоянии вытянутой руки; Полетта Годдард, извивающаяся так, словно она пыталась выскользнуть из платья; Элинор Хоулм, демонстрирующая костюм для верховой езды; Бетти Грейбл («Способная особа!» – говаривал Мерроу); умопомрачительная Симона Симон. Некто Варга. Некто Питти. И только одна фотография совершенно обнаженной дамочки, якобы будущей кинозвезды, по имени Кармен Лундквист. Шведские титьки, испанский зад – так отзывался о ней Мерроу. Он считал ее своей безраздельной собственностью. Одно время он прикрывал фотографию куском картона, когда-то вложенного в прачечной в его сорочку, и отгибал всякий раз, когда испытывал потребность посмотреть на фото. Припоминаю, как на второй день после нашего прибытия в Англию в зашел в комнату и увидел, что Мерроу прибивает на стену эти снимки. Где он достал? Во время учебы их у него не было… На столе постоянно возвышалась готовая вот-вот рухнуть груда мерроувщины: четыре банки смазки для химической защиты обуви – дрянь, которую мы приволокли с другого конца света для защиты ног от ядовитых газов и которую Мерроу считал даже более подходящей растопкой для английских так называемых печей, чем крем для чистки ботинок; пара длинных кальсон с провисшим сиденьем, приготовленных для медсестер, любительниц увеселительных прогулок, поскольку (по словам Мерроу) одна из трех во время первой прогулки едва не обморозила ягодицы; ведро с песком из противопожарного инвентаря, используемое для сбора пепла и гашения окурков; комиксы, старые номера газет «Звезды и полосы» и «Янки» – не для чтения, конечно, а для растопки печи, вытирания пролитого пива и ликвидации постоянно проникавших в комнату пчел.
За окном начали потрескивать динамики, я привстал, но снова лег, когда услышал голос болтуна и чудака по имени Кид Линч.
– Теперь послушайте вот это, – проговорил он:
У меня нет ненависти к тем, с кем я воюю.
У меня нет любви к тем, кого я охраняю…
Ни закон, ни долг не обязывали меня воевать,
Общественные деятели и приветствующие толпы тут тоже ни при чем.
Внезапный порыв восторга
Погнал меня на это буйство в облаках.
Свою декламацию он закончил словами: «Докладывает лейтенант Линч». Стихи вызвали у меня какое-то странное ощущение, я почему-то вспомнил мать. Стихи эти написал не Линч, он мог кропать лишь бездарные вирши. Так, одетым, я и уснул и проспал до десяти часов следующего утра – часов шестнадцать подряд.
12
Какая ирония: у меня появилась определенная цель в жизни, но само существование стало казаться мне нестерпимым. Я скучал, был нетерепелив и раздражителен; мне хотелось летать, и в то же время я ненавидел полеты.
Во второй половине дня, после того как я отоспался, стало известно о некоторых перестановках в командном составе нашей группы, вызванных тем, что двое из трех командиров эскадрилий закончили свой срок пребывания в Англии. Бинза произвели в подполковники, и он получил одну из эскадрилий, а дружок Мерроу, Кудрявый Джоунз, стал начальником оперативного отделения штаба. После официального объявления об этих и других повышениях Мерроу некоторое время держался с еще большей развязностью и бахвалился пуще прежнего, но я-то понимал, что он считает себя несправедливо обойденным, и даже я чувствовал себя обиженным за него. Как могли обойти Базза? Вот еще одно доказательство того, что полковник Уэлен спятил. Любой, у кого оставалось хоть немного ума, понимал, что Мерроу лучший летчик на нашей базе. В тот вечер в солдатской столовой какой-то штатский, как видно профессиональный шулер, показывал нам карточные и другие фокусы и демонстрировал ловкость рук, но не просто демонстрировал, а открывал секреты трюков. Объяснил, для чего делаются «стружки», то есть карты, «рубашкам» которых с помощью бритвы придается чуть клинообразная форма, для чего в других случаях у некоторых карт отрезаются крохотные кусочки. Очень медленно, позволяя улавливать движения рук, он показал, как много жульнических приемов может применить человек, раздающий карты, и как, в сущности, легко специалисту надувать простаков. Когда мы расходились, рядом со мной и Мерроу оказался наш капеллан, майор Плейт; лысый, с сизым подбородком, он до посвящения играл в джазе на саксофоне. «А не сыграть ли нам пару робберов в покер?» – пытаясь шутить, сказал он.
Мерроу, гордившийся своими выигрышами в покер и известный в нашей авиагруппе как человек, который почти никогда не проигрывает, попридержал меня за рукав; капеллан проследовал дальше один. Мерроу был рассержен. «Ну и мерзавец же! – прошептал он. – Считает, должно быть, что я их надуваю. Черт бы их побрал, просто мне отчаянно везет».
13
На следующий день, двадцать шестого мая, стояла превосходная погода, но нам объявили, что вылет не состоится. Самое худшее заключалось в том, что нас заблаговременно не предупредили; мы ничего не знали до десяти утра, и я почувствовал, как мне осточертел и штаб крыла, и этот псих Уэлен; если бы нас оповестили накануне вечером, я мог бы договориться с Дэфни о встрече. Все у нас на базе очень нервничали, особенно глядя на тех, у кого уже закончился срок пребывания в Англии, – человек тридцать с лишним «счастливых вояк», как мы их прозвали, хотя они уже больше не были вояками, да и счастливыми тоже. Во второй половине дня я присутствовал на бейсболе – отбирали игроков в сборную команду авиагруппы; Мерроу так неистово, по-детски «болел» за Клинта Хеверстроу, что его любимца едва не прогнали из команды; только редкое умение Клинта брать низкие мячи заставило тренера забыть о хриплых, вызывающих раздражение выкриках Мерроу и взять Хеверстроу в первый состав. Можно было подумать, что решение тренера оказалось для Мерроу куда важнее, чем рухнувшая надежда стать командиром эскадрильи. Я чувствовал себя обессиленным и наполовину свихнувшимся: в какое глупое положение поставил себя Мерроу! Мне захотелось проехаться на велосипеде.
Было уже почти шесть. Я обогнул аэродром по кольцевой дороге, добрался до ворот на Бертлек и поехал деревенскими проселками. Шелковистое небо отливало розовато-белым, пробуждая воспоминания о штокрозах в родном Донкентауне. Теплые лучи солнца освещали живые изгороди и засеянные поля. Мне все осточертело. Я вернулся на базу, зашел в офицерскую столовую, бросился в одно из пропахших пивом кожаных кресел и некоторое время слушал радиопрограмму для американских военнослужащих с участием Френсис Ленгфорд, Джинни Саймс и Конни Босуелл, причем все, что я услышал, вызывало только одно желание: разнести в пух и прах это помещение.