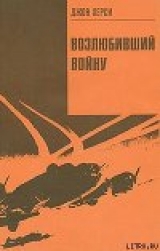
Текст книги "Возлюбивший войну"
Автор книги: Джон Херси
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Самолет Бреддока назывался «Бычий загон». Бреддока связывала с Мерроу большая дружба, но я его почти не знал: при упоминании его имени в моем представлении возникала лишь тонна первоклассного мяса, – большой, высокий, тучный человек, о котором говорили, будто в воздухе он необыкновенно хладнокровен и собран; он должен был обладать примитивной, как у кита, нервной системой. Я даже не задумывался, кто еще находится на его самолете, кроме «туриста», я знал только, что там Бреддок, «Бычий загон».
Все шло нормально. Мы пролетели над целью через «железные кучевые облака», как называл Хендаун зенитный огонь, не потеряв ни одного самолета, и, уходя, радовались, что в ясном небе не видно вражеских истребителей, а впереди нас ждут дом и отдых; мы летели в сомкнутом строю и ни разу не услышали по радио о появлении истребителей, зато генерал, как и положено новичку, молол всякий вздор. В общем, все мы пребывали в хорошем настроении, полагая, что еще один боевой вылет – сдьмой для «Тела» – практически уже закончен; это и в самом деле чудесно – забраться так высоко в небо и сознавать, что возвращаешься в Англию.
Но вот что-то привлекло внимание Мерроу. Он показал вверх, на самолет Бреддока. «Берегись, Бред! – мысленно крикнул я. – Берегись, берегись, ты горишь! Горит двигатель номер два!»
Я не мог оторвать глаз от тоненькой предательской струйки темноватого дыма, не похожей на обыкновенный выхлоп, но еще не предвещавшей опасности; струйка не рассеивалась. Кто-то сообщил Бреддоку по радиотелефону, что он горит, и только тогда вся авиагруппа узнала о нависшей над ним беде. Внезапно дым почернел, на фоне неба стали заметны бледные языки пламени, и у меня создалось впечатление, что самолеты как бы сжали строй (Мерроу, несомненно, увеличил наддув), чтобы лучше видеть происходящее, – так насекомые собираются в ночи вокруг источника света.
Пытаясь сбить пламя, Бреддок перешел на пологое планирование с невыключенными двигателями, и в этот момент Макс Брандт заорал по внутреннему телефону:
– Смотрите! Что за хреновина?
Что это было? Что? Какой-то предмет вывалился из «Бычьего загона» и пролетел мимо нас. Я сообразил: дверь маленького заднего люка; ее, видимо, вышиб стрелок хвостовой турели. Нет, в ведущем самолете с «туристом» на борту это не мог быть хвостовой стрелок. Скорее всего, второй пилот, потому что в присутствии генерала именно он выполнял обязанности хвостового стрелка, наблюдал за строем самолетов и докладывал обо всем генералу, с тем чтобы предоставить ему возможность принимать всякие идиотские решения; если бы наш самолет летел ведущим в группе, место хвостового стрелка пришлось бы занять мне. На мгновение я представил, что это я выбил пролетевший мимо нас небольшой металлический лист и выбираюсь из самолета. Вздрогнув, я вспомнил, что вторым пилотом у Бреддока летал Козак – бледный, молчаливый парень, при упоминании о котором в памяти всплывала белая-белая кожа и густая черная щетина на окаменевшем, угрюмом лице… Показалась нога, потом другая; Козак протискивался наружу, как нарождающееся существо, и я чуть не закричал по радио: «Берегись, Кози! Бог мой, да тут больше ста самолетов, и все мы мчимся на тебя!»
Козак, конечно, подумал о том же самом, иначе не принял бы такого опрометчивого решения. Он рванул вытяжное кольцо парашюта сразу же, как только выбросился из самолета. Он уже ничего не соображал. Только что он находился в мчащемся самолете, а теперь проносился в воздухе со скоростью более ста пятидесяти миль в час. Перед моими глазами промелькнул поблескивающий нейлон, вначале похожий на флаг, потом на большой ворох белья, и мы все неслись на Козака, а он, почти незаметный для взгляда в первые секунды, пока раскрывшийся парашют не замедлил его падение, уже не владел собой. Последовал удар. У него, наверно, не уцелело ни одной кости; он… его спина… Мы как раз находились под ним, когда раскрылся парашют; Козак согнулся дугой, и спина у него лопнула, как лопается на ветру туго натянутая лента; должно быть, он умер мгновенно; он, Кози, был мертв уже в тот миг, когда решил спастись и выброситься с парашютом, забыв о скорости, с которой мы шли, и о том, что нужно выждать. У него сломались и разум и тело. Как мне представлялось, при виде массы самолетов он подумал, что обязательно столкнется с одним из них, и решил не делать затяжного прыжка, чтобы не попасть под винты мчавшихся вокруг машин; он, наверно, надеялся благополучно пролететь через весь боевой порядок, если сразу откроет парашют, потому что мы заметим и обойдем его, чего мы никак не могли сделать.
Я хладнокровно подумал, что на месте Кози остался бы жив. На месте хвостового стрелка-наблюдателя ведущего самолета я бы падал и падал в затяжном прыжке, все вниз и вниз, вон к тем белым пушистым облакам, что вновь появились там, где начиналась зона высокого давления с ее сверкающей голубизной, и это был бы долгий-долгий – в пятнадцать тысяч футов – прыжок. Вот как я попытался бы сделать. Руки прижаты к бокам. Колени подогнуты… Но ты мертв, Кози, мертв оттого, что слишком хотел жить.
Я думал, что выбраться из самолета легко; а выбрался – повремени, распусти парашют и опускайся; вот о чем я думал. Возможно, на самом деле все было не так просто. Раньше я никогда не позволял себе размышлять над этим.
Теперь самолет Бреддока летел довольно далеко впереди нас и футов на тысячу ниже; он шел на большой скорости и то взмывал вверх, то устремлялся вниз или в сторону, однако дымил все сильнее и пламя все больше распространялось по машине, разгораясь, словно угли в походной печке, раздуваемое чьим-то сильным дыханием.
Бреддок стал набирать высоту. Когда он уже наполовину преодолел отделяющее нас расстояние, я заметил, что Базз делает то же самое; взглянув по сторонам, я обнаружил, что и вся наша группа набирает высоту и летит позади и выше сопровождаемой черным дымом машины Бреддока. Мы поднимаемся с тобой, Бред, не беспокойся, мы не бросим тебя. Нет, нет, мы не можем подниматься так круто. Эй! Эй! Не набирай так высоту! Ты потерял управление, машина становится вертикально. Какое страшное зрелище! Огромная «летающая крепость» прямо перед нами отвесно взмывает в небо. Дым все еще виден. В такой ясный день и… Нет! Нет!
Нет!
Он взорвался. Взорвался прямо перед нами, поднявшись на предельную высоту. Разлетелся вдребезги. Этот дым – почему вы все не выпрыгнули? Этот дым и пламя… Должно быть, началось с мотора номер два и его бензобака, а потом перекинулось на остальные. Две или три вспышки… Он взорвался.
Базз! Берегись этой дряни!
Двадцать или тридцать тонн обломков, и мы летели прямо на них. Взгляни. Взгляни на этот большой кусок металла. А теперь опусти голову, закрой глаза, не смотри. Ничего не происходит, мы снижаемся. Все пронеслось мимо.
Молодец, Мерроу, сумел увернуться!
Какой был взрыв! Мне показалось, что я даже слышал его, что вообще-то невероятно при такой высоте, расстоянии и в наших шлемах; сотрясение от взрыва я почувствовал даже в пилотской кабине.
Потом наступила тишина. Еще минуту назад все болтали по радиотелефону, каждый старался сказать что-нибудь поумнее, все трещали, а потом умолкли, потрясенные увиденным. Молчали все, а ведь вокруг летело больше сотни «крепостей», но никто не произносил ни слова; каждому было над чем подумать; все молчали: ни слова, ни единого звука. Но почему никто не пробовал заговорить? Мне хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил. Ну вот. Вот. Летевшая вверху эскадрилья: «Что ж, пристраивайтесь ко мне. Слушайте мою команду». Так-то лучше.
На внутреннем телефоне появился Малыш Сейлин. Представьте себе, он ничего не слышал. Только мы с Баззом и Лемб в радиорубке могли пользоваться радиотелефоном, а Базз лишь молча показал на машину Бреддока. Да одно замечание обронил Макс. Сейлин из нижней турели включился в переговорное устройство и спросил:
– Что за хлам пролетел мимо нас?
– Бреддок, – ответил Мерроу. – Это был Бреддок.
– А парашюты?
– Кто-нибудь видел парашюты? – обратился ко всем Мерроу.
– Один. Из хвостовой части, – ответил Макс Брандт. – Но парень поторопился его раскрыть.
– Это Козак, – вмешался я. – Тот бледный парень.
И тогда Малыш Сейлин из своего тесного кокона тихим, леденящим душу голосом произнес:
– А я знал! Я знал. Из этих гробов не выберешься, будь они прокляты!
Меня словно ударили. Никто не выбрался. Ни один. Все погибли. Козак погиб. Бреддок погиб. Тот генерал. Погибло десять человек. Я всегда считал, что из «крепости» можно выбраться, она такая большая. Много люков. Но оказывается, выбраться невозможно. Остается лишь сидеть на своем месте и ждать смерти. Спастись нельзя.
Я подумал: мне страшно! Кто-то обязан мне помочь. Взгляните на Мерроу – может, он? О, Боже, посмотрите на Базза, он улыбается мне. Он может заметить, что я боюсь. В его глазах, прикрытых летными очками, я вижу ободряющую улыбку. Он что-то хочет сказать, выкатывает глаза, как в тех случаях, когда рассказывает о женщинах; он собирается заговорить со мной, он нажимает большим пальцем кнопку внутреннего телефона на штурвале; он собирается обратиться ко всем нам.
– А знаете, ребята, с нашим корытом ничего такого не случится; нет, не случится, пока я с вами!
21
В Кембридж я приехал в отвратительном настроении.
Мы отправились в таверну, много выпили, и я, к своему удивлению, выпалил:
– Почему ты любишь такого коротышку, как я?
До этого мы вообще не говорили о любви.
– Все так сложно, – сказала Дэфни, опустив голову. Я понял, что она не ответила на мой вопрос.
За соседним столиком сидела женщина, миловидная, но с жетским выражением лица, блондинка, скорее всего работница; она либо пришла на свидание, либо просто надеялась подцепить здесь кого-нибудь. Чем больше она пьянела, тем больше злилась. Владелец таверны допытывался, зачем она пожаловала. Женщина пронзительным голосом утверждала, что «один человек» назначил ей свидание, а сама тем временем усиленно обстреливала глазами двух молодых американцев, игравших около бара в стрелки, – один из них был в летной кажанке, другой в баскетбольной куртке темно-красного цвета с написанным от руки названием части поперек спины. Хозяину в конце концов удалось выставить женщину, однако она успела наговорить ему кучу дерзостей.
Растроганный видом одинокой блондинки и еще полнее ощущая счастье своей близости с Дэфни, я пустился декламировать сентиментальные стихи: «Мне мнилась долина влюбленных», «Льется вино», «Я шептал, что слишком молод», причем в иных местах у меня даже перехватывало дыхание от избытка чувств, мне казалось, что все это создано для меня и Дэфни. Ее глаза под полуопущенными веками словно начали таять, когда я, задыхаясь, произнес: «…и опускались трепетные веки на затуманенные грезами глаза…»
В характере Дэфни была одна странность. Я знал, как она чувствительна ко всему, и когда ее что-нибудь трогало, выражение лица у нее становилось мягким, оно розовело, наливалось теплой-теплой кровью, веки опускались, а иногда она судорожно протягивала ко мне руки и произносила что-нибудь неожиданное и даже, как мне казалось, жестокое. Вот и сейчас она вдруг продекламировала:
– …Вот карта твоя, утонувший моряк-финикиец, – сказала она.
(А эти жемчужины – были глазами его. Посмотри!)
Вот прекрасная дева – владычица скал…
Я внезапно похолодел, меня охватило уныние. Ла-Манш!.. Всякий раз, когда мы летели туда и когда возвращались, я с ужасом думал, что надо пересекать этот английский ров, и одна мысль о его неспокойной ледяной воде бросала меня в озноб.
Однако, взглянув на Дэфни, я сразу почувствовал себя лучше; она ласково, со слабой улыбкой, смотрела на меня. Просто ей нравилось это звучное стихотворение, вот она и вспомнила несколько строф; она ничего не хотела ими сказать, разве только то, что я слишком расчувствовался. Мои стихи и ее стихи – вот она, разделяющая нас пропасть. Наивная сентиментальность и беспощадная ирония. Милый, добропорядочный американский юноша девушка-англичанка на краю агонизирующей Европы. Но я хотел, чтобы меня считали серьезным – в том смысле, в каком я понимал это слово. Я протянул руку и прикоснулся к щеке Дэфни, а она, чуть склонив голову, прижалась щекой к моей ладони, как бы подтверждая свою покорность и мое право быть серьезным.
– Милый, милый Боу! – сказала она.
– Любимая! – Я впервые произнес это слово, впервые заявил о своем праве на нее.
Дэфни как-то странно взглянула на меня, и ее окаянный язычок тут же переключился на совсем иную тему.
– У твоего командира какие-то дикие глаза, – заметила она.
На одно мгновение, освободившись от обаяния Дэфни, я вновь увидел перед собой ослепительную вспышку там, где в то утро находился самолет Бреддока, и спросил:
– Помнишь парня, на плечах у которого ездил Базз в тот вечер, когда копотью писал слова на потолке?
Дэфни сразу уловила что-то неестественное в моем тоне, кивнула и внимательно посмотрела мне в глаза.
– Сегодня… – начал я, но тут сосуд переполнявших меня чувств разбился, я уронил голову на край стола и разрыдался.
– Спокойно, спокойно! – услыхал я голос Дэфни.
Несмотря на устроенный спектакль, мне показалось необыкновенно смешным, как типично по-английски она относится к тому, что человек дает выход своим чувствам на глазах у всех: «Не теряйте мужества! Гип, гип, ура!» Ну, как тут не рассмеяться! Но мысль о том, что я и в самом деле близок к истерике, отрезвила меня, и я выпрямился.
– Так-то лучше, – проговорила Дэфни.
– Черт возьми, что же в конце концов творится? – с ожесточением спросил я. – Что мы делаем?
– А вот я стараюсь жить и поменьше задаваться такими вопросами, – отозвалась Дэфни, желая, видимо, сказать, что она, как женщина, не воюет, но и ей приходится много переносить.
Я почувствовал себя беспомощным, как во время нашего первого рейда, когда я находился в носовой части самолета, а Мерроу внезапно перевел машину на снижение, и я, потеряв весомость, повис в воздухе среди плавающих по кабине предметов. Я был жив, но меня неумолимо влекло навстречу смерти, и я ничего не мог с этим поделать.
Я вспомнил, как в прошлую субботу, на танцах, меня наполняло если не счастье, то нечто близкое к нему, когда каждое мгновение казалось прекрасным и каждая мелочь исполненной особого смысла. Я и сейчас пытался вернуться к тому состоянию, увидеть мир таким же, как тогда, но видел вокруг одну лишь обыденность: стакан теплого, напоминающего мыльную воду пива; недоеденный, да и вообще почти несъедобный кусок холодного пирога с почками; владельца таверны – он все еще наслаждался своей победой над блондинкой и с довольным ворчанием смахивал со столов грязной салфеткой хлебные крошки, которые, очевидно, представлялись ему стареющими проститутками, норовившими использовать его порядочное заведение для нужд своего промысла. И даже Дэфни: манжет ее рукава лоснился, и с точки зрения американца она вообще выглядела какой-то подержанной.
– Да, дорогой Боу, – заговорила она, – не очень-то я нравлючь тебе сейчас, правда?
– Дело не в тебе, Дэф. – Меня удивила ее проницательность.
Она привела меня к себе в комнату, усадила на край кровати и стала упрашивать рассказать все, что произошло утром. Я согласился. Она не высказывала своего мнения, но мне показалось, что она слушала меня со все большим удовлетворением. Моя откровенность была для нее важнее того, что я рассказывал. Я задыхался от горечи, кипел от негодования, она же выглядела глубоко счастливой. Ну, и способ ухаживания за девушкой! И тем не менее, по-моему, это точно соответствовало и месту, и времени, и нашим отношениям. Постепенно, слушая меня с широко раскрытыми задумчивыми глазами, она вдохнула в меня чувство не то чтобы силы, а какой-то душевной упругости; так кожа в процессе дубления становится эластичной.
Глава пятая
В ВОЗДУХЕ
13. 56-14.04
1
Над голландскими островами, расположенными на 51 градусе 35 минутах северной широты и 03 градусах 40 минутах восточной долготы, мы пролетели в тринадцать пятьдесят шесть, на высоте в двадцать одну тысячу футов, причем Мерроу, перед тем как мы проникли в воздушное пространство противника, разумеется, взял управление машиной на себя. Я злился на Базза с тех пор, как Клинт наплел, будто Мерроу переспал с Дэфни, но сейчас злость отхлынула, хотя меня все еще не покидало ощущение, что рядом со мной, во время этого долгого, но уже приближающегося к критической черте полета, сидит в некотором роде такой же враг, как и немцы.
Да, Мерроу был для меня таким же врагом, как нацисты. В конфликте с нацистами все было просто: либо выжить, либо умереть; конфликт с Мерроу, хотя оба мы находились в одном самолете и всецело от него зависели, был конфликтом убеждений, речь шла о судьбе того, что дорого человечеству и без чего дальнейшее существование утрачивало смысл, если бы и удалось выжить. Дело в том, что Дэфни открыла мне глаза на Мерроу. Он был разрушителем, возлюбившим войну. Ни мне, ни всем людям вообще никогда не дождаться мира, пока таким вот мерроу будет позволено предаваться их страсти.
В те минуты я видел в Баззе злейшего врага, хотя вся авиагруппа привыкла считать его моим ближайшим другом, и, подчиняясь этому настроению, придирчиво искал в нем проявления слабости; наблюдая, как проплывают внизу под нами, на самом краю Европы, огромные куски суши, отвоеванные человеком у моря, я подумал, что сегодня утром в поведении Базза было нечто такое, что у других сошло бы за силу, а у Мерроу могло быть только слабостью. Я имею в виду осторожность. Превосходный летчик, Базз обладал врожденной осторожностью, и потому казалось странным, что все то время, в течение которого успел стать героем и получить крест «За летные боевые заслуги», он так пренебрежительно относился к осмотрам и проверкам; но еще больше беспокоила меня в то утро его, я бы сказал, избыточная осторожность: против обыкновения, он сам проверял то одно, то другое.
Ни с того ни с сего он вдруг обратился по внутреннему телефону к бортинженеру:
– Послушай, Хендаун, этот сукин сын Блек ничего не говорил насчет смены гидросмеси?
– Нет.
– А ведь собирался сменить.
– Ничего не говорил.
– И я забыл спросить, хотя намеревался.
– Утром, – вмешался я, – давление было нормальное. Я проверял перед полетом. Оба бачка были в порядке.
– В порядке? – переспросил Мерроу. – Он же хотел залить в них новую смесь.
Мне было знакомо такое беспокойство. В июле, во время «блица», когда мы совершали боевые вылеты чуть не каждый день, мне пришлось немало поволноваться. Прежде всего я спрашивал себя, хорошо ли знали свое дело конструкторы самолета. Я спрашивал себя, правильно ли они рассчитали напряжение, нормальна ли нагрузка на крыло; мне где-то сказали, что если ваша «крепость» пикирует со скоростью свыше трехсот миль в час, то противообледенительные протекторы на передней кромке крыльев станут приподниматься – сначала чуть-чуть, потом больше и больше, потом начнут хлопать, отрываться и… Покончив с конструкторами, я принимался за рабочих самолетостроительного завода, которые монтировали «Тело». Им не давали покоя мысли о мясе и о бензине – и то и другое выдавалось по карточкам, и они больше ломали голову, как достать кусок филе, и потому после дюжины-другой самолетов начинали работать спустя рукава. Мне приходило на ум, что у приемщика, который, возможно, осматривал наш самолет, в тот день рожала жена, он был рассеян и проглядел, что рабочие не заклепали целый шов. Однажды во время рейда на Нант, когда Фарр и Брегнани с насмешкой назвали меня «учителем», поскольку я настойчиво требовал, чтоб они не забывали об осмотрах, я даже поднялся под каким-то предлогом со своего места и отправился искать тот самый незаклепанный шов… После рабочих авиационного завода я переходил к наземному экипажу. Вот уж кто действительно мог напутать! Четыре мотора из множества деталей каждый. Гидросистема, не менее сложная, чем водопроводная сеть Донкентауна. Система электропроводки совсем как в большом здании. Радио. Пневматика. Тормоза. Тросы. Им просто не под силу все проверить! Что же они забыли? Что упустили? Если бы Ред Блек работал двадцать четыре часа в сутки, он все равно не сумел бы даже начать обследовать наш самолет. Я затрачивал целые часы, составляя реестр того, что он мог пропустить.
Постоянное беспокойство обо всем, от чего зависело доброе здоровье нашего «Тела», было для меня делом естественным хотя бы потому, что я человек здравомыслящий. Таким уж я уродился. Но когда нечто подобное начинал проявлять Мерроу, тут оставалось только махнуть рукой на самолет и в оба смотреть за Баззом.
2
Еще над Ла-Маншем я увидел милях в десяти впереди нас, на той же высоте, постепенно увеличивающийся слой перистых облаков. Нашей группе предстояло выбрать один из двух вариантов, причем ни тот, ни другой не сулил ничего хорошего. Первый вариант – проникнуть еще глубже в Европу, прикрытую, как казалось с первого взгляда, лишь тонким покровом барашковых облаков, а потом подняться над ними; риск заключался в том, что облачность могла сгуститься и подняться слишком высоко, и тогда самолеты неизбежно вошли бы в нее и рассеялись; да и сама цель оказалась бы укрытой от нас. Второй вариант – отказаться от заданной на предполетном инструктаже высоты двадцать три – двадцать пять с половиной тысяч футов – и лететь под облаками; но на фоне облаков мы представили бы отличную мишень для зенитной артиллерии и истребителей, которые, кстати, сами оказались бы прикрытыми сверху той же облачностью; не исключалось, кроме того, что нам пришлось бы снизиться до опасной для нас высоты.
По внутреннему телефону я доложил Мерроу обстановку – отчасти, наверно, чтобы проверить его настроение, а отчасти для самоуспокоения.
– Ну, а как быть с перистыми облаками впереди?
– Держись покрепче за штаны, – ответил он, что вовсе меня не успокоило.
3
– Проверка! – послышался из хвостового отсека голос Прайена, и пока он по очереди вызывал нас, я мысленно представил наш самолет и наших людей, и почувствовал себя несколько успокоенным; я любил нашу машину и волновался за нее; любил не плотски, как Мерроу, а потому, что знал ее, был уверен в ее надежности, чувствовал себя уютно под защитой изгибавшихся надо мной стенок, когда принимал животворную пищу из ее кислородных шлангов; возможно, такое ощущение возникло у меня потому, что я много раз вверял ей свою жизнь.
– Первый!
– Я! – отозвался Макс.
Макс Брандт ответил с места бомбардира в самом носу машины; он сидел, озаренный зеленоватым светом, подавшись вперед и, как всегда в воздухе, весь в напряжении. Перед ним находился источник этого света – конусообразный козырек из плексигласа с ромбовидной панелью для прицеливания перед бомбометанием, – в нем, в бомбометании, заключался весь смысл, вся сущность наших рейдов. По сторонам отсека были расположены низенькие маленькие оконца. Сейчас Макс сидел в готовности перед ручками своего пулемета, прицел которого выходил наружу почти в самом центре носа машины; в бою ему, возможно, придется бросаться к другому пулемету, расположенному несколько позади, с левой стороны. Справа от Макса на стенке находился регулятор подачи кислорода, штепсельная розетка для включения электрообогрева комбинезона, гнездо внутреннего телефона и кронштейны для носового пулемета. Слева помещалась приборная доска и панель с приборами для сбрасывания бомб: шарообразная ручка и переключатель, открывавшие и закрывавшие дверцы бомболюков; с помощью другой рукоятки можно было произвести бомбовый залп или перейти на бомбометание с регулируемыми интервалами; для сброса бомб служил спусковой рубильник, покрытый защитным козырьком. На закругляющейся кверху стенке над приборными досками висела изогнутая в виде гусиной шеи лампа – она казалась бы уместнее на письменном столе в каком-нибудь более мирном помещении. Бомбардировочный прицел, пока он не потребуется, штурман держал у себя – в кабине бомбардира и без того было тесно.
Место штурмана находилось сразу же за местом Макса, чуть пониже, причем оба так называемых отсека никакой перегородкой не отделялись. Владения Клинта Хеверстроу освещались двумя парами маленьких окон в боковых стенках, через штурманский астрокупол в потолке и отраженным светом, проникавшим через плексигласовые стенки носа. Стол Клинта с вмонтированной в правой половине шаколой радиокомпаса стоял у правой стенки, позади места бомбардира; слева оставался проход для Макса. Справа от Клинта висел выпуклый вычислитель сноса, стоял ящик с бомбардировочным прицелом, компас с маятниковой магнитной системой и стрелочным указателем, розетки для включения электрообогрева комбинезона и кислорода. Слева, за узеньким коридорчиком, размещались радиокомпас с приборной доской, папка с картами Клинта, гнездо для его внутреннего телефона и еще один регулятор подачи кислорода. Здесь царил идеальный порядок; к стенке над столиком Хеверстроу даже приделал небольшие зажимы для расчески. Сейчас Клинт стоял у пулемета.
Позади штурманского отсека самолет как бы делился на два этажа. Верхнюю часть занимала пилотская кабина с люком, расположенным между моим сиденьем и креслом Базза. Нижнее пространство, всего в четыре фута высотой, частично использовалось для хранения больших баллонов с кислородом, а кроме того, обеспечивало доступ к переднему аварийному люку в полу самолета.
Мы с Баззом сидели наверху, перед застекленной частью носа; с правой и левой стороны кабина тоже была застеклена. Приборы наступали на нас со всех сторон. Перед нами расстилалась главная приборная панель управления двигателями – сектора газа, указатели состава смеси, ручки регулирования шага винтов размещались на центральной стойке, между двумя штурвалами; ниже, перед дверцей люка, между нами стоял стенд с автопилотом, оснащенный бесчисленными кнопками и переключателями; сбоку от каждого из нас и на полу находились еще по две приборные панели; в потолок был вделан аппарат радионастройки. В общей сложности нас окружало более ста пятидесяти циферблатов, переключателей, рычагов, указателей, ручек, рукояток, кнопок, причем в момент опасности с помощью лбого из этих устройств можно было либо спасти, либо погубить самолет и всех нас вместе с ним.
Бортинженер Негрокус Хендаун располагался сразу же за кабиной пилотов. Сейчас Нег сидел над своим местом, в верхней стрелковой установке. Она представляла собой купол из плексигласа, похожий на орудийную башню танка – в него входили лишь плечи и голова Хендауна. Из купола торчали два пулемета; с помощью силового привода он вращался по зубчатой дорожке, а электрический механизм позволял поднимать или опускать пулеметы, оснащенные автоматическим прицелом, подсоединенным к счетно-решающему устройству. Жаль, Нег имел только две руки. Ведь тут были еще две рукоятки для передачи патронов в пулеметы, две ручки для регулирования азимута и угла возвышения пулеметов, спусковые крючки, кнопки дальномера, обычные приспособления для электрообогрева, кислорода и поддержания связи, а также устройства для перехода на ручное управление всеми механизмами, если прекратится подача электроэнергии, причем на все расчеты оставались буквально секунды, поскольку и сам противник не стал бы терять ни мгновения.
Отсек бортинженера заканчивался перегородкой с дверью в центре, ведущей в бомбовый отсек, – неосвещенную пещеру с бомбодержателями, расположенными в форме большой буквы «V». Сделав два шага от двери, можно было выйти на узенький трап, ведущий в остальную часть самолета; однажды, во время рейда на Хюлье двадцать второго июня, я воспользовался этим трапом, когда дверцы бомбоотсека, похожие на гигантские челюсти, оказались заклиненными осколком зенитного снаряда, и мне пришлось помочь Негу закрыть их с помощью ручного привода. Мы потратили целый час. Целый час между нами и землей не было ничего, кроме двадцати тысяч футов пустого пространства.
Дальше, по направлению к хвосту, располагался радиоотсек – рабочее место Батчера Лемба. Это был единственный на самолете отсек, похожий на изолированную комнату, нечто вроде кабины, где Батчер манипулировал приборами управления радиосвязью, самолетного переговорного устройства, оснащением для приема сигналов маркерного радиомаяка, радиовысотомером, автоматической записью показаний радиокомпаса и приводным радиоустройством. Приемники и передатчики размещались по всей кабине; в одном углу стояло сразу пять передатчиков, похожих на многослойное канцелярское дело. Рядом с сиденьем Лемба были установлены еще два приемника – на них во время взлетов и посадок обычно сидели стрелки боковых установок Фарр и Брегнани. Позади одного из приемников на стенке висел аварийный радиопередатчик на случай вынужденной посадки в море. В конце каждого боевого вылета пол кабины Батчера усеивали огрызки карандашей, окурки, клочки бумаги, а особенно комиксы и ковбойские романы, в чтение которых погружался Лемб в критические моменты, иногда даже в то время, когда надо было вести огонь из пулемета и прикрывать нас с тыла. За таким занятием его однажды и застал Хендаун: когда истребитель противника выходил в исходное положение для атаки, Лемб выпускал по нему очередь, потом прочитывал несколько строк и снова выпускал очередь, причем проделывал это с той небрежностью и отсутствующим видом, с какими увлеченный книгой человек рассеянно играет своей дымящейся трубкой.
Пробираясь из радиоотсека к хвосту, вы обнаруживали в полу самолета нижнюю турель, своего рода гнездо на шарнирах. Она существенно отличалась от верхней. Спустившись в нее, Малыш Сейлин скрючивался, как зародыш в чреве матери, и вел огонь между собственных колен, причем вход над ним закрывался, а турель двигалась не только в горизонтальном направлении, как верхняя, но и, в отличие от нее, вертикально. Иными словами, Малыш крутился и поворачивался вместе со всей установкой да к тому же сам управлял ею, чтобы вернее поразить противника. Он имел дело с еще более сложными механизмами, чем Нег; чтобы отрегулировать сетку прицела пулемета на нужную дистанцию, ему приходилось нажимать левую ножную педаль; для включения переговорного устройства он действовал правой ногой; слежение за целью вел вручную, а огонь открывал нажимом кнопки, расположенной в верху рукояток. Дверца его турели открывалась только в том случае, если она занимала строго вертикальное положение. Не удивительно, что Малыш не раз брал с других членов экипажа клятву извлечь его из турели, если ее заклинит.
Позади нижней турели располагались стрелки в средней части фюзеляжа – здесь он представлял собой пустую трубу, стены которой, как в сотах, пронизывали нервюры и балки. Фарр и Брегнани занимали места у больших, во всю ширину фюзеляжа открытых окон с торчащими из них пулеметами на кронштейнах; справа от Фарра находилась дверь главного входного люка, за ней – уборная, служившая основной темой шуток над Прайеном и его желудком.








