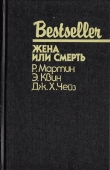Текст книги "Подземный Венисс"
Автор книги: Джефф Вандермеер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Джефф Вандермеер
«Подземный Венисс»
Часть I
НИКОЛАС
А я, я был в расцвете сил…
«Джайент Сэнд»
Глава 1
Сейчас расскажу вам, почему я решил купить суриката в Шанхайском цирке Квина. Хотите узнать о городе? Город – искусно сделанная обманка, вырезанная из картона и размалеванная блестящими красками, чтобы скрыть пустое нутро, дырку от бублика.
(Это мое – ну, в смысле, слова. Вообще-то я голохудожник, но раз в химический месяц развлекаюсь игрой в бумажного сленг-жокея.)
Давайте объясню, что для меня значит город: так вы лучше поймете про суриката, а это важно, очень важно. Декаду назад город называли Дейтонским Централом. Потом, когда центральное правительство накрылось, а вся полиция подалась на вольные хлеба, он получил имя Венисс – точно гадюка шипит, быстрая и смертельно опасная. Раньше, до Венисса, было только Мертвое Искусство, даже и не искусство вовсе, а щель продажной девки. Уличные мимы с резиновыми лицами, да еще двухмерные масс-медиа.
Вот что такое для меня Социальные Потрясения. Для кого-то это мятежи, развороченные балки мостов, расцвет свободного рынка и стометровые рекламные щиты, пустившие корни на каждом углу. Для кого-то – мусорные свалки, отбросы в океане или хотя бы кислый, бьющий в ноздри запах гландулярной наркоты. Но это все не то. Венисс положил конец Прежнему Искусству, принес вездесущее, вездевсякое головидение, заставил меня мечтать о тьфу-спехе…
И чуть было не довел до ручки. Поскольку общество лишилось правоохранительных органов (наемников можно не считать), два гада-грабителя… ладно уж, назовем как есть: два ворюги, так вот, эти самые ворюги сперли у меня всю старомодную керамику и голоскульптуры в новом стиле, а потом еще со всей дури врезали по макушке, так что мозги разбросало по полу, и сами задали стрекача. Не поверите: даже мой приятель Шадрах Беголем явно занервничал, когда наткнулся на брошенное тело. (А ведь он у нас натура непрошибаемая. Не было такого, чтобы Беголем лишний раз моргнул, поморщился, дернул веком. Сплошная экономия времени, сил, движений. Словом, полная моя противоположность.) Но все-таки ухитрился растолкать задремавшего на работе автодока и велел меня заштопать. (Уй, больно было!)
А потом я сидел у себя в квартире-мастерской и обливался слезами, глядя головестерны из серии «нуэво», те, что одолжил у Шадраха. Столько работы псу под хвост! Городские лица, городские сценки с таким трудом пробивали себе дорогу из моей головы на голоэкран – и вот их больше нет. И в галерее ни разу не выставлялись, и вообще непонятно – существовали ли они на самом деле? Венисс, бр-р-р! Шипи, беззубая гадюка. Ползи, змеюка. Когда и кто болел душой за настоящего, но уже мертвого художника? А я так близко подобрался к могиле, как ни один из Живых Творцов!..
Материалы закончились, денежки утекли сквозь пальцы – проклятые пластиковые крысы бежали с бумажного судна. Я был такой же труп, как те ИИ из прошлого, которых поубивали, дабы восстановить Порядок. Как все те Грезы Художника, что артрически дергаются на голоэкране. (У вас ненароком не найдется чашки воды? Или таблеточки-другой?)
* * *
Кажется, у меня всегда были Грезы Художника.
Еще в раннем детстве мы с Николь – это моя сестра-близняшка, – забыв о безводных степях и джунглях на видеомониторе, увлеченно собирали заводских тварей – «ледяных колючек», а иногда, для ровного счета, «теплых пушистиков». Это мы их так окрестили. Каждое лето под шипение озоновых колец, водных резервуаров и раскаленного металла просиживали дома, в придуманном мире острых углов и расплывчато-мягких изгибов.
Тогда-то мы и запали на Живое Искусство: его можно потрогать, потискать, прижать к груди, это вам не мертвые закорючки на плоском экране. Правда, псевдомама со псевдопапой считали нас чересчур усидчивыми, но это не мешало нам учиться и помогать по дому, а главное – как потом оказалось, они вообще не были нашими родителями. Вдобавок мы были честны и играли по строго нравственным законам. Ну, то есть различали, кто злой, а кто добрый. В конце концов теплые пушистики всегда побеждали.
Позже мы перешли на генетическую глину и, превратившись в этаких малолетних божков, начали создавать разных тварей, которые двигались, дышали и, жалобно пища или мяукая, требовали ухода. Любую из них мы могли прикончить, когда пожелаем. Не было случая, чтобы кто-то из малышей зажился на свете.
Сестра потом отстранилась от Живого Творчества, когда подросла, и от меня тоже. Сейчас она программирует на свободном рынке.
* * *
Ну и вот, поскольку Шадрах пальцем не шевельнул, чтобы защитить меня и мое искусство от ледяных колючек уничтожения… хочу сказать, я бы в одиночку не потянул. Так и стояло перед глазами: забираются ко мне очередные ворюги, а я бросаюсь в них будущей керамикой и только зря гублю свои произведения. Пустая затея; голография не может причинить вред физического свойства (только что пришло на ум: эй, получается, что голоштуки – тоже Искусство Мертвое, раз они не в состоянии повлиять на мир, даже если ими бросаться). Жуткая выходила картина. Вот я и решился пойти в Шанхайский цирк Квина (где бы это ни было) и «заиметь суриката», как говорят в хоккейных вестернах «нуэво». Мне, скажу, одного суриката, пожалуйста, и повыше, если можно. Лучше двойного. В грязном стеклянном контейнере. (Со смеху помрешь. Впрочем, я и так уже чуть не помер из-за этих ворюг. Коварные бестии!)
* * *
Вижу, вы задаетесь вопросом: как это Живому Художнику вроде меня – голодному, малоизвестному и одинокому – удалось подергать за ниточки, потеребить кого нужно и выбить себе аудиенцию не у кого-нибудь, а у таинственного Квина.
Угадали, у меня связи. Сознаюсь, это Шадрах. Сознаюсь, я его выследил в районе Канала.
Район Канала, Шадрах… понимаете? Они неразлучны. Как Володя и Сирин, как Оззи и Элиот, Ромео и Джулиард. Вы и сейчас его там найдете, хотя, по милости моей сестрички Николь, я с ним почти не вижусь. Зато через нее мы и познакомились – они вместе снимали квартиру.
Видите ли, первые двадцать пять лет Шадрах провел под землей, а когда выбрался, то выбрался точно в районе Канала. «Стена сияния» – вот как парень его окрестил, и как раз в ореоле этого сияния явилась Николь, она тогда работала в службе размещения и ориентации тех, кто впервые поднимался на поверхность. Шадрах поглотил обеих – и стену сияния, и мою милую сестренку. Представьте, живете вы всю свою жизнь среди мрака и неоновых вспышек, потом выходите, а перед глазами – ангел в белых одеждах, который утешает ваше сердце, указывает верный путь. Было бы время, я бы вам про них порассказал, потому что такое, как их любовь, – это мечта, подобной красоты не найдете ни на щитах, ни в голорекламе дамского белья…
В общем, с тех самых пор, как космические грузовики забыли плескаться-бултыхаться в каналах охлаждения, район сделался в городе самым клевым местом. Если пойдете туда – вспомните про меня, хорошо? Мне-то, похоже, не светит вернуться. Половина заведений плавает по воде, так что, когда корабли дальнего следования возвращаются с уловом и заходят в док, закусочным достаются самые сливки. Все большущие шишки столуются здесь. Можно и ложного кита заказать, и манящего краба, и медузу, и прочие дела. Окна обычно выходят на воду, а внутри чего только нет – механические штучки, Живое Искусство, телесные утехи, да такие, от которых потом весь дрожишь и млеешь. И краски сочные, просто пальчики оближешь. Закаты с высоким разрешением, голочернила: это вам не мутное марево, пламенеющее среди навоза, дерьма и грязи. Туда, как только допечет, я и ходил: сяду себе и гляжу на Гигантов Искусств и Биоиндустрии, лакающих алку из графинов (чему я совершенно не завидовал; терпеть не могу это настоянное на водорослях пойло).
И вот меня припекло, по-настоящему припекло – хуже, чем сейчас. Впрочем, куда уж хуже: сижу на свалке и чешу тут с вами языком… Решил потолковать с Шадрахом. Я же знал, что он работает на Квина; думал, оттает приятель, расколется и скажет все, что мне надо.
Вышло так, что мы столкнулись в тихом уголке, далече от зоркого ока Полиции Канала. Эти гуляки знают, как хранить Порядок, правда, все не могут определиться, какой именно. Если, конечно, вы понимаете, о чем я, хотя вряд ли.
Говоря строго, были мы не одни: вокруг сновали торговцы органами, распутные консьержки в блестящих побрякушках и неповоротливые автодоки, блестящие после очередного саморемонта. Кто-то спешил, кто-то прогуливался; каждый был погружен в себя, причем погружался все глубже.
Шадрах стоял среди них такой холодный, очень холодный, ледяной прямо, и слушал грохот моря, видного сквозь щель по ту сторону высоких кренящихся стен.
– Привет, – говорю я. – Давно не виделись – с тех пор как ворюги сделали свое черное дело. Знаешь, а ты ведь спас мою шкуру.
– Здравствуй, Ник – ответил Шадрах, не сводя взгляда с Канала.
(«Здравствуй, Ник» – и это после того, как я тут перед ним распинался и расстилался!)
Мужик он высокий, мускулистый, темный от загара. Нос расплющен – еще с тех дней, когда он курьером носился между полисами, подарок на память от чудиков, а рот сурово сжат. Одежда вся вышла из моды, от сандалий так и разит древностью. Кажется, все еще мнит себя Человеком Двадцать Седьмого Столетия, хотя опять же вам не понять. (А что, неправда? Вы же торчите со мной на свалке.)
– Ну, как вообще дела? – спросил я, сильно подозревая, что парня придется пинками и криками подгонять в нужную мне сторону.
– Отлично, – сказал он. – А вот у тебя вид паршивый. – И даже не улыбнулся.
Надо думать. Еще бы мне выглядеть хорошо – забинтованному и с такой здоровенной припухлостью на макушке, что впору запускать альпинистов.
– Спасибо, – только и произнес я.
Прежде, в голове, все получалось так складно, и куда только все слова подевались?
– Да на здоровье.
Я уже понял, Шадрах не в настроении болтать. Он пялился на воду и молчал – ни дать ни взять плод Мертвого Искусства.
И вдруг – чудо. Собеседник встряхнулся, пробудился от раздумий – ненадолго, но успел проговорить:
– Я бы тебе обеспечил защиту, – при этом глазея на меня, будто на покойника.
Впрочем, это его нормальный взгляд, самый что ни на есть. Неужели – шанс поладить?
– Это как же, детектив? – сказал я. – Если ваши хреновы копы только и могут, что алку жрать и брать на лапу?
Шадрах пожал плечами.
– Я лишь помочь хочу. Дай мелкой рыбешке крючок, она и крупную словит.
– Недурной оборот, – соврал я. – Где такого набрался, в Канале, что ли, мать его, высмотрел? Вообще-то мне Квин нужен.
Он фыркнул.
– Ну, ты точно безнадежен. Приглашение к самому Квину? – Шадрах не смотрел мне в глаза, все время как-то увиливал, уклонялся. – Вот погоди миллион лет, может, и поднакопишь связей, веса в обществе, наворуешь деньжат…
Я отвернулся, потому что стало больно. Когда грабили, было больно. От этого не-знаю-прямо-что-и-делать тоже больно. А главное – от жизни. С души воротит.
– Не выделывайся, Шадрах, – обронил я. – Можно подумать, ты у нас Живой Художник. Тебе-то не нужно приглашение. Адресок только дай, а дальше я сам разберусь. Хочу себе выпросить суриката.
Тут он брови нахмурил, произнес:
– Ты сам не знаешь, Николас, что говоришь. – Мне показалось, в его глазах блеснул испуг и еще какая-то непривычная жалость. – Ты правда пострадаешь. Я тебя знаю. И Квина тоже. Он в это влез не ради Живого Творчества. Нет, здесь совсем другие причины. Про них даже мне ничего не известно.
Тем временем меня начал прошибать пот, в горле полыхало – по дороге, наверно, перебрал наркоты, – и я взял его за руку. Ничего такого, просто чтоб не упасть.
– Ну ради дружбы, – сказал я. – Ради Николь. Мне срочно нужна передышка, или придется уйти под землю и доживать свои дни на свалке.
(И вот, пожалуйста, посмотрите, где я сейчас? По колено в отбросах, болтаю с вами.)
Конечно, поминать сестру было подло с моей стороны – тем более что я задолжал ей кучу денег, – но поминать подземку еще подлее. Шадрах по сей день терзался кошмарами из прошлой жизни среди придурков и чудиков и вездесущего неистребимого кап-кап-кап в коридорах.
Взгляд собеседника остекленел, в лице не осталось ни кровинки, а руки так сильно вцепились в перила, что даже костяшки побелели. И вдруг подумалось: он же видит во мне Николь!
Ну, я ведь не каменный. Смотрю, совсем Шадрах расклеился, а глаза у него стали такие несчастные, что мое сердце не выдержало.
– Ладно, друг. Проехали. Что-нибудь придумаю. Ты же меня знаешь. Не вопрос.
Он пристально впился в меня своими серыми глазами, а потом выдохнул тяжело, так что плечи ссутулились и голова поникла. Шадрах очень серьезно уставился на свои сандалии на липучках, словно заправский ортопед.
– Значит, Квина захотел, – произнес он. – Тогда обещай для начала, что все останется между нами – причем до гроба. Если пронюхают, что Квин принял кого-нибудь вроде тебя, тут же налетят полоумные и весь город перекопают, лишь бы его найти.
«Вроде тебя» прозвучало обидно, но я сказал просто:
– Мне и рассказать-то некому. Сам побираюсь на каждую новую голо. Я одинок в этом мире. Люди шарахаются. Квин бы мог меня с ними сблизить.
– Знаю, – ответил Шадрах немного печально, как мне почудилось.
– Тогда колись, – оживился я. – Куда идти-то?
– Только скажи, что это я тебя послал. – Он ткнул в меня пальцем. – И что просто хочешь купить суриката.
– Не знал, что вы с Квином такие кореша, – присвистнул я, да так громко, что парочка полисменов Канала покосилась, будто заприметила идиота.
– Тише, не ори, – шикнул Шадрах. – Тебе надо на запад, по эскалаторам со стороны Канала, пока не увидишь фонари на улице Меркадо. Перед ней будет переулок. Иди по нему. В конце – похоже на тупик, помойки там и разный мусор, что набросали за десять веков. Так вот, не верь. Закрой глаза… это голо, сразу за ней найдешь Квина. Шагай насквозь, не думай.
– Вот спасибо-то. – У меня даже сердце заколотилось в три раза быстрее. – Обязательно передам привет Николь.
Глаза у него расширились, заблестели, на губах затеплилась улыбка, которая тут же погасла. Но я-то заметил, и он это понял.
– Ты там поосторожнее, – произнес Шадрах таким странным тоном, что у меня по спине зигзагами побежали мурашки. – Квин малость… не в себе, – добавил он, пожимая мне руку. – Заходи, когда все кончится. Главное, Николас, помни: не вздумай с ним пререкаться из-за цены.
А потом он ушел, такими большими, уверенными шагами, прочь от меня и доков, даже «пока» не бросил и не дал сказать спасибо, словно я ущербный и чем-то ему не угодил. Грустно стало. И гнусно. Потому что это ж я всегда говорил, что Шадрах того, даже когда они с сестрой крутили любовь.
Да уж, Шадрах и Николь. Бывали и у меня связи, но чтобы Такое, Настоящее?.. Все эти юные голубки, гуляющие по районам-без-наркоты, все эти парочки, которые спариваются на тенистых берегах каналов, разве представляют они, что значит любить без памяти? Пожалуй, сама Николь этого не знала. А вот Шадрах… Я думал, мужик отдаст концы, когда сестра его бросила. Думал, усохнет, как лист. Да он и усох бы, если бы не вышел на Квина и тот не поднял его из мертвых.
Глава 2А, вам интересно, чем занимается Квин? (Можно подумать, человек, стоящий по горло в отбросах, имеет право на любопытство. Но раз уж вы задали вопрос, я отвечу.) Квин делает живчиков. Он создает или тварей, которые были на Земле раньше, а теперь их не осталось (тигров, овец, летучих мышей, слонов, дельфинов, альбатросов, чаек, броненосцев, темных приморских овсянок), или тех, которые существовали только в мифах, на плоских массмедиа либо в голах (Бармоглотов, Гринчей, Ганеш, Кукловодов, Снарков), или же тварей, что вообще не жили на свете, покуда Квин их не создал (жукочервей, угрекоз, верблюдообезьян).
Однако самое-самое лучшее, не просто Живое, а Живейшее из Искусств, если спросите меня, это его способность исправлять уже существующих. Вот, например, сурикаты с противопоставленными большими пальцами. Сурикаты Квина – это как древние Стради-вариантные скрипки, каждая – совершенство и каждая идеально отличается от других. Такие и достаются одним богатеньким, правда, не за деньги, нет, за деньги он якобы работать не будет, только за особые услуги. А вот за какие и во что это выльется – никто не скажет. Ходят слухи, вроде бы поначалу он ассистировал при государственно-финансируемых проектах по искусственному оплодотворению, еще до распада правительства, но ничего конкретного про его прошлое неизвестно.
В общем, Шадрах ушел, а я размечтался. Навоображал себе чудесных сурикатов четырехфутового роста, с блестящими глазами-пуговками, клевой двуногой походкой и услужливыми улыбками. Сурикатов, готовых работать на кухне, скосить атрофиторф на вашем любимом садовом участке и даже выстирать белье. Или, что гораздо важнее, вырубить ворюгу и оттяпать острыми зубами его идиотскую сосиску.
Основная картина мести буквально впечаталась мне в сознание, врезалась, можно сказать, не хуже этих кошмарных вестернов «нуэво», к которым я, как вы уже догадались, питаю слабость. «Между прочим, Боб, я тут собрался оторвать себе суриката, вот только сперва надо защитить честь дамы и потягаться силенками вон с тем лосем». То есть, ну, вы поняли, да? Ничего странного, что мое голоискусство так плохо расходилось, покуда ворюги все не вынесли.
Но ближе к ночи, когда я уже брел по проулку весьма тупикового вида, тем более только что помахавшись – именно «помахавшись», особо серьезной драки не получилось – с местным барменом, скажу честно, замандражировал. Нет, правда, руки даже вспотели и мелко так задрожали. А вечер выдался темнее темного – стойте, послушайте: «Ночь и есть конец света»; сам придумал, это моя одноклеточная хокку, – и шум далеких освещенных улиц неясным эхом отдавался от мутных и смутных стен построек. (И еще разило отбросами, прямо как здесь.)
Шагнув сквозь голограмму – кстати, отлично просчитанную, так что нельзя было не принять за чистую монету – и ступив под хитрые улыбки «и кратких» на сияющей фиолетовым вывеске «Шанхайский цирк Квина», я, как и полагалось, передернулся от нервного озноба. Вспомнил детство (опять) и как меня водили во всамделишный цирк, где на туго натянутой проволоке резвился взаправдашний воробей и даже была правильная собака, которая села гадить на арене. Помню, я тогда здорово сконфузил отца, указав на псину и крикнув: «Па, смотри, смотри! У нее сзади торчит!» Думал, это рычаг, понимаете? Откуда мне было знать (черт, я даже не представлял тогда, что и папаша-то не настоящий), если мои генетические игрушки, петушок Руф, чьи холодные глаза, казалось, недобро сверлили меня по ночам, и суслик Гуф, вечно травивший тупейшие сказочки о закадычных дружках-иглокожих, – и те выделяли свои отправления в виде аккуратных твердых кирпичиков через дырку в пупке.
Но вижу, я упустил нить рассказа, как мог бы сказать, но никогда не говорил Шадрах, и ударился в тоскальгию, а нам этого совсем не нужно.
В общем, так: шагнул я в темно-синюю бархатную тьму, двери с шипением сомкнулись, мурашки по спине побежали гораздо быстрее, и тут же все уличные звуки, аромат и привкус помоев ушли, а их место заняли тихий гул кондиционеров и стерильная вонь. Вот что значит высший класс. Вот это, понимаю, атмосфера.
Чего и ждать от Квина?
С обеих сторон, встроенные в стены, мерцали изумрудным сиянием стеклянные контейнеры, а в них виднелись самые несообразные создания: твари безглазые, твари чересчур глазастые, жутко зубастые, твари со всякими разными штуками. И я учуял запах, отчасти заглушённый раньше этим духом чистоты, – запах цирка, куда меня водили ребенком, горьковато-суховатое сочетание мочи и соломы, мускусное благоухание звериного пота и вообще зверей.
От контейнеров и аромата меня как-то совсем не разобрало любопытство, я лишь уставился перед собой, на другой конец помещения; там, ярдах в тридцати, меня и поджидал Квин.
Это наверняка был он. Если не он, то как ему еще выглядеть?
Квин восседал за прямоугольной конторкой с двумя встроенными витринами – я плохо видел их содержимое. Половина головы тонула в темноте, на другую сверху лился свет, но вокруг было так мрачно, что меня волей-неволей понесло вперед, хотя бы ради того, чтобы разглядеть Квина во плоти, на престоле власти.
Когда мы сблизились на расстояние плевка в лицо, я захлопал ртом, точно рыба, которую травят кислородом; до меня дошло: он вовсе и не восседал за витриной, а был ею. Я замер, уставился; глазенки, как у той рыбенки, полезли на лоб. Слышал однажды про Автопортрет Дона Дали, выполненный в технике смешанных медиа, из размазанных по тротуару останков Дорогого Дэна, но Квин выбрал совсем другой уклон, от которого сильно попахивает гениальностью. (А еще тараканами в голове, ну и что с того?)
Портрет Художника – как панель из мяса. У столешницы был такой желтовато-коричневатый оттенок, похоже на трансплантат, пока тот еще не прижился, и вся она была усеяна глазами – одни моргали, другие нет, третьи подмигивали, и каждый пялился на меня, а я таращился на них.
Да, честное слово, клянусь моей могилой сленг-жокея, – конторка то и дело пучилась, точно дышала. Ее размеры… Метра три в высоту, двенадцать в длину, пять в ширину. Посередине плоть раздавалась в стороны, чтобы вместить в себя два стеклянных ящика. Внутри на карликовых деревьях бонсай сидели близнецы-орангутанги, малюсенькие, безупречной формы, и чистили шерстку. Лица у них были женские, с вытянутыми скулами, а глаза сочились отчаянием и безысходностью.
Над столешницей, будто ствол из земли, вырастало туловище Квина, потом шея и узкая, приплюснутая, чем-то похожая на змеиную голова. Лицо смотрелось почти по-восточному. Длинные острые скулы, тонкий рот, глаза без век.
Звериный дух, тот самый, горьковато-сладкий, оказывается, исходил от Квина, потому что здесь било в ноздри, свежо и едко. Неужели он загнивает, подумал я. Князь Генетического Воссотворения – и загнивает?
Бездонные синие очи, в которых ровным счетом ничего не отражалось, пристально следили за руками. С каждого из двенадцати пальцев на тонкой нити свисало по пауку. Насекомые блестели в сумраке, как пурпурные драгоценные камни. Квин заставлял их волнообразно выплясывать на столешнице, которая в то же время приходилась ему коленями. Дюжина пауков рядком исполняла старинное представление кабаре. Вот вам очередное изъявление Живого Искусства. Вообще-то одного паука я прихлопнул, хотя в животе ворочался здоровенный кусок страха. Этот испуг вытряхнул из моей шкуры сленг-жокея, как говорят, вернул крышу на место: словно язык изо рта вырвали.
Шлепок ладонью раздался смачно и одиноко. На звук резко вскинулась голова, улыбка расколола лицо пополам. Легкое мановение – и пауки облепили Квину руки. Он медленно свел ладони, будто бы для молитвы.
– Здравствуйте, сэр, – произнес нараспев бесчувственный, будто замороженный голос.
– Мне бы суриката, – отвечал я на добрую октаву выше обычного. – Я от Шадраха.
– Ты один пришел? – Синие очи Квина недобро сверлили меня.
Во рту пересохло. Стало больно глотать.
– Да.
И едва лишь сорвался с моих губ этот короткий, одинокий слог, внутри которого свернулись тугой пружиной все слова на свете, означающие согласие, как стеклянные контейнеры за спиной распахнулись, раздался частый топот, и я почуял за спиной сотни, сотни разных тварей. От запаха мочи и соломы заложило нос и в горле запершило.
Я рванулся вперед – а что оставалось?
– Мне нужен сурикат. Хочу на тебя работать. Я – голохудожник. И знакомый Шадраха.
Синие глаза смотрели вяло, без выражения, точно остекленели. Тут позади зазвучал хор голосов, низких и высоких, смахивающих на шелест камыша и посвист ножей:
– Ты пришел один.
В голове промелькнуло: о Яхве, о Аллах, о Боже, и вспомнились игрушки детства – теплые пушистики с холодными колючками, и я подумал: надо же было связаться с колючками, и еще: хватит прикидываться всемогущим, тут ведь не просто Искусство – оно Живее всех Живых.
И вот от полной безнадеги, от глупости, а главное – потому что надоело быть заурядным голохудожником, я повторил:
– Хочу с тобой работать.
Тут Квин у меня на глазах отключился, будто марионетка, будто раньше его дергали за нити, как он своих пауков. А за спиной топали раздвоенные копыта, колючие лапы, острые когти, плюс этот одуряющий запах… Я зажмурился, и меня прижали к полу их ладони, их конечности – склизкие, мягкие, жесткие, жаркие. Когда иголки вонзились в руки-ноги и тело захлестнула сонная волна – маленькое подобие смерти, помню, я увидел, как плачут орангутанги на карликовых ветвях, и удивился: зачем обо мне плакать?
* * *
Я расскажу вам о городе, сэр. Похоже на поцелуй гадюки, быстрой и опасной. Это важно. Очень важно. Хотите послушать о Квине и его сурикатах? Теперь я служу Квину; мерзкая работенка. Я делал гадкое. Настоящие гадости – Самое Смертельное, Смертоносное из Искусств. Я убивал Живое Творчество. Убивал живое. И – знаю. Я знаю. Только… Только старая плоть совлекается, а новая надевается, как будто костюмы. Только игла втыкается и выходит, и меня ничего не волнует, а ведь я из последних сил пытаюсь думать о Николь и Шадрахе.
Но иголка втыкается, и…
Давайте я расскажу вам о городе.