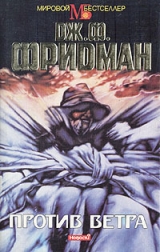
Текст книги "Против ветра"
Автор книги: Дж. Фридман
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 37 страниц)
6
Я уехал зимой, а когда возвращаюсь домой, на дворе уже весна. У нас она не такая, как в других районах страны, где деревья ни с того ни с сего покрываются листвой, распускаются цветы. У нас наступление весны – это и какое-то новое чувство, это и запах, теплый запах прерий, когда сам воздух напоен им.
Сюрприз меня поджидает, едва я, сойдя с самолета в Альбукерке, прохожу через стойку регистрации пассажиров. Меня встречает Мэри-Лу – этого и следовало ожидать, я заранее позвонил и сказал, каким рейсом прилетаю. Она прекрасно выглядит, это видно даже через разделяющее нас летное поле, а то я уже забыл, какая она красивая женщина. Стоит на недельку выбраться из города, и я уже могу забыть такую важную вещь.
А вот того, что придет Клаудия, я не ожидал. Она стоит рядом с Мэри-Лу, головой возвышаясь над ее плечом. В последний раз, когда мы с ней виделись, дочь еще не была такой высокой. Она почти подросток, осеняет меня мысль, которая кажется мне настоящим откровением. Средних лет папа и дочка, почти подросток. Интересно, что она здесь делает, ведь школьные каникулы еще не начались.
– Мама ушла с работы, – выпаливает Клаудия еще до того, как мы целуемся.
Я бросаю взгляд на Мэри-Лу. Она пожимает плечами. Клаудия вручает мне запечатанный конверт.
– Она улетела, – приплясывает вокруг меня Клаудия, пока мы все вместе идем к машине. – А значит, я буду у тебя жить до конца школьного года. Здорово, правда?
И да и нет. Для меня это действительно здорово. А вот для Патриции, по-моему, нет.
Мэри-Лу садится за руль, Клаудия забирается на переднее сиденье рядом с ней, обе они слушают кассету Элвиса Костелло, пока мы едем на север в «акуре» Мэри-Лу. Развалившись на заднем сиденье, я просматриваю письма Патриции.
В конечном счете Патриция так и не вняла моему призыву. Она уволилась. Фирма здорово ей подсобила, если учесть, что она отработала у них совсем немного, три месяца ей оплатили по полной ставке (на часть этого отступного, уверен, пришлось раскошелиться самому Джоби Брекенриджу) и подыскали новую работу наподобие прежней – во всяком случае, в том, что касается зарплаты – в другой фирме Сиэтла, где она сразу по окончании отпуска может приступить к работе. Строго говоря, сказать, что с ней обошлись немилосердно, нельзя, ведь толковых женщин-адвокатов раз, два и обчелся. Ей не придется снова переезжать на новое место жительства, а благодаря свалившимся нежданно-негаданно деньгам и вновь обретенному чувству умиротворенности впервые за многие годы своей взрослой жизни она смогла взять отпуск. Сейчас она в Париже, оттуда поедет в Рим и Милан, побывает и на севере, и на юге. Трудно сказать, чем все это кончится, но она уехала на какое-то время, и Клаудия будет теперь со мной, начиная с сегодняшнего дня и до конца учебного года в школе. Все довольны, по крайней мере пока.
(Обо всем этом сказано в письме. Оно написано в более официальной манере, чем я ожидал, такое впечатление, что она чувствует себя виноватой. Все от начала и до конца, ее уход с работы, внезапный отлет – все это произошло в течение одной недели, и в результате она повесила мне на шею, это ее слова, Клаудию плюс все остальное.)
Удивительно, как может меняться жизнь людей всего за несколько дней. И ее, и моя жизнь. Мне думается, она счастлива. По складу характера она не склонна к конфронтации, она всегда уходила от открытого столкновения, необходимость рисковать каждый Божий день подточила бы ее силы, для этого она слишком ранимая натура. И все-таки мне жаль, что она не осталась и не довела дело до конца. Она должна была это сделать ради самой себя, ради дочери.
Мы ужинаем втроем, потом Мэри-Лу подвозит нас до моей квартиры. Она соскучилась по мне, я чувствую это, несмотря на то что и словом об этом сказано не было, к тому же она сгорает от желания узнать, как прошла поездка. Я рассказываю ей обо всем в общих чертах, чтобы только удовлетворить ее любопытство. Она хотела бы услышать обо всем подробно прямо сейчас, но ни за что не помешает мне провести сегодняшний вечер с Клаудией. Сам я выжидаю, что, может, Клаудия пригласит ее к нам, но она этого не делает. Она хочет побыть со мной наедине, после того как уже два дня провела в обществе Мэри-Лу. По пути в заморские края Патриция остановилась в Санта-Фе и, обнаружив, что я в отъезде, обратилась к Мэри-Лу с довольно-таки бесцеремонным вопросом: «Раз уж ее отец уехал, а я об этом ничего не знала, может, ты не будешь возражать, если?..» К чести Мэри-Лу, она сказала, что будет только рада, она сделала это из любви ко мне, они провели вместе два дня – я имею в виду мою дочь и женщину, с которой я теперь живу. Но сейчас для Клаудии наступил тот момент, ради которого она, собственно говоря, и вернулась: побыть вместе с папой. Никого больше ей не нужно.
Мы с Мэри-Лу целуемся, желая друг другу спокойной ночи. Завтра, после того как я отвезу Клаудию в школу, где она снова встретится со старыми друзьями и подругами, из-за чего уже сейчас сидит как на иголках, мы вместе позавтракаем. Я сильно скучал по Мэри-Лу, может, мне, словно мальчишке, понадобилось засмотреться на другую женщину, чтобы это стало совершенно ясно.
Дочь больше взяла от меня, чем от матери. Нового в этом ничего нет, в сущности, я знал это еще с того времени, когда она была ребенком. В случае нашей семьи такой поворот событий представляется вполне логичным, так как расстались мы с Патрицией, когда Клаудия была еще совсем маленькой, и ее роль в отношениях с дочерью изменилась. Временами бывало так, что она оказывалась слишком взрослой для Патриции. Со мной же, мужчиной, она всегда была маленькой девочкой. А с маленькой какой спрос. Отчасти именно по этой причине ей всегда было просто и уютно со мной.
С другой стороны, даже год назад, когда она жила не так далеко от меня, я не присматривал за ней изо дня в день. Я снимал урожай, в то время как вся черная работа ложилась на плечи Патриции, однако я и терял, не видя, как формируется у нее характер, как она развивается. Такова не поддающаяся измерению цена, которую приходится платить за развод. В глубине души она так и останется ребенком Патриции.
Пока мы уписываем за обе щеки пиццу, у нее возникает желание поболтать – о матери, о том, что с ней произошло, о ней самой и о том, что здесь происходит. Нежно, но твердо я останавливаю ее. Взрослая жизнь и так уже наложила на нее слишком тяжелый отпечаток, хотя она думает, что чувство сопричастности не станет ей в тягость. Но я этого не хочу. Мы поболтаем, будем еще болтать об этом много часов подряд, но не сегодня. Уже одиннадцать часов, и я хочу, чтобы она легла спать.
Перед этим я читаю ей вслух. Мы с головой уходим в книгу, по большому счету и она, и я одиноки, иной раз книги мы воспринимаем легче, чем жизнь, во всяком случае, для нас они более одушевленные существа, чем люди.
Она хочет, чтобы я почитал что-то новое, что-то такое, что нравится мне самому и что могло бы понравиться и ей тоже, что-то «более взрослое». И мне приходится искать «Одиссею» в хорошем переводе Лэттимора, с загнутыми кверху страницами и подчеркнутыми строчками. И я начинаю: «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел, много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь, жизни своей и возврате в отчизну сопутников…»
Вместе мы одолеваем почти половину первой книги, пока она не засыпает. Отметив место, на котором закончил, я кладу книгу на прикроватную тумбочку. Завтра продолжим. Может, сегодня ночью моему ребенку, который всю жизнь провел на суше, вдруг приснятся парусники, море. Может, ей приснится мать, которая изо дня в день только и делает, что глядит на водную гладь.
Я целую ее, желая спокойной ночи, и, притворив за собой дверь, перехожу к обществу бокала, где налито на два пальца «Джонни Уокер блэк», и собственных мыслей.
Я ищу свой идеал женщины, но идеал женщины не существует, кроме как в моих детских мечтах, которые давным-давно полетели ко всем чертям. Я разругался с Патрицией – конечно, мы оба были виноваты, но в первую очередь все произошло из-за меня; если бы я как следует постарался, мы все еще могли бы быть вместе. Хотя все это чепуха. Мы все равно не остались бы вместе, но, так или иначе, нам обоим надо было постараться сохранить все как есть. Правда, я и понятия не имею, что следует делать для того, чтобы остаться вместе. «Ничего не получается? Тогда пока». Холли, конечно, была штучка еще та, я не раскаиваюсь в том, что порвал с ней, но, по большому счету, как я вел себя с ней? Я изменял и той и другой направо и налево, изменял, живя сначала с одной, а потом с другой, пока наконец в мою жизнь не вошла потрясающая женщина, которая чуть ли не сама вешается мне на шею. Перед моим мысленным взором, разливая по телу приятное волнение, снова возникает Мэри-Лу. Завтра ночью я буду заниматься любовью, она доставит мне больше удовольствия, чем ветхозаветная Далила Самсону, но готов поспорить на приличную сумму, что мысль об Ивлин Декейтур не покинет глубин подсознания. «Нельзя все время получать то, что хочешь» – это изречение лучше всего подойдет моему надгробию. А когда, разумеется, я это получу (я же хотел Мэри-Лу, очень хотел, разве нет?), то окажется, что это, что бы оно собой ни представляло, совсем не то, что мне нужно было. Или то, что, как я думал, мне нужно было?
Господи, вся эта терапия яйца выеденного не стоит, все это сродни самокопанию, но все же стоит попробовать. Мне нужно узнать, с какой стати я все время сжигаю за собой мосты, почему отвергаю то, что важнее для меня больше всего на свете. Я обошелся подобным образом со своими двумя женами, с компаньонами по фирме. Кто теперь следующий – Мэри-Лу, моя новая адвокатская практика или, может быть, Клаудия?
Я по-прежнему думаю о том, почему же все-таки Патриция не может служить Клаудии примером для подражания, сравниваю ее с другими женщинами и признаю, что сравнение не в ее пользу. Хотя, вообще-то, какое у меня право говорить об этом, сравнивать кого-то с кем бы то ни было? Каким, черт бы меня побрал, я могу служить примером для подражания собственной дочери? Бабник и кутила, если заниматься определениями. И она должна знать, она достаточно для этого взрослая и уже видела, как я терял работу и друзей, к которым был привязан.
Мне нужно стать другим. Ради нее, если ничего другого нет. Я не могу допустить, чтобы она видела, как ее старик ставит на себе крест. Забудь о том, чтобы преуспеть на рынке, все это по большому счету неважно, вырасти в собственных глазах я могу и во сне, а вот когда проснусь и увижу окружающий мир, то выяснится, что я для него не приспособлен. Мне обязательно нужно показать ей, что и мужчинам свойственна внутренняя красота и честность.
В бокале налито на два пальца, потом еще на два пальца, потом еще на два, и глазом не успеешь моргнуть, как оприходуешь большую часть бутылки. Поэтому я решительно отодвигаю старину Джонни, чтобы не наливать еще бокал. Мне хочется заснуть, чтобы в голове не шумело. Впрочем, если уж на то пошло, я вообще не хочу спать, хочу лежать с открытыми глазами, с ясной головой. Если меня посетят мысли, пусть они будут настоящими.
Одна приходит – я просто слабовольный мерзавец, только и всего! Мне все-таки удается не наливать в бокал больше, чем на два пальца, и я отхлебываю из него мелкими глотками, глоточками, чтобы бодрствовать теперь всю ночь напролет.
Черт, а здорово я наловчился обманывать самого себя! Настоящий мастер своего дела! Тут я не притворяюсь.
Конечно, оставляя бутылку в сторону, я начинаю придираться к самому себе по поводу и без повода и вообще критически отношусь к собственной персоне. Скотт Рэй стоит у меня перед глазами, как живой, мне нужно летать как на крыльях, а не помирать, причем даже не смертью храбрых, а хныча, словно побитый щенок.
Часть пятая
1
– Рассматривается ходатайство о повторном судебном разбирательстве с заслушиванием свидетелей по делу штата Нью-Мексико против Дженсена, Патерно, Хикса и Ковальски. Заседание объявляется открытым. Председательствует судья Луис Мартинес. Прошу всех встать.
Наконец-то! После поворотов, тупиков, разочарований, когда двери одна за другой захлопывались у нас перед носом, после того как нам сказали, что этого никогда не будет, мы снова в том же зале суда, в компании всех тех, кто был с нами в прошлый раз. Очень давно. Так оно и есть, уже больше двух лет прошло с того вечера, когда в первый раз позвонил Робертсон. Черт побери, с тех пор я успел разругаться с компаньонами и уйти из фирмы, оформил развод с женой, присутствовал при отъезде дочери и проиграл самый важный процесс в своей жизни! Впрочем, чему быть, того не миновать, только бы удача улыбнулась нам, только бы на этот раз дела сложились получше. Сейчас решается все. Я не питаю иллюзий, подачи апелляций затянутся на многие годы, но если я и сейчас ничего не сделаю, не вытащу мужиков из петли, опираясь на новых свидетелей и новые сведения, то не сделаю этого уже никогда. И тогда они умрут в тюрьме, очередные жертвы властей штата.
– Вы не на суде, – инструктирует нас Мартинес. – Мы собрались здесь не для того, чтобы определить, кто прав, а кто виноват.
Робертсон восседает в центре стола, за которым собрались представители обвинения. На нем шикарный, без морщинки, костюм в полоску, который он надевает для суда, он недавно подстригся, воскресный загар свидетельствует, что перед вами пышущий здоровьем, крепкий мужчина. Вот одежду Моузби, который сидит рядом, да и весь его вид, образцом элегантности и добропорядочности никак не назовешь.
За несколько минут до встречи Робертсон подошел ко мне в коридоре.
– Пока дыши свободно, – предупредил он. – На этот раз я не ограничусь тем, что размажу тебя по стенке, Уилл. Я намерен унизить тебя.
Я и бровью не повел. Постараюсь не угодить в его ловушку, защита изложит свои аргументы, чтобы добиться оправдания подсудимых, а его аргументы нас не касаются. Да у него и нет аргументов, они ему не нужны. Он может сидеть себе и время от времени задавать вопросы нашим свидетелям. По его мнению, мы просто удим рыбу на крючок без наживки, делая последнюю отчаянную попытку – авось что-нибудь да попадется!
– При подобном разбирательстве, – уточняет Мартинес, – обвинению нет необходимости доказывать виновность подсудимых так, чтобы в ней не осталось ни малейших сомнений. Это происходит на стадии суда. Сегодня мы собрались потому, что стало известно о новых уликах, которые могут привести нас к необходимости пересмотреть выводы, сделанные на предыдущем суде. Если их сочтут достаточно важными, тогда может быть назначено повторное судебное разбирательство.
Рокеры в наручниках и голубых тюремных комбинезонах вместе со мной и Мэри-Лу сидят за столом, где располагаются представители защиты.
В последний раз.
2
– Вызовите Риту Гомес.
И вот она снова подходит к месту для дачи свидетельских показаний, наша Вечная мучительница. Ни вызывающих платьев, ни пышных причесок, как в первый раз, когда всходила на этот эшафот, ни туши для ресниц в целый дюйм толщиной, ни туфель на высоких каблуках с ремешками вокруг щиколоток, на которые так западают мужики. Сегодня на всеобщее обозрение она предстает в своем первозданном виде: сыпь на лице, потрескавшиеся губы и так далее в том же духе. Эта крошка прошла длинный путь, причем все больше по наклонной плоскости.
– Клянетесь ли вы?..
Положив руку на Библию, она приносит присягу. Она проделывает это так же, как и в первый раз, с той же, как тогда, убежденностью.
На столе передо мной лежит текст ее показаний на предыдущем процессе. Чушь собачья, которую она наговорила и из-за которой четверых мужиков приговорили к смерти. На секунду я приподнимаю его, чувствуя, как лживые страницы скользят между пальцами, словно мертвые, ломкие листья. Где-нибудь на диких просторах штата Вашингтон срубили дерево, чтобы изготовить из него бумагу и напечатать на ней эту чушь; может, это было взрослое дерево, которому от роду многие сотни лет, оно давало тень, в которой можно было укрыться, и кислород. То был живой организм, поддерживающий жизнь, а теперь он мертв и пошел на то, чтобы отнять жизнь у ни в чем не повинных людей.
Одинокий Волк смотрит, как она сидит на дубовом стуле, – подавленная, съежившаяся, испуганная фигурка, вновь оказавшаяся в большой, страшной пещере.
– Черт побери, она совсем не изменилась! – восклицает он.
– Нет, изменилась, – отвечаю я. – Ты и понятия не имеешь, как сильно.
– А мне кажется, какой она была, такой и осталась. Та же сучка, которая двух слов связать не может!
– Вот запоет, тогда и увидишь, как сильно она изменилась.
– Вот когда запоет, тогда и поглядим, – с сомнением в голосе отвечает он. Она уже дважды подставила их – сначала во время суда, а затем не явившись на судебное слушание. И теперь, по их мнению, она тоже может их подставить. Ничего хорошего ждать от нее не приходится.
Рита тщательно избегает встречаться с ними взглядом. Она попытается их спасти, но не хочет никаких контактов – ни зрительных, ни каких-либо еще. Может, теперь она боится их даже больше, чем тогда, страх ведь накапливался в ней на протяжении двух прошедших лет.
Но она намерена говорить начистоту. Мы с Мэри-Лу уже счет потеряли часам и дням, готовя ее именно к этому моменту. Это легло на нас: Томми и Пола, с которыми мы вели предыдущий процесс, сейчас нет. Томми долгое время был к нашим услугам, хотел с нами работать, но через пару месяцев после беспорядков в тюрьме ему предложили на редкость выгодное место в одной из фирм в Альбукерке, и он не смог отклонить это предложение. Он и так рассчитался с нами сполна, даже более того, и ушел из коллегии государственных защитников с высоко поднятой головой. Фирма, куда он пришел, возлагает на него большие надежды, он их непременно оправдает, в этом у меня сомнений нет. Однако выкроить время и приехать сюда, чтобы быть с нами, он так и не смог.
Это его сильно смущает, такое ощущение, что он нас подвел, но я заверил Томми, что об этом не может быть и речи, он и так достаточно долго тянул свою лямку. Жизнь идет своим чередом. Мы с ним еще созвонимся. Он по-прежнему встречается с Гусем, отношения между ними будут продолжаться. Гусь понимает, чем вызвано его отсутствие, в первый день работы Томми на новом месте Гусь за свой счет послал ему бутылку шампанского.
А вот Пол как в воду канул. Какое-то время после окончания суда мы периодически общались, потом это случалось все реже и реже, и в один прекрасный день он пропал. В конторе на его месте обосновался уже кто-то другой, телефоны как на работе, так и дома отключили, а никаких других координат, по которым его можно было бы разыскать, не было. Человека просто больше не оказалось на месте, только и всего.
По-моему, ему все это надоело. Он уже столько раз участвовал в подобном балагане, что одна мысль о том, что при всех затраченных усилиях ты все равно попадаешь в число проигравших, избавила его от остатков честолюбия, тем более что единственная грубейшая ошибка нашей команды – обсуждение вопроса о так называемых «раскаленных ножах» – на его совести. Мы об этом не говорили, но, по-моему, в глубине души он полагал, что несет некую ответственность за наше поражение.
Разумеется, это не так, любой из нас мог допустить такую ошибку. Да и не по этой причине мы проиграли. Мы пали жертвой предрассудков, а не улик.
У него были свои злые гении, как у меня, и питались они возлияниями. В конце концов расплавилось слишком много клеток головного мозга.
Может, это своего рода предзнаменование. Если я не изменю своим привычкам, то в один прекрасный день на собственной шкуре испытаю, почем фунт лиха. Так оно, без сомнения, и будет. Ничего не скажешь, отрезвляющая мысль.
Я выпрямляюсь во весь рост, разглаживаю лацканы пиджака, выжидая. Затем делаю глоток из стакана с водой, поворачиваюсь и становлюсь лицом к рокерам и Мэри-Лу, ободряюще улыбаюсь им и направляюсь к свидетельнице. Она сидит на краешке стула с таким же унылым видом, как опоссум, угодивший в капкан и ожидающий, что вот-вот на него свалятся бог знает какие неприятности.
«Я столкнулся с противником, а он сидит в нас самих» – эти слова принадлежат Пого, одному из кумиров моего детства.
Ну что ж, пора идти на сближение и завязать с противником бой.
Мартинес не может отвести глаз от Риты. Теперь это уже не хладнокровный юрист, который беспристрастно вершит правосудие, не размениваясь на мелкие стычки, теперь это человек, который должен установить истину, подлинную истину, хотя он считал, что уже установил ее несколько раньше.
Робертсон тоже смотрит на нее как зачарованный и что-то строчит у себя в блокноте по мере того, как она говорит, то и дело ссылаясь на представленный мной суду документ, в котором содержатся ее показания, сделанные под присягой. Это та же бомба замедленного действия, ее я подложил ему в первый раз, когда нашел Риту в Денвере и она затянула вечную песню о преступлении, наказании и предательстве. Вначале, когда она рассказывает о том, как ее в два счета вывезли за город, так, что из-за Гомеса и Санчеса, своих духовников, она даже позвонить не успела, и о том, как стали промывать мозги, ей то и дело приходится останавливаться, так как протесты со стороны обвинения следуют, как автоматные очереди. Одни Мартинес принимает, другие – отклоняет, но после того как рассказ набирает силу, он затыкает Робертсону рот.
– Сейчас у нас не перекрестный допрос, господин адвокат, – укоряет его Мартинес. – Прошу дать свидетельнице возможность говорить по собственному усмотрению. Позже у вас будет предостаточно возможностей задавать вопросы.
Отмахиваясь от Робертсона, Мартинес снова поворачивается к Рите. Кипя от ярости, Робертсон плюхается на стул, успевая бросить взгляд на наш стол. Еще немного, и он испепелит нас. Рокеры, толкая друг друга, отвечают ему тем же. Только Одинокий Волк вдруг посылает ему широкую улыбку, давая понять: «Так тебе и надо, ублюдок, черт бы тебя побрал, ты вымазал нас с ног до головы в дерьме, теперь настала твоя очередь. Сейчас ты у нас попляшешь!»
Она уже два часа дает свидетельские показания, излагая свою версию случившегося – то, что я слышал в номере «Браун-палас». Решиться на это ей было непросто, она все еще до смерти боится, как бы все не вышло ей боком.
– Значит, – говорю я, – после того как вы столько времени провели в горах, они привезли вас обратно в Санта-Фе. Я имею в виду полицейских.
– Да.
– И вы сделали свое заявление. В официальном порядке.
– Да.
– И они сказали вам, точнее, вбили в голову, что, если вы измените свое заявление, внесете в него сколько-нибудь значительные коррективы…
– Что-что?
– Внесете коррективы… ну, возьмете свои слова обратно.
– А-а. Ну да.
– Что если вы откажетесь от своих слов, то они пришьют вам дело по обвинению в соучастии в убийстве. Так прямо они и заявили.
– Да.
Я перевожу взгляд на стол обвинения. Робертсон лихорадочно строчит что-то в блокноте. Моузби, внимательно наблюдающий за мной и Ритой, вздрогнув, отводит взгляд. Оба полицейских, Гомес и Санчес, со стоическим видом глядят прямо перед собой, словно два деревянных индейца, которые красуются у каждой табачной лавки. Все видят, но виду не показывают.
Мартинес тоже смотрит на них. Не пойму, что скрывается за его взглядом, но знаю наверняка, что сейчас он ей верит. Может, не целиком, но и этого достаточно, чтобы он заколебался. Четырех человек приговорили к смертной казни в суде под его председательством, во многом на основании данных ею показаний. Теперь же она заявляет, что все это ложь, хуже того, не просто ложь, а преступление, основанное на обмане, на коррупции, словом, все, что юристу, честному перед самим собой, может присниться только в самом страшном сне. И это в суде под его председательством и ответственностью.
Он уже читал ее новые показания. Но они были на бумаге, теперь он видит свидетельницу воочию, слышит ее собственные слова.
На лице у него грустное выражение, как у человека, которого нежданно-негаданно застигли врасплох. Впечатление такое, что солгали ему самому, словно он сам был виноват в этой лжи. Мне его искренне жаль, он честный человек, этого не должно было произойти. Сейчас почва уходит у него из-под ног, угрожая поглотить целиком.
Он опасается за свою репутацию, за репутацию руководимого им суда. Я сочувствую: ведь это не его вина. Его подвела система правосудия, так же как она подвела Джона Робертсона. Разница между ними есть: он понимает, в чем дело, готов это признать, внести необходимые поправки, а вот Робертсон – нет.
– Привезя вас обратно в Санта-Фе, – продолжаю я, снова поворачиваясь к ней, – они предложили вам прибегнуть к услугам адвоката?
– Нет, – не колеблясь отвечает она.
– Несмотря на то что в случае неправдоподобности вашей версии они предъявят вам обвинение как соучастнице убийства?
– Да.
– Они когда-либо предупреждали, что вы имеете право на адвоката, право на то, чтобы до его прихода не давать никаких показаний?
– Нет.
– Ваша честь! – Робертсон вскакивает с места. – Госпожа Гомес была не подозреваемой, а свидетельницей. А свидетельниц мы не знакомим с такими правами.
– Как это не знакомите, если полагаете, что сможете привлечь ее к ответственности по обвинению в соучастии в убийстве! – парирую я.
– Ваша честь, – Робертсон слегка повышает голос, – с нашей стороны никогда не предпринималось таких попыток. Поэтому необходимости знакомить ее с юридическими правами просто не было.
– Хорошо, – говорит Мартинес. – Отложим на время этот вопрос.
– Надолго, Ваша честь?
– На столько, на сколько потребуется для того, чтобы установить истинность показаний госпожи Гомес, господин прокурор. Тогда и решим.
Робертсон хочет еще что-то сказать, но, передумав, садится.
Мартинес поворачивается ко мне.
– Обо всем этом говорится в соответствующем документе, составленном в письменной форме, господин Александер. Вы хотите задать дополнительные вопросы своей свидетельнице?
– Да, сэр. Есть еще одно обстоятельство.
Я снова поворачиваюсь к Рите.
– Четверо мужчин, сидящих за этим столом…
Усилием воли она заставляет себя посмотреть на них, но тут же отводит глаза.
– На суде вы заявили, что они вас изнасиловали.
– Да, – колеблясь, отвечает она.
– В самом деле?
Она снова смотрит на них. Они отвечают ей холодным, бесстрастным взглядом. Несмотря на то что сейчас она на их стороне, они не могут сострадать ей, это не в их характере. В глубине души они подонки, для которых изнасилование сродни развлечению.
– Да, – отвечает она.
– Несколько раз?
– Да.
– Наверное, это было ужасно?
– Очень.
– И больно.
– Боль была жуткая несколько дней.
– А вы обращались в больницу? Чтобы вас там осмотрели, как следует позаботились?
Она мешкает с ответом.
– Вы хотите сказать, обращалась ли я сама?
– Да.
– Нет.
– Почему же нет? Если вам было так больно?
– Я была слишком напугана.
– Напугана тем, что администрация больницы может известить полицию, вам придется выложить все начистоту о рокерах и тогда они сдержат свое обещание вернуться и убить вас?
– Да.
– Когда полиция… когда агенты сыскной полиции Санчес и Гомес… когда они вас обнаружили, вы все еще чувствовали боль?
– Да.
– Кровь еще шла?
– Да.
– Они пытались вам помочь?
– Да.
– Каким образом?
– Они сами отвезли меня в больницу.
– Протест! – Робертсон вскакивает на ноги, простирая руку к судье.
– Протест отклоняется! – рявкает Мартинес, не сводя глаз с Риты.
– И они позаботились о том, чтобы обеспечить за вами уход, – продолжаю я.
– Да.
– И только потом отвезли в горы и принялись выколачивать из вас нужную версию.
– Да.
Подойдя ближе, я останавливаюсь перед ней. Мы смотрим друг на друга в упор. Я гляжу на нее с такой нежностью и успокоением, на какие только способен.
– В прошлый раз вы солгали, не так ли? Я имею в виду тот суд.
– Да. – Она стоит, потупив глаза, все ее тело сотрясается, как в ознобе. Вот сейчас мне ее по-настоящему жаль.
– А сегодня говорите правду.
– Да.
– Чистую правду, без всяких оговорок, без какого бы то ни было принуждения или обещаний с моей стороны?
– Да, – отвечает она твердым, звонким голосом. – Теперь я не вру.
– Госпожа Гомес.
Робертсон останавливается перед ней, покачиваясь на каблуках, подаваясь всем телом вперед. Она инстинктивно отстраняется, прижимаясь к жесткой спинке дубового стула.
– С какой стати людям, сидящим в этом зале, верить тому, о чем вы нам сегодня рассказали?
– Потому что это правда, – оправдываясь, отвечает она.
– Понятно. Правда, значит.
– Вот именно, – отвечает она уже более вызывающим тоном. Я предупредил, чтобы она была готова к такому обороту дела и ни в коем случае не шла на попятный. Правда на ее стороне, она должна ее отстаивать, хотя это легче сказать, нежели сделать.
– А то, что вы говорили на суде, тоже было правдой, не так ли?
– Нет.
– Но вы утверждали обратное? Вы поклялись на Библии, что говорите правду.
– Поклялась, но это была неправда. – Подняв голову, она переводит взгляд на Мартинеса. – Мне пришлось это сделать, господин судья. Иначе они засадили бы меня за решетку.
– Это вы так говорите! – рявкает Робертсон. Его голос эхом разносится по всему залу.
– Это правда, – подскакивает она на стуле, вид у нее встревоженный и испуганный.
– Похоже, вы чего-то боитесь, госпожа Гомес, – говорит ей Робертсон. – Я ведь только слегка повысил голос. Разумеется, так и должно быть, ведь вы совсем запутались в паутине лжи, которая плетется в этом зале, что лично у меня вызывает чувство глубочайшего отвращения!
– Неправда, – упрямо отвечает она.
– С какой стати мы должны верить хотя бы слову из того, что вы нам здесь рассказали? – гремит он. – Из того, что написано на этих страницах, где все от начала и до конца притянуто за уши, – взмахивает он протоколом, куда занесены ее новые показания.
– Потому что…
– Потому что это правда, – говорит он за нее, не скрывая сарказма. – Потому что так говорите вы, женщина, прилюдно доказавшая, что является лгуньей и лжесвидетельницей.
– Но это действительно правда, – слабым голосом произносит она.
– Ну конечно, как правда и то, что луна сделана из зеленого сыра!
Мартинес, сидя в кресле, наклоняется вперед.
– Господин прокурор, – обращается он к Робертсону, – постарайтесь обойтись без образных сравнений, о'кей? И хватит запугивать свидетельницу!
– Запугивать свидетельницу?! – восклицает Робертсон. – Запугивать… о каком запугивании здесь вообще может идти речь, Ваша честь, эта женщина не заслуживает ровным счетом никакого доверия!








