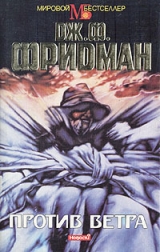
Текст книги "Против ветра"
Автор книги: Дж. Фридман
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
7
Они отвезли ее в охотничий домик в горах. Других домиков вокруг не было, из него ничего не было видно. Ехали они туда долго, несколько часов, она спросила, неужели нельзя было устроить допрос в Санта-Фе, а они ответили, что там никто ее не побеспокоит, никто не тронет.
Слабость от кровотечения у нее еще не прошла, кроме того, она была голодна, сказала, что хочет поесть, а потом немного поспать, тогда один из них вышел на улицу и принес немного чили [20]20
Острый перец.
[Закрыть], несколько банок кока-колы, все вместе они съели чили, она выпила пару банок кока-колы, а они – пива, ей надо было сходить в ванную, но она почему-то побоялась сказать им об этом, может, из-за кровотечения, она держалась до тех пор, пока не стало совсем невмоготу, и тогда наконец решилась спросить, можно ли ей сходить в ванную. Конечно, ответили они и разрешили, сказав, чтобы она приняла душ, что она и сделала, а позднее, пару дней спустя, обнаружила дырку в стене ванной, через которую они подсматривали за ней, пока она принимала душ. К тому времени произошло уже столько всего, что ей было плевать, они видели ее сиськи, ее распухшую киску, ну и что? Наверное, от такого зрелища члены у них встали по стойке «смирно».
Когда она вышла из ванной, в первый раз приняв душ, они разложили груду снимков на столе, который с натяжкой можно было назвать кухонным, и сказали, чтобы она внимательно на них посмотрела. На всех снимках был изображен Ричард, на котором живого места не было. Ее чуть не стошнило, они попытались заставить ее снова взглянуть на фотографии, но она не смогла и, почувствовав, что ее вырвет, бросилась в ванную, и там ее вырвало. Снимки были ужасные. Когда она вернулась, они рассказали, что случилось с Ричардом, все то, о чем она рассказала большому жюри, а потом на суде. Так она узнала, что произошло с Ричардом, впервые узнала. Потому что сама она не видела, что там произошло. Она сказала, что видела, – сначала большому жюри, а потом во время суда, но на самом деле это было не так.
Когда ее вырвало и чили с кока-колой оказались в унитазе, полицейские повели себя с ней мягко. Ну разве не ужасно то, что приключилось с беднягой Ричардом, и так далее в том же духе, а потом спросили, как все произошло? Вы о чем, спросила она. Тогда они сказали, чтобы она объяснила, что произошло в горах, где она была с Ричардом и рокерами, как все вышло. Что произошло сначала, что – потом, кто изнасиловал тебя сначала, кто – потом, кто изнасиловал Ричарда сначала, кто – потом и так далее, кто пырнул его ножом сначала, кто отрезал член. Словом, все, как было.
Я не знаю, о чем вы говорите, ответила она. Насчет изнасилования она рассказала им все, что помнила, затем рассказала, как они наконец довезли ее до мотеля, изнасиловали еще пару раз и укатили. Ей было страшно вспоминать об этом, но она все-таки рассказала, и чем больше говорила, тем больше ненавидела рокеров, она ведь хотела заставить себя не думать об этом, словно ничего и не было, но теперь, когда от нее потребовали рассказывать все, оказалось, что нет, все происходило на самом деле, она сама это знала и не могла отрицать. Но что касается Ричарда, тут она ничего сказать не могла, потому что ничего и не было.
Тогда они посмотрели на нее как-то странно, такое было впечатление, что то ли они ей не поверили, то ли еще что, и сказали: вот что, ты была с ними, когда они убили Ричарда, отрезали ему член и засунули в рот. Она сказала, что не была, не была, и все тут.
Тогда они снова стали говорить, что была, и она опять сказала, что нет, тогда они снова посмотрели на нее как-то странно и сказали, чтобы она ложилась спать и отоспалась: она, мол, устала после всего, что с ней произошло – сначала ее изнасиловали, потом отвезли в больницу и так далее. Утром они снова с ней поговорят. Это на самом деле было так, она на самом деле устала от всего, она пошла в одну из спален (спален там было две) и заснула, даже не раздеваясь, так она устала. Позже она обнаружила дырку и в стене спальни тоже, через которую они, наверное, видели, как она одевается и раздевается. Ей было плевать: миллион мужиков видели, как она раздевается, так что какая, в конце концов, разница! Она слышала, как они разговаривают, достают банки пива из холодильника, следующее, что она помнит, это как наутро проснулась с мерзким ощущением во рту после того, как накануне вечером ее вырвало; они угостили ее кофе и сдобными булочками, купили для нее новую зубную щетку, зубную пасту, туалетные принадлежности. Симпатичные вещички, такое впечатление, что выбирала их настоящая леди.
Затем они снова показали ей фотографии и заставили рассматривать их очень долго. Рассказали, как все было, как, по их мнению, все произошло, это был рассказ, который она позже повторила перед членами большого жюри. Она без конца говорила им, что все не так, что она не знает, как все было, потому что ее там не было. Тогда они сказали: ну ладно, давай начнем снова с самого начала. Ты же была знакома с убитым Ричардом Бартлессом? Да, ответила она, была, она этого и не отрицала. О'кей, а вы с ним когда-нибудь ходили в бар? Да, снова ответила она. В тот вечер ты встретила там рокеров? Да. Они отвезли тебя в горы и там изнасиловали? Да. А потом отвезли обратно в мотель? Да. В то время Ричард тоже жил там, в соседнем номере? Да. Теперь она могла уже разобраться, куда они клонят. А потом Ричард пришел к тебе в комнату и попытался помешать им изнасиловать тебя? Нет, ответила она, с того момента все было иначе, если исходить из того, что я сама знаю, что со мной случилось. Они просто продолжали свое дело, потом связали его и вместе с тобой увезли в горы? Нет. Потом трахнули его через задний проход, продолжали они, словно она все время говорила не «нет», а «да». Потом достали нож, прокалили на костре и пырнули его несколько десятков раз? Нет. Но они продолжали задавать ей вопросы, как будто она все время отвечала «да». Потом отрезали половой член и засунули ему в рот? Нет. И убили выстрелом в голову? Нет. Потом сбросили труп со скалы, отвезли тебя обратно в мотель, поговорили, убивать тебя или нет, и в конце концов решили, что нет? И да, и нет. Потом они уехали, укатили на своих мотоциклах, бросив тебя одну, заставив поклясться, что ты ничего не скажешь? Да.
Покончив с этим, они выпили кофе (она пила кока-колу) и начали все сызнова, все то же самое, с самого начала. Те же вопросы, те же ответы. Ей снова захотелось в ванную, она у них спросила: «Можно?», они ответили, что пока нет. Она была готова расплакаться и сказала им, что ей нужно в ванную, она больше не может терпеть, а то помочится прямо на пол, что для нее было бы хуже всего остального. И тогда наконец один из них, что пообходительнее, Гомес, сказал ей: валяй, иди в ванную, но, слушай, когда вернешься, мы снова будем задавать те же вопросы и хотим, чтобы ты наконец начала говорить правду.
После обеда к ним присоединился еще один. Моузби. Представившись, он сказал, как сильно сожалеет о том, что с ней произошло, и хочет ей помочь. Она успокоилась, пока он не завел с ней речь о том же, о чем уже говорили оба сыщика, – об убийстве, о том, как она там оказалась и что видела. Тогда она сказала ему то же, что и им, что, может, все на самом деле и было так, как они говорят, но она сама ничего сказать не может, так как не была там и ничего не видела.
Тогда он вышел из себя, обозвал ее лгуньей, шлюхой, потаскухой, сказал, что, если она и дальше будет врать в том же духе, у него не будет иного выбора, кроме как арестовать ее и предъявить обвинение в сокрытии преступления и соучастии в нем. Это до смерти ее напугало, но что она могла поделать? Ей всегда говорили ни в коем случае не лгать полиции, а теперь сама полиция говорит, чтобы она солгала.
Они проговорили с ней всю вторую половину дня, до самого вечера, она с ног валилась от усталости, до смерти хотела спать, но они ни за что ее не отпускали. Они проговорили с ней всю ночь напролет, сменяя друг друга, полицейские и Моузби спали один за другим, урывками, не давая ей заснуть, толкая ее всякий раз, когда она начинала клевать носом, заставляли пить кофе, который ей не нравился, и кока-колу и не разрешали пойти в ванную, пока она не помочилась прямо в трусики. Они не давали ей спать всю ночь и весь следующий день, пока она совсем не перестала соображать, почти не могла разговаривать и понятия не имела о том, что говорит. Они снова и снова задавали ей те же самые вопросы. Наконец силы совсем ей изменили, и она потеряла сознание.
Это произошло ближе к вечеру, а когда она снова проснулась, было опять темно. Она лежала в постели, голая. Кто-то раздел ее. Насколько она могла судить, ее опять изнасиловали, киска была прикрыта свежим «котексом», на котором виднелись свежие пятна крови. Кто-то потрудился над ней в то время, когда она была без сознания. Ладно, не важно, только бы все как можно скорее кончилось. Она по-прежнему боялась солгать, думала, что они пытаются обвести ее вокруг пальца, и, если она ответит «да» на вопросы, на которые раньше отвечала «нет», они арестуют ее за лжесвидетельствование, что все это не более чем уловка, нужная для того, чтобы за что-то ее арестовать. Поэтому она понятия не имела, что предпринять.
Они вошли к ней в комнату и приказали одеться, одежда была та же, в которой она приехала, другой у нее не было, эта уже начала рваться, она не хотела надевать ее, но пришлось, выбора не было. Войдя в гостиную, она увидела, что там стоит еще один мужчина, четвертый, а на кухонном столе – какой-то аппарат. Ей сказали, чтобы она села к столу, рядом с аппаратом, обхватили ей руку ремнем, который был присоединен к аппарату, который, как они сказали, называется детектором лжи. Они сказали, что будут снова задавать те же вопросы, а аппарат скажет, лжет она или говорит правду.
Ей это пришлось по душе, потому что она не лгала, она говорила правду, аппарат скажет, что она говорила правду, тогда они отпустят ее наконец, поверив. Они снова стали задавать вопросы, все те же вопросы, а четвертый мужчина все это время как-то странно смотрел на аппарат и что-то записывал на рулоне бумаги, который медленно выползал из него, а потом, подняв голову, как-то странно посмотрел на Моузби. Моузби тоже как-то странно посмотрел на него, такое впечатление, что он был зол, словно аппарат говорил им что-то такое, что им не хотелось слышать. Она ничего не могла с этим поделать, она говорила правду.
Четверо мужчин стали совещаться между собой. «Все это серьезно, – говорили они, – все это очень серьезно». Тогда Санчес подошел и сел рядом, лицом к ней, и неожиданно наотмашь ударил по лицу, сильно ударил, так, что она чуть не слетела со стула: это безмерно удивило ее, она страшно испугалась – и от боли, причиненной ударом, и от неожиданности.
– Ты лжешь, мерзавка! – заорал он. – Детектор лжи только что показал, что ты лжешь! – Он попытался было ударить ее снова, но его остановил Гомес, сказав, что этим делу не поможешь.
Вот тогда она и вправду струхнула, ведь она говорила правду, а детектор лжи показал, что, оказывается, нет. Тогда они снова стали задавать ей вопросы о том, что произошло, когда рокеры отвезли ее обратно в мотель после того, как в первый раз трахнули в горах, и она рассказала им, рассказала о том, что произошло, как наконец они укатили на своих мотоциклах, а она отключилась.
Потом Гомес, тот, что пообходительнее, сказал: «Дайте мне возможность поговорить с ней наедине», а Моузби ответил: «Нет, черт побери, она лжет самым бессовестным образом, я забираю ее с собой в Санта-Фе, заведу на нее дело по обвинению в соучастии в убийстве, отправлю на электрический стул вместе с этими чертовыми рокерами, она их выгораживает, она, сучка, виновна так же, как и они!» А Гомес сказал: «Да остынь ты, старик, дай мне поговорить с ней минутку наедине!», на что Моузби ответил: «О'кей, но только на минутку, потом я прекращаю этот балаган, мы забираем ее обратно в Санта-Фе и заводим дело по обвинению в соучастии в убийстве, а то пытаешься человеку помочь, а он, черт побери, в твоей помощи и не нуждается!» «Хорошо, на минутку», – согласился Гомес.
Они вышли на улицу, он предложил ей сигарету, поднес зажигалку, словом, повел себя как истинный джентльмен, глядя на нее ласково, а не так, как смотрят на потаскуху, мокрощелку, куда любой мужик, если захочет, может засунуть свой стручок, даже несмотря на то, что она потеряла сознание и у нее идет кровь.
– Мы знаем теперь, что они тебя изнасиловали и до смерти напугали, – спокойно говорит он. – Ты нам сама об этом сказала. – Да, она сказала, это правда. Тогда он говорит: «Когда они привезли тебя обратно в мотель, ты была практически без сознания и почти не помнишь, как они уехали, может, к тому времени ты уже потеряла сознание». Она ответила, что и это правда. «И, когда вы вернулись в мотель и все это уже происходило, кто-то постучал в стену номера?» – спросил он. И снова она ответила «да». «А это мог быть Ричард?» Она думает, это мог быть и он, он жил в соседнем номере, к тому времени ее уже так измочалили, что она не может сказать наверняка. Может, и он.
– О'кей, – сказал он. Она взяла еще сигарету, он снова помог ей прикурить. У него были грустные глаза, красивые глаза, такие же темно-карие, как у нее самой, они смотрели на нее так, словно она на самом деле ему дорога, словно он хотел, чтобы у нее все было в порядке, чтобы против нее не заводили дело по обвинению в убийстве, которого она не совершала, которого, она уверена, что он это знает, она не совершала.
– О'кей. Ты больше уже ничего не вспомнишь, пока не отоспишься как следует. – Говоря это, он посмотрел на нее так, словно говорил совершенно искренне. Она, в свою очередь, посмотрела на него и ответила «да», это так. Тут она потеряла сознание и ничего больше не помнит до тех пор, пока несколько часов спустя не проснулась.
Тогда он взял ее ладошку в свои руки, у него большие руки, ее ладонь полностью исчезла в них, но в то же время мягкие, ей было приятно, когда он держал ее за руку, он нежно держал ее за руку, как мужчина держит за руку женщину, если она нравится ему, если он относится к ней как к человеку и как к женщине, не просто как к подстилке, а как к настоящему человеку, и сказал:
– Значит, могло оказаться и так, что ты была такой измотанной, такой уставшей, такой перепуганной, что они отвезли тебя снова в горы вместе с Ричардом Бартлессом, и все это на самом деле произошло, они убили Ричарда и так далее, а ты была такой уставшей, такой измотанной, такой перепуганной, что ничего не помнишь. Ты просто не способна что-либо вспомнить.
Она почувствовала, как сердце на мгновение перестало биться. Он держал ее за руку, глядя прямо в глаза, и она ответила: «Да, может, и так», несмотря на то что была довольно твердо уверена в обратном. Но ведь могло быть и так, все ведь возможно. И он сказал: «Иной раз так уж устроен наш мозг, что он отказывается вспоминать что-то очень плохое, он просто закрывается, словно глухая дверь, а то, что ты ищешь, убрано где-то далеко, и тебя не волнует, где именно, достаточно того, что убрано, и ты перекладываешь эту вещь туда, где на нее не нужно смотреть, потому что она слишком безобразна. Вот так мозг защищает нас от самих себя».
Тогда она посмотрела на него и кивнула, показывая, что поняла, о чем речь. Она действительно поняла, поняла, о чем он говорил и что от нее требуется.
Они выкурили вместе еще по сигарете, выпили банку кока-колы на двоих, потом он сказал, что все будет хорошо, что он позаботится, защитит ее. Что никто снова на нее не нападет, а если кто и посмеет, будь то Моузби или еще кто-то, он им покажет, где раки зимуют, теперь он больше не даст ее в обиду, ее и так уже достаточно обижали. Потом он снова сжал ее руку в ладонях, как будто она ему на самом деле понравилась – и как человек, и как женщина.
Она провела там еще три дня вместе с обоими сыщиками и Моузби. Они купили ей новую одежду и хорошо обращались с ней. Раз за разом они перебирали то, что произошло в ту ночь, раз за разом, пока она на самом деле не поверила, что все было именно так, как говорил Гомес, что все на самом деле было так, как они говорят, а память ее просто подвела в том, что касается Ричарда, потому что от одной мысли о нем ее охватывал жуткий ужас. И через какое-то время она на самом деле поверила в это или подумала, что поверила, ей было так легче – думать, что поверила, и они снова обсуждали все с ней вместе, рассматривая снимки, обсуждая все, что произошло, кто что сделал и когда. Пока наконец она сама не поверила в это, тогда, по крайней мере, поверила, позже начала сомневаться, а тогда поверила так, что была способна рассказать все лучше, чем они сами, чем кто бы то ни было, потому что сама была там, все видела, все испытала на собственной шкуре. Она сама прошла через все это, поэтому и поверила.
Они отвезли ее обратно в Санта-Фе, и в присутствии свидетеля она продиктовала стенографистке в суде заявление о том, что все сказанное ею – истинная правда, что она сделала свое заявление без какого-либо принуждения или нажима, что это ее собственное заявление и никто не подсказывал ей, что следует говорить. Потом то же самое она заявила большому жюри и в суде.
Не знаю, что мне делать: то ли обманывать самого себя, то ли притворяться, что ничего особенного не произошло. Она глядит на меня, ожидая, как я отреагирую. Я могу отреагировать по-разному. В данный конкретный момент больше всего на свете мне хочется выпить, я ловлю себя на том, что дрожу как осиновый лист. Но тут же одергиваю себя, может, срабатывает какой-то внутренний сторож, желающий мне только добра, может, прошлой ночью во мне что-то изменилось, что даст возможность начать новую жизнь. К черту спиртное, старик, только этого тебе недоставало! Если тебе чего на самом деле недостает, так это ясности.
– Но теперь-то ты сама знаешь, что это была ложь от начала и до конца, – говорю я.
Она молча кивает.
– В твоей голове не нашлось ни одного уголка, где ты могла бы хранить правду, страшную правду.
Она снова кивает.
– Значит, это ложь от начала и до конца, – продолжаю я. – Чушь собачья! – Я вне себя от ярости. Я вне себя от ярости, черт побери, но я должен сохранять хладнокровие: этот предлог, объясняющий поведение девицы, настолько хрупок, что от одного неверного слова или поступка у нее снова голова может пойти кругом. – Все, о чем ты говорила на суде, начиная с того момента, когда они привезли тебя обратно в мотель. Все, что касается Ричарда Бартлесса. Это ложь от начала и до конца.
– Зато все остальное – правда. Они на самом деле меня похитили. И изнасиловали.
– Да.
– И должны понести за это наказание, правда?
– Совершенно верно. Но только за это, за это, а не за убийство, которого не совершали.
– Ну да. По-моему, так будет правильно.
Я знаю, что мне делать. Еще один вопрос.
– Почему ты уехала из Санта-Фе? Почему уехала из Нью-Мексико?
– Они мне приказали. Сказали, что мне не придется ни видеться больше ни с кем из проходящих по этому делу, ни слышать о нем. Я и сама не хотела.
– Они давали тебе деньги? На то, чтобы ты переехала?
Она кивает.
– Пятьсот долларов.
– Сейчас нам надо будет съездить в одно место. Туда, где я могу документально оформить все, что ты мне рассказала.
Я вижу, как в глазах у нее мелькает страх.
– Они посадят меня в тюрьму. Они обещали, что сделают это, – говорит она умоляющим тоном.
– Нет, – качаю я головой, – не посадят. Я позабочусь об этом, обещаю. Мы же обратимся не в полицию. Учитывая, что ты мне рассказала. Сначала я получу от тебя заявление, а потом спрячу тебя где-нибудь. Я сам за это заплачу. Где-нибудь там, где они не смогут тебя найти.
– А как же рокеры?
– Они в тюрьме, милочка. Это ты их туда засадила, помнишь?
– А как же их друзья? Они тоже будут за мной охотиться.
– Нет, не будут. Обещаю.
Она глядит на меня, она ни на секунду не верит мне. Винить ее за это у меня язык не поворачивается. С какой стати она мне должна верить? Всякий раз, как кто-нибудь просил ее довериться ему, она оказывалась у разбитого корыта.
8
Дон Стрикленд – сотрудник одной из денверских адвокатских контор, с которой мне доводилось работать раньше. Все уже готово, когда мы с Меркадо привозим Риту к нему в офис, – стенографистка из суда, свидетели (Дон и его секретарша), видеокамера. Она излагает свое заявление от начала и до конца, наконец-то она решилась сказать всю правду. Затем я показываю ей отснятую пленку, мы вносим необходимые коррективы, она ставит подпись, подтверждая истинность того, что только что просмотрела.
– От этого кое у кого голова непременно пойдет кругом, – замечает Дон.
– Твоя правда. – У Робертсона, вот у кого голова пойдет кругом. По крайней мере, он чист, пока, во всяком случае. Простофиля. Не знаю, что хуже: задавать тон или даже не подозревать, какими делишками занимаются подчиненные у тебя за спиной. И так и этак получается хуже некуда.
Моузби исключат из коллегии адвокатов. В кое-каких элитных питейных заведениях будет сказано много тостов по этому поводу. Санчеса с Гомесом, пожалуй, сцапают с поличным и спровадят на пенсию. У полицейских принято самим разбираться с теми, кто из их числа.
Плевать! Я хочу, чтобы четверо парней вышли из тюрьмы, и точка. Пусть общество само разбирается, что к чему, мне лично будет достаточно победы, которую я одержу в собственных глазах.
Секретарша Дона сняла по моей просьбе меблированную квартирку для Риты, одно из тех помещений, которые крупные корпорации снимают помесячно для своих нужд. Заодно ей дают телефон, я проверяю, чтобы его номер не упоминался в телефонном справочнике. К концу дня мы перевозим ее туда, я вношу задаток за два месяца вперед, заодно договариваясь с Меркадо, чтобы он поручил какому-нибудь местному сыскному агентству время от времени проверять, на месте ли она. Пусть она знает, что за ней следят, но не знает, когда именно. Я хочу, чтобы каждый ее шаг был под контролем.
Сначала я подумывал взять ее с собой, но быстро отказался от этой идеи. Если по возвращении в Санта-Фе она попадется на глаза не тем, кому надо, прежде чем я передам ее заявление в суд и оно получит огласку, не пройдет и дня, как ее укокошат. Если они и раньше не особенно стеснялись в средствах, то теперь и подавно ни перед чем не остановятся.
Войдя в свое новое жилище, Рита озирается по сторонам, вид у нее довольный. Может, это самое уютное местечко, где ей когда-либо приходилось обретаться, берлога, в которой я сейчас живу, ей и в подметки не годится. Ну и славно, я хочу, чтобы она чувствовала себя здесь как дома, хочу, чтобы она осела на каком-нибудь одном месте, а не носилась взад-вперед. Мы целых две недели только и делали, что мотались по бакалейным лавкам. Она накупила продуктов, пива, кое-каких безделушек, по которым все девчонки сходят с ума, цветной телевизор с кабельной приставкой, кое-что из тряпок. Что еще остается желать?
– А здесь мило, – говорит она, проводя рукой по матерчатым занавескам. – Мне нравится, что тут есть бассейн.
– Смотри только, чтобы в этом бассейне у тебя не завелись друзья-приятели, – говорю я. – Смотри, чтобы никого не было.
– Ладно, и без того ясно! Вы мне уже раз десять сказали об этом.
– Я хочу, чтобы ты зарубила это себе на носу. Пока дело не будет передано в суд, нам нужно вести себя очень осторожно. Если полицейские только разнюхают насчет этого… – Я не договариваю конца фразы.
Она с торжественным видом кивает. На нее и так уже слишком многие заимели зуб.
– Я постараюсь звонить тебе каждый день. А ты можешь звонить мне, если потребуется. Номера моих телефонов у тебя есть.
Она вытягивает руку с листом бумаги, на котором значатся номера моего домашнего и служебного телефонов.
– О'кей. – Прежде чем уйти, я озираюсь еще раз. – Все это скоро кончится.
– Надеюсь. Я сыта по горло всем этим дерьмом! Мне все это не по душе.
– Это еще не самый плохой вариант.
– Что? – Словарный запас у нее небогат.
– Я хочу сказать, что все могло выйти иначе, – поясняю я. – Дело могло кончиться тем, что тебя похоронили бы в сосновом гробу или, хуже того, погребли бы где-нибудь в чистом поле, под многотонной грудой всякого хлама.
– Ого! Ну да. – Теперь до нее дошло. – Я буду осторожна. Не беспокойтесь.
– Когда я уйду, запри дверь. На оба замка.
Не беспокойтесь, легко сказать. Даже во сне, Рита, будешь ли ты чувствовать себя спокойно? Будут ли твои сны безмятежными? Ни бандитских рокерских банд с ножами, которыми отсекают члены у жертв, ни парней, трахающих тебя по очереди так, что, того и гляди, разорвут внутренности, ни разъяренных полицейских, угрожающих засадить в тюрьму до конца жизни? Сумеешь ли ты жить день за днем как ни в чем не бывало, пока вся эта дерьмовая история не подойдет к концу, ни о чем не тревожась, не чувствуя, как тело сжимают щупальца страха? Потому что стоит тебе только подпустить их к себе, позволить дотронуться до тебя, обхватить тебя, как ты без конца только и будешь тревожиться. В твоих ли это силах, Рита? Можешь ли ты жить, ни о чем не задумываясь? Искренне уповаю на то, что так оно и есть.
Нет, не получается, все равно я тревожусь. Тревожусь за нее, за рокеров, за всех нас, влипнувших в эту чертову историю.








