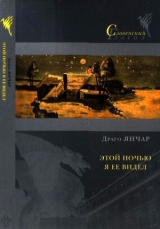
Текст книги "Этой ночью я ее видел"
Автор книги: Драго Янчар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Долго мы не пробыли во Вране, хотя ей должно было показаться, что это длилось целую вечность. Весной тридцать восьмого меня перевели в Марибор. Я чувствовал, что в этот приказ вмешались нежные руки денди в белом костюме. Руки, которые отсчитывают деньги и в конверте протягивают через стол в кафе «Унион» или в ресторане «Под каштанами» майору Иличу. А может, после той злосчастной пощечины и Вероника наладила отношения со своим мужем. Не знаю, что случилось. Внезапное новое назначение в любом случае было странным. Я больше не числился благонадежным офицером, которого из штрафного Вранья переводили на австрийскую границу, хотя Дравская дивизия все больше нуждалась в пополнении.
Что бы за этим ни стояло, а в конце зимы тридцать восьмого мы оказались в Мариборе, я был расквартирован в городе и получил свой эскадрон в кавалерийской части. Снег уже подтаивал, чувствовалось дыхание весны, и Вероника снова ожила. Она была среди своих, ходила на прогулки в прекрасный городской парк. В клубе верховой езды в Камнице ездила верхом в обществе мариборских дам. Она рассказывала о Вране и о протяжных, задушевных песнях, которые там узнала, и о реке Мораве, о вранских банях, о цыганских трубачах и свадьбах, она развлекала собравшихся за чаем рассказами об обычаях православных, о том, что они приносят на могилы своих близких их любимую еду. А по ночам приходят цыгане и устраивают там пиршество. Для нее это было забавным и увлекательным приключением, к тому же моя стычка с прапорщиком преподносилась как рыцарский поступок, мой Стева, говорила она, рыцарь и кавалер. Про ту пощечину она не распространялась. Смех собравшихся вызывала ее присказка: конница плевать хотела на пехоту. Однажды я услышал из кухни, как одной даме, которая зашла в гости, она рассказывает, как была поражена, когда, оказавшись как-то в селении цыган, увидела, как там режут баранов. Я прислушался. Это было в тот раз, когда мы так сильно повздорили. Прямо у дороги, рассказывала она, просто так, кровь из перерезанного горла содрогавшихся в конвульсиях животных стекала в канаву возле дома. Я и сейчас, если закрою глаза, вижу эту жуткую картину. Мне же ни тогда во Вране, ни позднее, она никогда не рассказывала, что случилось в тот день, когда я вернулся с гауптвахты и ударил ее из-за того, что она опять ходила в цыганский табор. По всей видимости, я этого не стоил. Меня следовало жалеть из-за трудного детства, я был рыцарь, потому что вступился за ее честь, сопровождал ее на мариборские танцульки под названием «Адриатическая ночь», и на этом все, что-то между нами в этом несчастном Вране надломилось. Она была там в клетке, я это понимал, что она так себя чувствовала, может, с кем-то из своих приятельниц она и делилась этим. Как неизбежно надломилось бы в любом другом месте. В Мариборе же все только еще больше катилось по наклонной с бешеной скоростью. Кроме того, мы все меньше времени проводили вместе. Маневры в Дравской дивизии случались все чаще, в нескольких километрах оттуда была граница, а за ней бурлящая Австрия, по которой уже открыто маршировали местные нацисты, надвигались великие события, это чувствовалось повсюду. Наш кавалерийский эскадрон получил самоходки, небольшие боевые машины марки «Шкода», которые постепенно должны были вытеснить кавалерию. Мне это казалось несусветной глупостью, но ничего иного не оставалось, как предаваться инструктажу и ездить на этой неуклюжей, громыхающей и извергающей зловоние машине, вместо того, чтобы ехать верхом на коне. Вранац, который все больше становился моим единственным утешением, одиноко простаивал на конюшне.
Вскоре после нашего переезда Веронику навестила ее мама. Мадам Йосипина. За несколько дней они до неузнаваемости преобразили квартиру, которая снова стала похожа на ту, где Вероника жила раньше. Мама Йосипина за чаем с печеньями рассказывала о своей молодости в Риеке. Тогда у нее были светлые волосы, поэтому ее называли блондинкой. Ее мужа, отца Вероники, звали Петер, так же, как нашего молодого короля, как мы уже слышали, у них был прекрасный дом с видом на море, на остров Црес вдали, и сад перед домом. Петер купил лодку, они ходили на танцы в кафе. Об этом мы тоже много раз слышали. У нас появилась прислуга, которая целыми днями ходила по квартире, изничтожая всякую грязь, не прикасаясь только к моим замызганным сапогам. Скорее всего, они вызывали у нее отвращение, особенно когда возвращались после десятидневных учений, не сходя с ног их владельца ни днем, ни ночью, в том числе и во время сна. В преобразившейся квартире стало бывать все больше народу, заходили дамы, ее приятельницы по прогулкам верхом, а с ними и их кавалеры. Я чувствовал себя среди них все более неловко, иной раз вечером, выйдя из казармы, я с большим удовольствием шел ужинать в закусочную.
Однажды вечером я зашел поесть в одну закусочную на улице короля Александра. За соседним столиком собралась шумная мужская компания, какие-то торговцы, задержавшиеся в гостинице, и их мариборские партнеры, среди пришлых был один чех, он продавал станки, другой – коммивояжер, предлагавший лабораторное оборудование. Этот, кажется, намеревался в Триест и ожидал здесь приезда своего компаньона из Праги, его звали, не знаю, почему-то мне запомнилось его имя, Эрдман. Самым шумным был торговец хорват, на нем была толстенная золотая цепочка, он ни с того ни с сего накинулся на меня. Я знал, что речь шла обо мне, хотя он даже не взглянул на меня. Для этих сербов весь мир кавалерийская казарма. Вонючая кавалерийская казарма. Я не обращал на него внимания, хотя внутри у меня все клокотало. Мне уже тогда следовало понять, что в конце всего мы, сербы, окажемся стрелочниками. А среди сербов – конница, которую меняют на самоходки марки «Шкода». А в коннице виноватым был я, в одночасье превративший свою офицерскую квартиру в кружевные занавесочки, за которыми хозяйничали мама Йосипина и ее бездельница дочка, их разгулявшиеся гости и прислуга, у которой вызывают омерзение офицерские сапоги.
Теперь был только вопрос времени, когда вслед за мамой появится денди, о котором мадам уже в моем присутствии говорила с любовью и восхищением. О его делах, его автомобилях. Госпожа мама госпоже дочери прямо при мне с умилением рассказывала о том, что Лео купил где-то в Верхней Крайне особняк, на самом деле графское поместье, старинный и просторный дом с парком и озером, охотничьей сторожкой и конюшней. Дом у подножия гор, так он называется, а все поместье называется Подгорным, поскольку к господскому дому прилегают обширные владения, леса, поля, конюшни, расположен он у Крутого Верха, который на самом деле вовсе не крутой, зеленые склоны тянутся от дома, из окон открывается вид на равнину, на Горенью Вас и другие селения, откуда приходили поденщики, следившие за порядком. А уж как там хорошо, мама Йосипина туда ездила, прогулялась по зеленому парку, напоенному свежестью холодного весеннего утра. Лео, Вероникин муж, она это много раз говорила, не глядя на меня, Лео, твой муж, там бывает чаще, чем в Любляне, он все еще один, к нему часто приезжают художники из Любляны, он покупает их картины, поддерживает их, пианист Вито, ведь Вероника его еще помнит, иногда даже устраивает концерты. Вероника проявила необычайный интерес, задала несколько вопросов об этом семейном приобретении, что за комнаты, где кухня и какой вид из спален. А там, в округе можно ездить верхом? Мысленно рисовался всемогущий Лео Зарник. Его существование становилось все более ощутимо. Так же, как он вообще-то ежедневно присутствовал и во Вране, где окончательно проник в нашу жизнь после того, как раздалась эта несчастная пощечина. Теперь он выступал в историях ее матери, мадам Йосипины. Мадам Йосипина уехала, а он незримо остался тут с нами. Да и мама через несколько дней вернулась, с каждым разом она оставалась все дольше.
Я ездил на самоходках и маршировал по грязи на весенних маневрах.
Она ушла солнечным зимним утром, точно помню, тогда город взорвало известие о жутком преступлении, которое случилось в Похорье. Все рассказывали о несчастной парочке, будто бы с рюкзаками отправившейся в поход по лесной, вечно заснеженной дороге, там их подстерегли незнакомцы и зверски избили, а может, и ограбили. И в казарме командующего Мишича об этом говорили. Кто бы мог подумать, что эти миролюбивые словенцы способны на такое! Меня это особенно не тронуло, всюду есть насильники и преступники, почему бы им не оказаться и в Мариборе? Когда я вернулся домой, далеко за полдень, дверь мне открыла прислуга. Она была бледна, и я было подумал, что ее напугала история о преступлении в Похорье. Она сказала, что мадам уехала и оставила для меня письмо. Я сразу понял, что случилось, возможно, уже давно ожидая этого. Служанка смотрела на меня, когда я вскрывал письмо, сказав, что может остаться, если она мне нужна. Я ответил, что она мне не нужна. Можете сразу же идти, уж сапоги я себе сам как-нибудь почищу. Как и прежде. Мне больше никто не был нужен.
Вероника писала, что возвращается к Лео. Она меня любит по-прежнему, не жалеет ни о чем, что с нами было и что мы пережили вместе. Но я же вижу, Стева, как мы в последнее время стали чужими друг другу. Я чувствовал себя аллигатором, из которого сделали чучело. При этом я даже не куснул ее мужа.
Последнее письмо от нее я получил весной тридцать восьмого, а теперь начало лета сорок пятого. Почти семь лет прошло с тех пор, как она ушла. А для меня словно бы вчера. Я помню эту пустую квартиру в Мариборе, никогда ее не забуду. Мебель вся там осталась, она ничего не взяла, кроме своих платьев и некоторых мелочей, но она была пустой, потому что не было ее смеха, ее легкой походки, в ванной капала вода из душа, она утром приняла душ и ушла. И этих капель я тоже никогда не забуду, я и сейчас их слышу кап, кап, ударялись они об эмалированную ванную, словно секунды, словно минуты, словно время, утекающее в тишине. Будто бы оно там остановилось и начало другой отсчет, я точно помню, хоть за эти семь лет в моей жизни и случилось больше, нежели за всю мою жизнь до того. Ее больше нет. И Югославии больше нет. Королевской армии нет и в помине, поскольку этих заключенных в бараках Пальмановы охламонов невозможно было назвать королевской армией. А я все еще здесь, если я это вообще еще я.
Время, которое я пережил в промежутке между ее уходом и началом войны, зияет в моей памяти бездонной пропастью. Я хотел стать тем, кем я был, пока не встретил ее: хорошим офицером. Однако не было у меня больше никакой цели. Я выполнял свою работу, орал на новобранцев, недосыпал на ночных дежурствах, порой распивал с другими офицерами в дежурке, пропускал стаканчик сливовицы, возвращаясь под утро в пустую квартиру. Снова начали приходить письма из Валева. Елица писала, что по-прежнему ждет меня. Я засобирался в дорогу, три дня там околачивался, когда мы с ней легли, посреди ночи она разрыдалась, сказала, что не узнает меня больше, что со мной стряслось? Я вернулся в еще более пустую квартиру, писал ей, чтобы она переселялась ко мне, но она не могла решиться. Так протекало это пустое время. Позднее ко мне переселилась не Елица, а переехал жить Чедо, которого точно так же перевели из Вране на северную границу, мы вместе ужинали и завтракали, он чистил и наводил блеск на сапогах, на моих в том числе, сдавал пустые бутылки, разговоров о Веронике мы избегали. В первые недели после отъезда она несколько раз мне звонила, как живу. Хорошо, а что я еще мог сказать. В последний раз она сообщила, что переезжает за город в это самое поместье, о котором рассказывала ее мама. Тоже нормально. Потом воцарилось долгое молчание. Не выдержав, я написал ей несколько писем, ответа не было. Потом это молчание становилось все более длительным, пропадая в какой-то бездонной пустоте, в какой-то тишине, которую нарушали выстрелы гаубиц на полигоне в Слуне, куда мы ездили на учения, смешки подружек Чедо, которые увязывались за ним из ночного города, строевые песни и учения во дворе казармы, маршировала, маршировала.
За несколько дней до нападения на Югославию я встретил майора Илича. Он сидел в машине возле интендантского склада. Направлялся со своей частью в сторону Дравограда. В Мариборе они пополняли запасы боеприпасов и продовольствия. Он сказал, что рад меня видеть. Он был не в восторге от того, что ему пришлось послать меня во Вране, но я должен понимать, что иначе было нельзя. Я сказал, что понимаю, а на самом деле мне было совершенно все равно, сожалеет он или нет, так или иначе, теперь все встало на свои места, как когда-то. Не было больше Вероники, не было Вране, только лишь казарма и майор Илич, который держал путь куда-то, чтобы одержать победу и получить полковника. Новым было только то, что начиналась война, которую все мы уже давно ждали. Хорошим ты был офицером, скоро тебе представится случай показать это на деле. Он уже собрался было уходить, но потом вспомнил что-то.
Да, приятель Зарник пригласил меня в свое имение. Там их с женой еще раз поженили. Илич громко рассмеялся. Связали их цепью, добавил он, чтобы уже никогда они не могли разлучиться.
Неплохая хохма, а? заметил он.
И укатил в сторону Дравограда, где несколько дней спустя сдал по всем армейским правилам свою часть капитану немецкой моторизованной дивизии.
Я же со своими самоходками продолжал торчать там, где был. Думая о Веронике, которая живет теперь в поместье, снова счастлива в браке, второй раз с прежним мужем. Я проклинал идиота, придумавшего самоходки, призванные заменить конницу, эти смешные машинки, для которых не было горючего. Не было горючего, чтобы двинуть на Шентиль в контрнаступление, именно тогда оно закончилось. К счастью, здесь еще оставались лошади. С остатками эскадрона, с той частью команды, которая среди поголовного предательства не разбежалась, мы вместе с Чедо ездили через Славонию, где вдоль дороги стояли и плевали нам вслед хорватские крестьяне. Не конница плевала на пехоту. Крестьяне плевали на нас, замахиваясь вилами, так что кони под нами иной раз начинали нести. А с наступлением вечера побирались по славонским деревням, нам, коннице славной королевской армии, приходилось попрошайничать, чтобы лошадям дали овса, а нам самим поесть. Когда не помогали просьбы, убеждали с оружием в руках.
Мы узнали, что в Боснии формируется сопротивление, я сразу почувствовал, что жизнь снова приобретает для меня какой-то смысл. Мы с Чедо поклялись, что будем сражаться до последнего с немцами, итальянцами, венграми, со всеми за короля и отечество. В одном крестьянском доме мы швыряли стаканы об стену от отчаянья, что славная армия прекратила существование, а также от радости, что начинается что-то новое. Мы распевали и палили в воздух во дворе. Тянуло сливовицей и смертью. Нонсенс вся эта присяга, нонсенс, как бы сказала Вероника, которая рассмеялась при нашей первой встрече, когда я сказал ей, зачем мы идем в бой, нонсенс сражаться со всеми, кто был не с нами, а еще со всеми теми, кто нас предал. Однако, после мы действительно дрались, убивали, захлебываясь страхом и смертью, сначала мы сражались против немцев вместе с коммунистами. Потом коммунисты ударили нам в тыл, и мы сразу стали союзниками немцев. Это было для нас чем-то не под дающимся разуму, потомки славных солунцев, наши противники, их офицеры, разгуливали по нашему штабу, из которого мы планировали все наступления против все более превосходящих сил коммунистов. В Боснии, помимо прочего, мы воевали против усташей, хотя они были сущие немецкие овчарки, а мы нет, с теми мы только разрабатывали операции. Мы с Чедо все время были вместе, сначала против немцев, затем против усташей[9]. В конце и до самого окончания войны против коммунистов. По Боснии, по Лике, в словенских горах.
Когда перед самым концом войны ему угодило в живот, падая, он ударился головой о камень, я держал его в своих объятиях, у него из раскуроченного рта лезла пена, как у коня после долгого похода. Мне вспомнилось, как мы пели во Вране Ой, Морава, Вероника положила голову мне на плечо и слушала, закрыв глаза. Потом и она, поддавшись уговорам Чедо, затянула семь долгих лет пройдет, нас снова встреча ждет.
И мы-таки ее дождались, сегодня ночью она явилась, такая живая, в проходе между нарами в офицерском бараке и остановилась у моей постели. Что, Стева, не спится? Я хотел сказать: А я думал, ты живешь в Верхней Крайне, у зеленых склонов, в низовье, на равнине с широкими полями, я это ей хотел сказать, а ездишь ли там верхом по окрестностям? Но она уже ушла, и след ее простыл. Ну конечно, я ей об этом хотел сказать, потому как знал, что она жила в поместье, в своей золотой клетке, не она ли мне не раз говорила, я же не свободна. Теперь же она сама добровольно связала себя цепями с человеком, которого, вероятно, не больше меня любила, а вот живет же с ним. Однако ж этой ночью она все же пришла ко мне, этой ночью я ее видел, прямо-таки сама и пришла, Вероника.
Вестовые привезли донесение о том, что в Любляне выступал тот австрийский капрал, которого теперь почитают маршалом. Он громогласно заявлял перед собравшимися, что предателям больше не увидеть наших прекрасных гор. Это как бы относилось к нам, королевским служакам, что не стали предателями. А не к ним, кто осенью сорок первого ударил нам в тыл. Мир перевернулся на голову. Треснул, что это зеркало, в котором я вижу осколки своего лица, растерзанные куски своей жизни. Как бы то ни было, я все же побреюсь. Затяну ремень, поправлю форму и отправлюсь к месту сбора, куда зовет труба, все уже в сборе. И живы. После полудня поезжу верхом, если Вранац не заленится. А может, и письмо Елице напишу.
2.
Останься она со Стевой, сказала я Петеру, была бы наша дочь и сегодня все в той же мариборской квартире. В квартире сербского офицера, швырявшего в передней грязные сапоги. А может, была бы в южной Сербии и разводила кур. Но я бы, по крайней мере, знала, где она. И не просыпалась каждую ночь от мысли, что именно я сумела уговорить ее вернуться к Лео. Переехать туда, в его поместье, которое он любил почти что так же, как мою Веронику. И я переехала вместе с ней. И там, в сорок четвертом году наша Вероника пропала, через несколько дней после Нового года, с тех пор ни одной весточки от нее. Тебе не в чем себя упрекнуть, заметил Петер. Он задумался как обычно и, помолчав некоторое время, повторил: тебе не в чем себя упрекнуть. Ясное дело, ничего себе, мне себя не в чем упрекнуть, с чего бы это мне себя упрекать, раз я не могла вынести, чтобы она моталась по армейским квартирам и разводила кур? Это она-то, любительница попугаев, лошадей и аллигаторов. Она, учившаяся в Берлине и слушавшая Бетховена. Я переживала за нее, видя, как она живет, и если она свыклась с такой жизнью, то это было выше моих сил. А по ночам в моей пустой квартире на окраине Любляны меня снова не отпускала эта мысль: останься она с тем офицером… Я включила свет и стала искать фотографию Петера. Сейчас я с ним каждую ночь разговариваю, только он один и может меня успокоить.
Сегодня у меня был Филипп, брат Лео. Интересовался, всего ли мне хватает, не надо ли чего. Ну, конечно же, у меня есть не все, что нужно, эта двухкомнатная квартира на окраине Любляны не поместье, ответила я. Вообще-то, это шутка, он ведь понимает, не по поместью я тоскую. Ну, как-нибудь переживете, пока все это не уляжется. Я сидела у открытого окна, как всегда, а он стоял сзади меня, и мы смотрели на колонну людей с транспарантами и портретами их вождей, шагавших по улице за духовым оркестром. Демонстранты были в приподнятом настроении, радостные, люди приветственно махали им из окон и с балконов. Вдруг я увидела, как мужчина остановился и посмотрел наверх, мне показалось, на мое окно, на меня. Он был приземистый, раскатистый в плечах, с синеватыми кругами под глазами, какие бывают у полуночников или у людей, страдающих бессонницей. Его лицо показалось мне знакомым, вроде бы, это был один из тех работников, что ходили на заработки по поместьям в округе Подгорного имения. От одного его взгляда меня бросило в дрожь; что-то знакомое, а вместе с тем неведомое проникало в меня вместе с этим взглядом. Потом он отвернулся и зашагал прочь, растворившись в разгулявшейся толпе.
Ну уж, понятно, как-нибудь обойдусь, ответила я Филиппу, хотя в квартире нет ванной и удобства в коридоре, где по утрам соседи стоят в очереди, женщины в халатах, а некоторые мужчины в небрежно расстегнутых брюках со свисающими ремнями, уж как-нибудь переживу. Мне ничего не надо, днями напролет я просиживаю у окна в ожидании увидеть ее лицо, лицо своей Вероники, или на худой конец Лео, который однажды прикатит на авто, а может, они вдвоем, может, оба они пройдут по тротуару, и она будет держать его под ручку, посмотрит наверх, улыбнется, лишь она одна умела так мило улыбаться, и я ей помашу рукой. Немногим раньше я увидела, как идет Филипп, он выхлопотал эту квартиру, через день приносит мне что-нибудь поесть, хлеб и молоко, муку, иногда и мясо. Вы не доели, говорит он мне, снова оставили. Не до еды мне, ответила я, а он свое: что бы Вероника сказала? Вероника бы сказала, ой, мама, человек не может без еды. Сначала маме, всегда говорила она в столовой поместья, когда подавали обед, а когда бывали гости, и нужно было сначала им подавать, Вероника говорила, иногда одним взглядом знак подавала, и всем было понятно: сначала маме. Ну, а когда она бывала особенно в настроении, то шла прямо на кухню к кухаркам и прислуге и, засучив рукава, готовила мое любимое блюдо – белые грибы, собранные утром.
Я сидела у окна, колонна исчезла за поворотом, звуки оркестра удалялись, по улице поспешали последние опоздавшие. Идут на Площадь Конгресса, заметил Филипп, там большой митинг. Маршал будет речь толкать. Пускай себе говорит, пусть музыка играет, пусть народ ликует, войне конец, пусть радуются. А я не могу. Филипп говорит, чтобы я была поосмотрительней в разговорах с посторонними, чудные времена, иногда по ночам за кем-нибудь приезжают и назад он уже не возвращается. Как Вероника? спросила я, как увезли Веронику? прокричала я, раз он ничего не ответил. Вы ведь знаете, что они с Лео уехали, укатили, наверняка, где-нибудь в безопасности. Ну почему же они тогда не объявляются? спросила я, могли бы хоть какую-то весточку послать. И почему мне нельзя говорить, я ведь и так ни с кем не разговариваю.
Сижу у окна, как сидела там в поместье под Крутым Верхом всю прошлую зиму, после того, как Вероника и Лео январской ночью ушли с какими-то людьми и с тех пор не было от них ни слуху ни духу. Забрали их ночью в самую лютую стужу, сугробов намело кругом высоченных. Только наутро того дня в начале сорок четвертого мне сказали, что они ушли с незнакомцами. Ночью эти незнакомцы рылись в шкафах и хлопали дверями. Я уже тогда с трудом ходила, по большей части сидела у себя наверху в комнате. Ко мне поднялась Йожи, наша экономка, и сказала, что незнакомцы, разгулявшись, никак не хотят угомониться. А к чему же они так дверями хлопают? спросила я. Да потому, ответила Йожи, что уже слегка поддали и никак не разойдутся ни по домам, ни по гостевым комнатам. На другой день я узнала, что с ними ушли также Вероника и Лео. А потом я все ждала, что они вернутся.
И жду до сих пор. Я сидела у окна своей комнаты, когда эти ночные визитеры ушли, сидела и на другой день и так каждый день всю долгую зиму и долгую весну, и потом внизу на дворе вместе с нашими работниками заходили и люди в немецкой форме, а потом еще в какой-то другой форме. А я все глядела в окно и ждала, когда Вероника крикнет со двора: мама, я здесь! И теперь сижу у окна в квартире на окраине Любляны и вглядываюсь в лицо каждому, идущему по улице солнечным майским днем, вглядываюсь в каждую фигуру в вечерних сумерках, чтобы узнать ее или его, Лео, по походке. Может, она в Загребе, сказала я Филиппу. Когда она сбежала со Стевой, она была в Загребе, может, он отвез ее во Вране. Может, она с Лео тайно уехала в Италию. Или во Францию, у нее были знакомые во Франции. А что, если она в Берлине, у нее там подруга? В Берлине все разрушено, возразил Филипп. А как в Швейцарии? Многие уехали в Швейцарию. Это было бы более вероятно, сказал Филипп и уставился на теперь уже совсем опустевшую улицу под моим окном. Значит, они в Швейцарии. Собрали немного денег и теперь в Швейцарии. Филипп, сказала я, ты знаешь, что они в Швейцарии. Филипп ничего не ответил. Ты должен мне доверять, заметила я, знаю, что ты боишься, что я кому-нибудь проболтаюсь, но я ни с кем не разговариваю, от меня никто не узнает, что они в Швейцарии.
Он смотрел в окно.
Филипп, ты меня слышал?
Да, ответил он, слышал.
Некоторое время он хранил молчание. Потом неожиданно спросил, помню ли я того немецкого врача, который во время войны бывал в Подгорном. Конечно, я его помню, его звали Хорст. Он был в мундире, но в нем не было ничего от военного. Такой обходительный господин, Вероника и Лео часто приглашали его в гости, он любил музыку. Всякий раз, когда играл пианист Вито, он обязательно бывал там. Он производил впечатление человека, случайно оказавшегося в наших краях, только и ждущего, когда все закончится. Буду откровенен с вами, сказал Филипп, я узнал его адрес, он живет в Мюнхене, если, конечно, еще жив. По крайней мере, до войны он там жил. Я написал ему, продолжал он, теперь мы постараемся переправить ему письмо. Я схватила его за руку. Ему известно? сказала я, он знает, где они? Возможно, ответил Филипп, может, он что-то и знает, посмотрим. Подождем. Хотелось бы знать, как долго нам придется ждать от него ответа. Дело несколько усложняется, произнес Филипп, через одних знакомых мы отправим письмо в Грац. В нем будет также почтовый адрес, на который он может написать ответ. Почему в Грац, почему дело сложное? Почему не написать ему из Любляны или не поискать его номер телефона и не позвонить ему? Я ничегошеньки не понимала. Я атаковала его все новыми и новыми вопросами, но Филипп ничего больше не стал объяснять. Подождите, сказал он, давайте подождем.
Потом он стал говорить о том, что в стране страшная нехватка продовольствия и ему удалось достать муки у спекулянта, похоже, он надежный, однако ж, никогда не знаешь, с кем имеешь дело. Можно подумать, мне есть дело, где он достает продукты, как будто меня вообще интересует еда. Он сказал, что зайдет послезавтра, ты меня слышишь, Филипп, они ведь в Швейцарии? Тот врач немецкий, Хорст, ему об этом известно. Когда он ответит на твое письмо? Он меня не слышал, ушел, его шаги были слышны на деревянной лестнице. А я осталась сидеть возле окна и увидела, как он на улице взглянул наверх и исчез за поворотом. И продолжала сидеть там же и после обеда, когда стал возвращаться народ со сложенными транспарантами и знаменами и портретами своих вождей, и все сидела там до вечера, когда последние митингующие брели на нетвердых ногах, передавая друг другу бутылку. Я внимательно вглядывалась, нет ли среди них того приземистого парня, который до обеда смотрел на мое окно и был похож на одного из наших работников в Подгорном, но постепенно стали сгущаться сумерки, и я не могла разглядеть их лиц.
Я боюсь наступления вечера. По вечерам, когда в квартиру проникают неверные отсветы уличного фонаря, я чувствую, что скоро ночь и мне опять предстоит бороться с бессонницей. Каждый раз с наступлением ночи голова просто раскалывается, вдруг я снова оказываюсь в поместье, на верхнем этаже, и слышу снизу голоса мужчин. Они топчутся в передней, стряхивая снег с обуви, потом доносятся шаги по лестнице, хлопают двери. Резкий разговор, слышу, как Лео пускается в какие-то объяснения, слышу Веронику, которая что-то растолковывает, слов не разобрать. Затем я одеваюсь и хочу спуститься, хоть я уже и тогда ходила еле-еле. Но в этот момент входит Йожи, мадам, вам сейчас не следует идти вниз. Почему нельзя? Вероника сказала, чтобы вы подождали в комнате. Что там происходит внизу, Йожи? Ничего не происходит, они сейчас ужинают и беседуют. Но кто там кричит, спросила я, кто-то отдает приказы, марш, командуют, я слышала, как сказали: марш. Что это за люди, Йожи? Кому они говорят: марш? Она почти затолкала меня в комнату, вам нельзя вниз, мадам, они скоро уйдут. Кто уйдет? Я сидела одетая на кровати и ждала, пока стихнет шум, и эти люди, кто бы они ни были, эти странные визитеры, уйдут. И что придет Вероника и все мне объяснит. Она всегда рассказывала мне о своих гостях. Пианист Вито из Любляны. Поэт, писавший о златокудрой, читал свои стихи и непрестанно сыпал остротами. Она рассказывала мне о том докторе, немце, звали его Хорст, он гостил у нас во время войны, был ранен в России, прихрамывал. Очень любил музыку и был без ума от Вероники. Однако же в тот вечер после Нового сорок четвертого года она не зашла и ничего не рассказала. Ее не было. Не было ее ни в ту ночь, ни утром ее не было, и все ночи и дни после ее не было. Когда внизу все стихло, я спустилась, наша дворовая прислуга, Йожи, Франц и Фани стояли все и смотрели на меня. Что происходит, спросила я, что случилось? Они ушли, ответила Йожи. А где Вероника? Она ушла с ними, ответил Франц, Лео тоже ушел. Да они вернутся, произнесла Фани. Откуда вернутся? Откуда? Они направились в охотничью сторожку, сказал Франц, что-то им нужно было выяснить. К утру, наверняка, вернутся назад. Зачем им идти в охотничью сторожку среди ночи по глубокому снегу? Йожи заметила Францу, что он несет чушь, чего им делать в охотничьей сторожке, они уехали на машине по шоссе. Франц опомнился, да и впрямь, что им делать в охотничьей сторожке, они уехали по шоссе, ну, конечно. Куда уехали? На большом столе в столовой были в беспорядке оставлены тарелки с остатками еды, рюмки, некоторые были опрокинуты. Мы им дали поесть, сказала Фани, они были голодны, господин Лео сказал, чтобы мы им дали еды.
Той ночью я так и не заснула, утро ползло неспешно. Наутро ее не было, и Лео тоже. Снова голова разрывалась от вопросов. Почему они ушли среди ночи? Куда? С кем? Ну да, Лео не всегда сообщал нам, куда идет, он подолгу бывал в Любляне и в других местах по своим делам. Однако, на этот раз он взял с собой Веронику. Зачем? Вероника мне ничего не сказала, она всегда ко мне заходила, всякий раз, когда уезжала в Любляну. А Йожи теперь говорит, что они ушли вместе с визитерами. Что это были за люди? Я ничего не понимала. Но Лео-то, наверняка, сообразил, что к чему. Мне нужно было привыкнуть к мысли, что они ушли. И что они вернутся, они же всегда возвращались. А голова шла кругом, все смешалось: события и изводившие меня вопросы, которые не давали покоя и на другой день, так что и следующую ночь я провела без сна.








