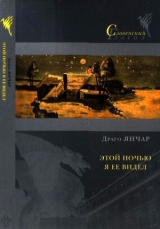
Текст книги "Этой ночью я ее видел"
Автор книги: Драго Янчар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Я не забыл. Я направлялся прямиком в казарму доложиться, в ожидании, когда меня вызовет майор Илич в штабе, набрал номер. Какой-то женский голос ответил, что я не могу говорить с Вероникой, потому что она больна. Когда я стал настаивать, тот же голос ответил, что я могу поговорить с ее мамой, госпожой Йосипиной, которая здесь гостит. Я повесил трубку, отмеряя шаги от окна до дверей, потом, хлопнув дверью, вышел в предбанник у кабинета командующего Илича. Он заставил меня долго ждать. Он сидел за столом, не поднимая глаз, когда я, стукнув каблуками, доложил о своем прибытии. Он подписывал какие-то бумаги, и одну из них через стол протянул мне. Если бы ты не явился, я бы за тобой послал, сказал он. У тебя назначение. Во Вране. На болгарскую границу. Ему трудно было сыскать место более далекое от Любляны. Я взял этот листок бумаги. А я как раз собирался спросить, промолвил я, куда вы меня пошлете? Значит, ты знаешь, сказал он. Знаю, ответил я, поэтому и явился с докладом. Ты хотел попросить меня, чтобы тебя оставили в Любляне? Я подумал, что, может, впрямь этого хотел, но это довольно-таки низко. Жалкое вымаливание позволения оставаться вблизи женщины, которую я обучал верховой езде. Я хотел… начал было я, но только это и смог произнести. Доверив тебе это поручение… начал он тихо. Продолжения не последовало. Может, он хотел что-то добавить про офицерскую честь. Я же хотел сказать, но так и не сказал, что мне по фигу, как он понимает офицерскую честь, что офицерская честь проявляется на поле боя, где можно погибнуть, там проявляется офицерская честь. Однако, этого я не сказал. Он наверняка хотел сказать, что я не достоин ничего иного, как чтобы меня разжаловали и послали в пехоту, где я буду глотать пыль и месить мокрую грязь. Конница плевать хотела на пехоту. Но и он ничего не сказал. Через три дня явись на доклад на полевой почте, номер здесь у тебя записан. Я перестал стоять по стойке смирно: хотелось бы знать, что все это значит, это все, что я произнес. Я не давал команды вольно, произнес майор, не глядя на меня. Я снова стукнул каблуками.
Можешь идти, произнес он, видеть тебя больше не хочу.
И я ушел. Мы встретились с ним еще раз лишь однажды. Тогда, когда все началось. Перед самым апрельским нападением на Югославию. Позже я слышал, что он сдал свою часть танковому корпусу немцев при Дравограде. Его отправили в лагерь, где он в ладу со своей офицерской честью, скорее всего, преспокойно пережил войну. Я же защищал свою и его офицерскую честь в кровавой Боснии и Лике и до последнего дня войны в словенских горах. Я мог бы уже тогда понять, что он трус, не будь он им, не стал бы слушать какого-то люблянского барина, а спросил бы меня о том, что случилось. Его это не интересовало, его не интересовало, что случилось, и что я думаю, можешь идти, сказал он, не удостоив меня даже взглядом, когда я, взяв под козырек, вышел за дверь.
Когда я оказался в коридоре, принесся вестовой: вам звонят в комнате для дежурных офицеров. Это была Вероника. Что происходит? Ничего, ответил я, ты разве не на море? Каком еще море? Лежу в постели с температурой под сорок. Она сказала, что это случается с женщиной, когда она укладывается в сентябре на сырую землю на лесной поляне. Она пыталась рассмеяться, но ее прервал сильный кашель. Сквозь кашель она проговорила, Лео сказал, что тебя переводят в другое место. Да, сказал я, на болгарскую границу. Я слышал ее дыхание. Это неправда, произнесла она спустя некоторое время. Правда, ответил я. Я больше не мог разговаривать. Извини, сказал я и положил трубку. Все, кто находился в комнате, смотрели на меня, по моему ощущению, насмешливо. Мне было безразлично. Я отправился в свой кабинет собрать вещи, но все время кто-то входил. Для того, чтобы посмотреть на офицера, которого, так сказать, перевели из-за того, что он проштрафился. Я решил, что займусь этим вечером, когда никого не будет, во время ночного дежурства. Да, Илич не забыл назначить меня еще и на ночное дежурство на прощание с Любляной. Я пошел за Вранцем, чтобы отвести его назад в казарму. На конюшне они стояли вместе с Лордом и странно смотрели на меня. С самого воскресенья никто не занимался их марафетом и не седлал. У меня слегка сдавило горло, когда Лорд остался один и смотрел в сторону дверей, в которых больше никогда не появится его приятель и его инструктор. Конец, адьё, Любляна, прощай, Вероника, привет, балканские горы, Вране и Морава.
И что я себе вообразил? Что так будет продолжаться? Наверняка, невинный роман без нашего ведома получил внешнее ускорение, превратившись в порочащий семью проступок. Наверняка, они тщательно следили, чтобы слухи не слишком просачивались, денди вел себя, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что бывало все, абсолютно все. Хотя без сомнения, дело могло из семейного превратиться в общественное и всколыхнуть все окружение Вероники и Лео, их приятелей, всех, кому это стало известно, возможно ли такое вообще? Илич сказал, что эти люди невообразимо богаты. Поэтому-то совершенно невообразимо было, чтобы Вероника спуталась с каким-то офицером, кавалеристом из Валева, где выращивают сливы, о чем не преминул заметить ее муж. Замужняя женщина. В католической стране. Образованная и прекрасно воспитанная. Несмотря на некоторые странности, которые ей тут же прощались. Взять, к примеру, того аллигатора, который потом еще укусил ее мужа в ванной, вот только куда? Он и тогда тоже посмеивался, когда аллигатор тяпнул его за задницу? Так что пришлось потом тварь порешить и сделать из него чучело? Меня будут так же вспоминать, как того аллигатора. И как-нибудь Веронике придется сказать, как об аллигаторе, что, мол, ему пришлось отказать от дома. Ах, скажет она, засмеявшись, этот поручик? Лео упек его на болгарскую границу.
Я ошибался. Плохо я ее знал. И ее муж, и ее родственники плохо ее знали. Все мы свыклись с моим отъездом, Илич подписал бумагу и протянул ее мне через стол, у Лео отлегло, он снова стал точно попадать по мишеням, ее мама, все в ее семье перевели дух, у меня же иного выхода, нежели как смириться, вообще не было. Но только не она, не Вероника. Вечером в казарме, когда я укладывал свои армейские пожитки, зазвонил телефон: на КПП меня ждала какая-то женщина. Она сидела там в приемной, у дверей столпились группкой дежурные солдаты, с жадностью рассматривавшие молодую женщину, пялились на ее колени, их совершенно не смущало, что она кашляет в платочек, который держала у рта. Когда я вошел, они посторонились, потому что я взглянул на них как аллигатор. Я присел рядом с ней. Я заметил, что ее волосы слиплись на лбу, и она вся горела.
Ты ведь не уедешь, произнесла она.
Казалось, она вот-вот расплачется. Я вернусь, сказал я. Она с удивлением посмотрела на меня: зачем ты врешь? Ты хорошо знаешь, что ты никогда не вернешься. Я ничего не ответил. Мы сидели в этой каморке на КПП, насквозь пропитанной солдатскими испарениями, запахами кожи и гимнастерок с въевшимся потом, то и дело какой-нибудь новобранец норовил просунуть туда свою бритую голову. Я захлопнул дверь, но это не подействовало, через некоторое время уже снова кто-нибудь стучался в дверь под тупым предлогом, чья-то голова показалась в окне. Оставь их, какое это имеет значение. Мне придется привыкнуть к военным, сказала она коротко, странно усмехнувшись. Я начал извиняться, что мы не можем поговорить в другом месте, у меня же ночное дежурство…
Ты не понял? перебила она меня. Я еду с тобой.
На меня обрушилась волна нежданного счастья, и в то же время страха, как много раз потом перед сражением или в ожидании вражеского обоза в засаде. Каким образом? Ведь за тобой смотрят. Она взглянула на меня и принялась хохотать, пока ее смех снова не оборвался кашлем.
За мной? сказала она, как ты себе это представляешь, что меня кто-нибудь может контролировать?
Нет, Веронику невозможно было контролировать. И уж если она что-нибудь решила, воспрепятствовать этому было невозможно. Если она решила ехать на поезде в Сушак, то она ехала. Если хотела завести вместо собачки или сиамской кошки аллигатора, то и заимела аллигатора. А если ей вздумалось заполучить поручика кавалериста, своего учителя верховой езды, она его получила.
Оставив дома записку, она на поезде доехала до Загреба, где и ожидала меня. Что было в том письме, я так никогда и не узнал. Как бы то ни было, но ее муж ничего не предпринял, чтобы помешать этому. Впрочем, все, что бы он до сих пор ни делал, все оборачивалось против него. Познакомил ее с учителем верховой езды, который стал ее любовником. Узнав о случившемся, попытался его устранить, но тем самым только лишь подтолкнул ее ко мне в руки. Полагаю, он не станет меня искать, сказала она, но, тем не менее, она выехала уже вечерним поездом, чтобы дождаться меня в Загребе на вокзале, и затем вместе продолжить путь в Белград и дальше на самый юг. Для того, чтобы избежать каких-нибудь сюрпризов на вокзале в Любляне, сказала она. Тогда я не мог представить себе элегантного господина, способного выкинуть какой-нибудь фортель, меня как-то не беспокоили его переживания из-за потери женщины, которой он с таким рвением хотел во всем угодить, так что она в конце концов от него сбежала. Тогда я ни о чем другом не мог думать, только о том, что эта молодая и умная, красивая женщина решила ехать со мной. Во Вране. Не представляя, где это. В глубинке южной Сербии, там почти что Турция. Женщины ходили в шароварах, мусульманки, сербки нет. Но и православные не могли выходить из дому без сопровождения. Да я ведь вообще никуда не буду выходить из дома, говорила она, я все время буду с тобой, смеялась она, по большей части в постели. Когда ты будешь на службе, я буду тебе готовить. Я научусь готовить фасоль и пить сливовицу. Покашливая, она весело смеялась. Вране, произнесла она мечтательно, как это прекрасно звучит. Как Вранац.
Приехав вечерним поездом на загребский вокзал, я увидел ее на перроне. Она сидела на огромном чемодане, скрестив ноги, и курила. И хотя я был без ума от счастья и от всех стремительно развивавшихся в последние дни событий, я не мог не сделать ей замечания. Нельзя себя так вести, сказал я, что о тебе люди подумают? Она удивленно посмотрела на меня. На вокзале, пытался я объяснить ей, собираются дамочки определенного сорта. Определенного сорта? спросила она удивленно.
Так я такая и есть, женщина особого сорта.
Ей было непонятно, почему нельзя рассиживать на чемоданах на вокзале, скрестив ноги и покуривая сигарету. Первая размолвка произошла до того, как мы сели в поезд. Новые последовали уже спустя несколько дней после того, как я явился в казарму во Вране, и мы, уставшие и помятые от долгой дороги и поездов, скорее всего не соответствовавших ее представлениям о романтическом путешествии на юг, устроились в маленькой квартирке на краю цыганского поселения. Во Вране по одну сторону города живут сербские жители, а по другую сторону довольно загрязненной речушки, в которую сливаются городские нечистоты, сразу же под бывшей турецкой баней, по обеим сторонам дороги, тянущейся по небольшому склону, раскинулось большое цыганское поселение, называвшееся Цыган-махал[6]. Для жителей Вранья речушка под турецкими банями была условной границей, которую никто кроме стражников и перекупщиков не переступал. Цыгане ходили на сербскую сторону по своим делам, чаще всего как музыканты. И Веронике, естественно, и в голову не приходило сидеть одной дома, к тому же она не представляла себе, что нельзя переступать границы запретной территории, несмотря на то, что ей было известно о размежевании. Уже на второй или на третий день среди белого дня она направилась в цыганскую деревню. Далеко она не ушла. Вокруг нее собралась сперва кучка лопочущих детишек, затем женщин, которые щупали ее господскую одежду, и, наконец, появились несколько ухмыляющихся мужиков, которые стали предлагать ей зайти с ними в дом по соседству. Один из них схватил ее за руку и пытался тащить за собой. К счастью, подоспели два стражника и, протолкавшись под улюлюканье махальских кибиточников, благополучно довели ее обратно до нашей квартиры. Сделав ей серьезное внушение, что власти снимают с себя всякую ответственность, если с ней что-то случится. И меня попросили позаботиться о том, чтобы подобный инцидент больше не повторился.
В этот вечер мы первый раз повздорили. Я сказал, что я строго-настрого запрещаю ей ходить на тот конец турецких бань. Это не Любляна, да и не Белград. И хотя она все еще не отошла от потрясения, вызванного множеством лиц и рук, среди которых она неожиданно оказалась, она гневно посмотрела на меня. Строго-настрого мне запрещаешь? Каким тоном ты разговариваешь? Я ответил, что по-другому нельзя, речь идет о ее безопасности. Ты, зашипела она, как тогда, когда мы встретились впервые, ты всегда считал меня своим новобранцем. Утром следующего дня она была поспокойней. Казалось, она поняла. Она явилась в мир, где действовали иные, нежели на люблянском проспекте, правила.
Несколько недель затем прошли в полной идиллии. Конечно, было не так, как в Любляне, но Вероника стала приспосабливаться. Мы гуляли но осенней листве вдоль тихой, широкой Моравы, протекавшей южнее от города. Она выучила песенку Ой, Морава и напевала ее вполголоса. Как хорошо, говорила она, как здорово, но было бы еще лучше, если бы здесь можно было ездить верхом. С первого же дня я делал все, чтобы нам прислали обеих наших лошадей. Однако из казармы, которая считалась штрафной, это было нелегко сделать. Сюда ссылали офицеров, имевших за собой серьезные дисциплинарные взыскания, некоторые даже кратковременно содержались под стражей. После многочисленных прошений я выхлопотал, чтобы вместе с каким-то интендантским обмундированием послали Вранца. Заполучить Лорда не было ни малейшей надежды. Чтобы ее муж вдогонку за сбежавшей женой послал еще и ее чистокровного английского хэкни, этого все-таки нельзя было ожидать. Но Вранца, которому я страшно обрадовался, нельзя было вытащить из армейской конюшни, потому что использование лошадей на гражданке в этой штрафной части считалось бы ужасным проступком.
Я познакомил ее с женой приятеля Чедо, капитана-артиллериста, и мы все вместе на одной свадьбе глубоко за полночь распевали Ой, Морава… Цыганские трубачи обступили наш столик кругом, наигрывая местные мелодии, одна из них Веронике особенно запала в душу: открой мне, красавица Ленча, двери, двери… какая прекрасная песня, произнесла она… открой мне, красавица Ленча, чтоб взглянуть, красавица Ленча, на твои уста, уста, прислонившись головой к моему плечу, она, закрыв глаза, слушала печальную песню, такая грустная, шепнула она мне на ухо, что просто плакать хочется. Чедо и его жена просили ее спеть какую-нибудь словенскую песню. Она сказала, что знает одну старинную, солдатскую, с тех времен, когда крестьянские парни уходили на семь лет служить австрийскому императору. И пела она тихо, так тихо и так хорошо, что за соседними столиками стали прислушиваться, так что во всем зале наступила тишина, а она пела: не плачь, любимая, смахни слезинку с глаз, семь долгих лет пройдет, нас снова встреча ждет.
Некоторое время казалось, что Вероника привыкает к новой жизни. Но наступили долгие сентябрьские ночи и дождливые дни, на улицах Вране приходилось перепрыгивать через грязевые потоки, которые неслись с близлежащих склонов. Гулять вдоль вышедшей из берегов Моравы стало невозможно. Вероника много читала, получая книги, регулярно посылаемые ее матерью, ходила в библиотеку и с удовольствием быстро научилась кириллице. Все чаще она сидела дома. Когда я, весь в грязи, вернулся после трех дней ноябрьских учений, она сказала, что стала похожа на Коштану. «Коштана»[7] – так назывался очень популярный в то время в Сербии театральный спектакль, собственно говоря, мюзикл, рассказывавший о женщине, у которой умер муж. По старинному обычаю, вдова не могла больше выходить из дому, и Коштана, запертая в одиночестве, при свете луны предававшаяся воспоминаниям о прошедшей жизни, которой больше нет, несмотря на то, что сама она еще была хоть куда, заживо себя похоронила. Действие разворачивается во Вране, и Вероника, которая прочитала все, что было под рукой, разумеется, знала эту историю. Я заперта в этой квартире, произнесла она, что это за жизнь? Я устал, и у меня не было сил, чтобы утешить ее, – такая, какую ты хотела.
Ах, так? тихо произнесла она. Так бы сказал Лео, мой муж.
Он по-прежнему был ее мужем. Когда она уехала со мной, попросту говоря, сбежала, она говорила, что разведется и выйдет за меня замуж. По православному обряду. Я сказал, что у нас будет настоящая сербская свадьба, с трубами и двумя сотнями гостей, с песнями и тостами, такая, которая длится три дня. Дни шли за днями, и мы как-то перестали об этом говорить. Сейчас она впервые заговорила о том, что Лео по-прежнему является ее мужем. И там, где Лео Зарник, ее муж, там и жизнь совершенно другая.
Целыми днями она сиднем сидела дома, потому что почти всякий раз, когда она отправлялась в город, если это селение с турецкими домиками и цыганским табором можно было назвать городом, то возвращалась в скверном настроении. Однажды вечером ее прорвало: а здесь женщина не может выйти на улицу без того, чтобы все мужчины не глазели на нее? Мне подумалось, что и на люблянской улице все на нее глазели, когда она прогуливалась с аллигатором на поводке, значит, что в том худого, если кто-то из мужчин проводит ее взглядом. В кафе я вообще не могу ногой ступить, заметила она, без того, чтобы не быть удостоенной какого-нибудь замечания. Я ответил, что, может, было бы лучше, если бы она ходила в платьях, прикрывающих колени. И совсем уж хорошо, если бы она выходила на улицу и в кафе только в моем сопровождении. Ну, это ее окончательно взбесило: женщины здесь заключенные, что ли? Я все более становился раздраженным, не представляя, как облегчить ее жизнь. Я срывался на новобранцах, одаривая их нарядами вне очереди.
В таком состоянии духа я нарвался на большие неприятности с одним прапорщиком. Было около двух часов, вскоре после обеда, когда я проходил по мрачному коридору казармы, за окном собирались тяжелые облака, в коридорах лампочки светили кое-как. За дверями интендантской мне послышались голоса, я знал, что там распивают слабенький безобидный самогон, который обыкновенно вступает в голову. Я слышал, что кто-то назвал мое имя, раздался смех, потом кто-то отчетливо произнес: ты ведь знаешь, как говорят хорваты: нет шлюхи лучше краньской. Я открыл дверь и спросил, кто это сказал? На меня удивленно посмотрели. Прапорщик, застывший с бутылкой в руках – он как раз разливал по новой – взглянул на меня с несколько прокисшей физиономией. Я, ответил он с ухмылкой.
Да тут ничего личного и не было, господин поручик.
Я подошел к нему, выбил у него из рук бутылку, схватил за ремень и швырнул о стену. А это вот личное, совершенно личное, закричал я, вконец потеряв контроль над нервишками, я был дико взбешен, отстегнул кобуру, чтобы достать пистолет, стрелять я в него не собирался, сам не знаю, что со мной стряслось, может, припугнуть его хотелось, однако, из-за отстегивания этой самой кобуры я чуть было не попал под трибунал.
Из-за нарушения правил несения службы я получил дисциплинарное взыскание: неделю ареста. Получил его и прапорщик, из-за того, что пронес спиртное в казарму. А когда мы, спустя несколько дней после этого сдавали ремни и шнурки перед тем, как отбывать наказание, он сказал, что сожалеет. Ничего дурного он не имел в виду. И я подумал о том, что и мне жаль, жаль из-за Вероники, которая теперь будет одна торчать в этой квартире, жаль было себя, что вместо Любляны, где моя карьера была на самом взлете, я оказался во Вране, в этом гнездовье турецком с грязными улицами и цыганским табором, среди этих офицеров, которых согнали сюда со всей Югославии за лень, пьянство и бездарность, не то, что я, который, так сказать, еще вчера был совсем особенным, лучшим офицером в части майора Илича. Прапорщик хлопнул меня по плечу: теперь карьера накрылась, поручик. Если только не случится какая-нибудь война.
А война приближалась и не «какая-нибудь», а великая, самая значительная и страшная.
В день, когда вышел срок моего наказания, я нашел ее в слезах. Я подумал, что на нее нашла dert[8], это такое ощущение тоски из музыкального речитатива о Коштане, тоска женщины, жизнь которой находится под замком. Однако ж нет, это было не то. Я была в цыганской деревне, произнесла она. Я не стал спрашивать, что там произошло. В меня вселился бес. Из-за гауптвахты, с которой я только что вернулся, из-за прапорщика, который и там не переставал подтрунивать надо мной, из-за сломанной карьеры, из-за того, что она рассиживается на загребском вокзале на чемодане и курит, что твоя барышня из Крани в ожидании клиентов, потому что и здесь, во Вране, она ведет себя так, словно бы была на люблянском променаде, что офицеры посмеиваются надо мной, меня возмущало ее неукротимое желание всякий раз делать именно то, о чем ее предупреждали и что было строжайше запрещено. Сбежала с учителем верховой езды. Ходила в цыганский табор. Раньше, чем я успел сообразить, на ее лицо опустилась пощечина. Я не спросил, почему она плачет, ударил ее, потому что у меня перед глазами стояла сцена с толпой цыган, тянущих ее в разные стороны, чтобы она раз и навсегда поняла, что она не может делать все, что ей заблагорассудится. Что она не должна ставить себя в положение, чтобы какие-то мужики тискали ее, они ведь иначе и понимать-то не могут, как то, что она себя предлагает.
Она долго смотрела на меня, не отводя глаз. Вытерла слезы. А ведь я должна была знать, произнесла она через некоторое время совсем тихо. Ты человек, живущий насилием. Мне стало ужасно горько. Я вышел и в первой же забегаловке пропустил несколько рюмок крепкого. Я не понимал, что происходит. Несколько недель назад напал на этого недоноска прапорщика и швырнул его об стену, сейчас ударил Веронику, женщину, которая плакала, потому что с ней, наверняка, случилось что-то ужасное. Я даже не спросил ее, что произошло. Я не понимал, откуда это все пошло, если ты военный, это еще не значит, что ты способен на насилие. Принуждение – это элемент воинской службы, однако, честь офицера не позволит человеку ударить слабого. Ее муж, наверняка, ничего такого бы не сделал. Он бы это разрулил с улыбочкой на губах. Она ненавидела людей, посылающих лошадей в бой под бомбы, то есть под пули. Человеку, способному на это, ничего не стоит и жену свою ударить. Он – агрессивный человек. Я понимал, что этой пощечины она мне никогда не простит. Когда я вернулся к ночи, она лежала на кровати и смотрела в потолок. Я хочу домой, произнесла она.
Я встал на колени у постели и просил ее простить меня. Да я уже тебя простила. Я понимаю, тебе со мной несладко. Я погладил ее по волосам, но она убрала голову. Боюсь я тебя, сказала она. Приподнявшись на локтях, она посмотрела мне в глаза. Тяжелый у тебя взгляд. Боюсь я людей, у которых такой тяжелый взгляд.
Той ночью я рассказал ей о том, о чем еще никому не рассказывал. О душе ребенка, впервые столкнувшегося с насилием. Мне было шесть лет, когда отец запряг телегу и повез нас с мамой в какую-то деревню, в часе езды от Валева. До сих пор ума не приложу, зачем нам с мамой нужно было сопровождать его. Может, он думал, что так будет легче стребовать назад деньги с какого-то крестьянина. Не знаю также, почему мы приехали туда только к вечеру, вроде бы колесо сломалось, а, может, в трактире каком-то слишком припозднились, не помню. Отец, выпив немного вина, должно быть, чувствовал себя из-за этого посмелее, ведь на самом деле, он был милейший, добрейшей души человек, любое дело старался решить миром. Должно быть, и нас с собой взял затем, что ему хотелось это дело с выбиванием денег уладить по-хорошему, почти что по-семейному. Ну, мы подошли к какому-то дому, встали у забора. Свет нигде не горел. Мама сказала: Пошли, никого дома нет. Дома он, ответил отец. Потом он несколько раз позвал того человека по имени. И ничего, ни одного огонька не зажглось. Топалович, крикнул отец с угрозой в голосе, который даже не знаю, откуда у него взялся, у моего добрейшего отца, может, таким он сделался от вина, которое потягивал по дороге. Топалович, закричал он в сторону дома, я запомнил это имя, Топалович, крикнул он, я знаю, что ты дома, я пришел за деньгами, которые ты мне должен. Потом слышно было какое-то движение у забора, взметнулась чья-то тень, послышался тупой удар, а когда я поднял глаза вверх, то увидел окровавленное лицо отца. Этот человек, Топалович этот, подошел в темноте к нему сзади и поленом со всей силы огрел его по голове. Вот тебе, получай, вскричал человек-тень, будешь в моем же доме с меня деньги требовать. Вслед за ударами на него посыпался град унизительных оскорблений. Мама плакала, а у меня в груди что-то оборвалось, ничего страшнее я в своей жизни не видел. Отец с разбитой в кровь головой, мамин плач, его стоны, тоже, плач, и удивленные вопросы: что случилось, что случилось? Лошади, очумевшие от испуга, понесли телегу по проселочной дороге куда-то в ночь. И мы втроем остались стоять там, совершенно обессилевшие, в чужом краю, у мрачного дома, в котором исчезла эта тень. Затем побрели по глухой деревне в поисках повозки и лошадей. Долгие годы эта сцена неотступно стояла у меня перед глазами, я просыпался и хотел вырасти сильным, чтобы заступиться за отца перед этим чудовищным насилием. Не знаю, что стало с деньгами за этих лошадей, дома мы никогда больше не говорили об этом, помню только, как поутру над горами уже занимался рассвет, какой-то крестьянин держал под уздцы лошадей и смотрел, как мы усаживаемся в повозку, всю ночь на обратном пути мы то и дело останавливались, и мама делала отцу повязки из своей белой кофточки.
Вероника смотрела в потолок.
Жуть какая, заметила она спустя некоторое время. А потом снова расплакалась. Бедный мой, бедный мой, повторяла она. Что тебе пришлось пережить, и потом ты поступаешь в эту школу для офицеров. Может быть, именно из-за этого. Нет, не из-за этого, ничего подобного я никому не мог бы сделать. У нас любой парень хочет поступать в военное училище, это никак не связано с тем случаем. Возможно, как раз из-за этого, повторяла она, обещай мне, промолвила она, что ты никогда никому не сделаешь ничего ужасного. Этого я не мог бы пообещать, я же сказал, что нет, представить себе не могу, чтобы я что-нибудь в этом роде учинил. Кроме одного человека, Топаловича, лица которого я никогда не видел и о котором больше никогда не слышал, ему бы я устроил.
И устраивал. Да еще чего похуже, до того, как оказаться в Пальманове. Не то что людей, коня своего застрелил, Вранца, которого она так любила. Но на то она и была война, война, война, с которой я вернулся с одним только ранением, без одного зуба, мне странным образом повезло.
Еще раньше, до того, как мы прибыли в Пальманову, всю зиму и весну сорок пятого мы стояли тогда на словенских высокогорных плато против девятого корпуса Тито, то мы их, то они нас. Мне везло все эти годы. А это ерунда, небольшое пустяковое ранение. Боже ж ты мой, какие ранения мне довелось видеть. Мертвецы, позеленевшие покойники из боснийских деревень, хоронить которых ни у кого руки не доходили. Да, и павшие лошади, дорогая моя Вероника, которых мы гнали в атаку под прицельным огнем партизанских минометов, не под бомбы, Вероника, под минометные снаряды, разрывавшие в клочья брюхо лошади, отрывая ноги наездникам. Тем самым, которых я научил ездить верхом, снимать винтовку на всем скаку, ретироваться, стрелять, шашку наголо, какие мы были безголовые, прямо на пулеметные гнезда неслись на скаку и пели: вперед, братушки четники, бой страшный впереди, нонсенс еще хорошо сказано, мы все обезумели. Ожесточились. Они и мы. У раненых и пленных не было шансов выжить. Ни у наших, ни у тех. Убьем. Прикончим всех, кто не с нами, мы и такое пели. Это непередаваемо по-словенски, по-словенски говорят: зарезал его как свинью. Так сказал один пленный партизан, когда мы спросили, что случилось с капитаном Вукмирицей, попавшим несколько дней назад им в руки. С Вукмирицей? переспросил он. С этим четником? Он смотрел на нас испуганно, салаженок еще был, крестьянский паренек, и он знал, что в живых ему не остаться, из наших рук никому не удавалось уйти живым, зарезал его как свинью, только это и сказал, прежде чем такой же юный шумадиец из моего отряда не прошил ему живот автоматной очередью.
На все это и еще на многое другое насмотрелись мои глаза, разглядывающие сейчас в зеркале небритое лицо и поседевшие волосы на голове. Посеребренные виски – это из-за войны. Возможно, они появились в тот день, когда я должен был пристрелить Вранца. У него были сломаны обе передние ноги, он смотрел на меня как человек, ты ведь знаешь, как лошади иногда могут смотреть, будто все понимают. Я знаю доподлинно, где это случилось. Про многих товарищей я не мог бы вспомнить, где они пали и умерли, а про Вранца я бы в точности показал двор, где оборвалась его военная стезя и годы жизни со мной. В деревне Удбина в Лике, может, и впрямь, нам доведется вернуться, тогда я бы отправился туда, чтобы вспомнить еще раз, как все это было. Сейчас я пытаюсь забыться, хотя каждую ночь у меня стучат в голове барабанным боем выстрелы, женский плач и крик детей, стук лошадиных копыт, горящих балок, падающих на дома заодно с крышей. Вранца же я не забуду, уверен, что и ты частенько о нем вспоминаешь, Вероника. Я нашел другого гнедого коня, его я тоже назвал Вранцем, там, за оградой он носится на свободе вместе с другими офицерскими лошадьми. Ты ведь этого хотела, да? Чтобы кони не стояли в конюшнях, а носились на воле. Молодой и шустрый, но пугливый, ему пришлось пережить больше, нежели другим за всю жизнь, хоть они и таскают за собой кесаревы кареты или выступают за деньги на потеху публике, которая толпится вокруг манежа. Вчера ночью я слышал, как он заржал, я подумал, что это он тебя узнал, ну куда ему узнать тебя? Тот, кто мог тебя узнать, вздрогнул и остался лежать на деревенском дворе в Лике. Я так подумал, потому что сам по-прежнему часто думаю о тебе, Вероника. С тех пор, как ты ушла, не прошло и дня, чтобы я не вспомнил о тебе, если не чаще, ночью, спустившейся на боснийские горы или в крестьянской избе в Лике, на холодной Соче или в лагере для военнопленных здесь в Пальманове. Лошадь знает, о чем думает ее седок, так часто она становится его вторым я. Или же он очнулся, потому что проснулся я, увидев тебя как живую, как живую, идущую между нарами офицерского барака прямо ко мне.








