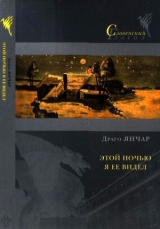
Текст книги "Этой ночью я ее видел"
Автор книги: Драго Янчар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Никогда еще мне не было так страшно, как в эти три дня и три ночи в краньской тюрьме. Я ждал, что меня вызовут и спросят, что мне известно о Янко Крале, и кто была та женщина, что ночью стучалась ко мне в окно. Кто мой связной. Я думал о начальнике вокзала, поднимавшем палочку на железнодорожном вокзале. Один рассказывал, что они ставят человека к стенке, потом в обмен на жизнь дают ему подписать заявление, что он будет с ними сотрудничать. Вот и ходи потом по миру как иуда, заметил другой. Я был решительно настроен, что не скажу ничего, но человек не знает порога своего терпения. Страшным шепотом между нами передавались слухи о пытках, побоях бычьей плетью, которая разрывает кожу и ломает кости, о выдирании ногтей и ударах по ступням. И шепот был не нужен, мы своими глазами могли видеть некоторых из этих несчастных, которых принесли обратно в подвал. Затем снова разнеслась новость, что нас всех расстреляют из-за убийства немецкого офицера, всех без разбору. Стоя у стены, я видел свое имя на плакате, наклеенном на стену железнодорожного вокзала, Иван Йеранек, крестьянин, Поселье, дядя Штефан его прочтет первым и сообщит моим домашним, я прощался с матерью и отцом, Пепцей, добрыми людьми в Подгорном, с живностью и деревьями, старой грушей и лозой, лесами над деревней, коровами в загоне.
На третий день один парень из Гореньи Васи, на вид мне знакомый, крикнул: смотри, Валлнер. Он пристроился на скамейке у подвального окна и смотрел на улицу. Я подошел к нему и увидел на дворе человека в черной форме и в надраенных сапогах, который с кем-то разговаривал. Это Валлнер, шепнул парень, гестаповец. Попадешься ему в руки, считай, труп. Мое же внимание привлек другой, он был в расстегнутом белом больничном халате, под которым была военная форма.
Этого я знаю, сказал я.
Валлнера?
Нет, того доктора. Он в Подгорном бывает.
Сволочь, сказал парень из Гореньи Васи, все они одним миром мазаны.
Валлнер показал рукой на окно нашего подвала, доктор тоже обернулся, мы оба отскочили.
После обеда меня отпустили. Мне чертовски повезло. Ни на одном допросе я не был. В тот подвал вошел словенец в немецкой форме и выкрикнул: Иван Йеранек. Я поднялся, ноги мои так отяжелели, словно на них были гири. Пошли, сказал он. Медленно я поплелся за ним, меня провожали сочувственные взгляды. Однако, уже в коридоре, закрыв за собой дверь, он произнес, повезло тебе, Йеранек. Ты свободен. У меня отлегло, будто я тащил балку, которая там же и свалилась на землю. Ну, если по уму рассудить, отпустили меня правильно, ведь, собственно говоря, что я такого сделал, кроме как рассказал, что они собираются купить новый рояль. А ведь и меня могли бы задержать, раз им нужны были заложники, долго не разбирались, кто виноват, то бишь, кто замешан, а кто нет. Мне жутко повезло. Я был не один, еще нескольких отпустили. Одних из нас отпустили, а некоторых расстреляли. Я чуть ли не летел на вокзал, где битых два часа прождал поезда из Любляны, дрожа от ноябрьской промозглости, от холода и счастья, что вырвался. Нескольких из того подвала расстреляли, в том числе и того парня из Гореньи Васи, с которым мы выглядывали из подвального окна на двор, где стояли Валлнер и тот доктор, который бывал в поместье. Их имена мы обнаружили на красных плакатах со зловещим названием Bekanntmachung, которые развешивали по городу и по деревням, один такой висел и у нас на вокзале.
Домой я вернулся, едва держась на ногах. Несколько дней ни с кем не разговаривал. Счастлив был, что остался жив, и напуган до смерти. Они ведь того и добивались, чтобы те, кто выбрался, были настолько напуганы, чтобы им и в голову не пришло сотрудничать с бандитами, как наших называли немцы.
Через некоторое время я опять начал ходить в Подгорное, за мной послала Йожи, экономка господская, которая там за всем смотрела – что будут есть, что будут пить, что на огороде расти будет и на полях – за старой хозяйкой ходила, смотрела за кухней и горничными, в саду работала, а также во все совала свой нос. Она сказала, что хозяйка очень нуждается в моей помощи, ведь, никто так не умеет ухаживать за лошадьми, как я. Не без некоторых колебаний я отправился туда лишь к полудню. Пусть не думают, что я но первому их зову примчусь, как холоп какой-нибудь.
И правда, Вероника была со мной приветлива, как никогда раньше. Куда это вы у нас запропастились, Иван? спросила она. Пригласила меня в дом. Я впервые вошел через парадный вход, через который входили господа и их гости. До сих пор я всегда ходил через черный ход, в кухню и в комнату рядом, где нас, работников, кормили. И в охотничьей комнате в подвале я тоже уже бывал, посреди чучел голов оленей и кабанов. Как-то раз нас туда после охоты позвал хозяин Лео. Теперь вот она, Вероника, пригласила в столовую. Мы сели за стол, Йожи подала бутылку вина, и Вероника сама налила мне бокал. Только мне, сама она откусывала какое-то печенье. В рабочей одежде мне неловко было сидеть за тем столом. Она сказала, что скучала по мне, никто не умеет так обращаться с лошадьми, как я. Показала мне написанные маслом картины, висевшие на стене, на одной из них была изображена она, это несколько лет назад, пояснила она, когда я была еще молодая.
Да вы и сейчас еще, сказал я, заглянув ей в глаза.
Она не отвела глаз. От теплоты ее взгляда, проникавшего в самую глубину моего сердца, оно готово было выскочить из груди. Потом она улыбнулась, ну какой же вы милый, Иван, промолвила она и повернулась к дверям. Да, а когда же свадьба? вдруг спросила она. Пока еще не знаем, ответил я, наверное, скоро. Только мне вовремя скажите, чтобы я нашла какую-нибудь вещицу, синий цвет она любит, вы сказали, светлый или темный? Она проводила меня, в прихожей в полутьме я разглядел странную зверину, чучело. Это аллигаторчик, заметила она. Моя зверюшка. Когда я была еще в Любляне, мы ее купили. Потом она покусала Лео, и мы вынуждены были отдать ее ветеринару, чтобы тот ее усыпил. Я долго рассматривал эту зверину. И долго еще сердце мое билось не из-за зверюги, а из-за ее близости и приветливости. И все-таки она была не так любезна, как в то воскресенье с Янко. И не так, как со своими гостями, когда брала их под руку и вела в дом.
До сих пор не знаю, известно ли ей было, что я был одним из тех, кого согнали в краньской тюрьме, или она на самом деле соскучилась по мне. Ясное дело, как по работнику, по моим золотым рукам, которые умеют все, а более всего ухаживать за ее лошадками, когда они возвращаются после прогулки по снегу.
Несмотря на ее радушное гостеприимство, после всего я стал относиться к гостям поместья по-иному. Своими ушами мне довелось услышать в гестаповской камере, что делают с нашими людьми эти офицеры, которых никто не звал на нашу землю. Своими глазами видел я избитых, которых швыряли к нам, как бревна. И вот этих офицеров господа из поместья приглашают к себе в Подгорное, угощают их ужином, а иногда вместе с Лео отправляются к охотничьему домику, чтобы подстрелить какую-нибудь серну. Точно так же, как у тюремной стенки шлепнуть кого-нибудь из наших. Собственными глазами я видел Валлнера и доктора, который бывал в поместье. Смотрели они на мокрую стену, на которую я смотрел, уже прощаясь с домочадцами, с лесами и полями, со всем. Для меня это были уже не просто гости, я решил, что буду записывать номера автомобилей и имена, и с этим пойду к дяде Штефану на вокзал.
Однако жизнь шла своим чередом, дома было полно работы, да я еще и в Подгорное поместье ходил. Домой возвращался под вечер, падая от усталости, и слушал, как отец читает «Словенский дом» и рассказывает нам о том, что происходит в мире. А чему было происходить – кругом шла война, в Африке и в России. Иногда писали о бандах коммунистов в наших краях. Еще больше об этом перешептывались. Застрелили хозяина корчмы из Гореньи Васи. Дядя Штефан сунул мне в руки листовку Освободительного Фронта, где было написано, что хозяин корчмы был предан возмездию за предательство и пособничество оккупантам. Написано было, что недалек тот день свободы, когда такая же участь постигнет всех прихвостней оккупантов. По возрасту я уже подлежал мобилизации, потому что немцы стали призывать все более молодых, и частенько я задумывался о том, чтобы поступить так же, как многие ребята из наших мест. Получив повестку, вместо того, чтобы явиться на призывной пункт, подавались в леса и присоединялись к нашим. Бабушка еще надвое сказала, что тяжелее, русский фронт или скрываться в лесах, которые прочесывали полицаи. Много раз я думал про Янко, цел ли он еще, и появится ли однажды ночью у дверей в своей кожанке с красной звездой на кокарде. Теперь я почти уже желал, чтобы он появился, все встало бы на свои места. Та незнакомка больше не объявлялась. Только начальник вокзала по-прежнему стоял на перроне со своим жезлом подмышкой, отправляя поезда с пассажирами. Когда мимо мчались длинные составы, груженные пушками и танками, он только выходил, приставлял руку к фуражке, приветствуя машиниста и кочегара. Однажды вечером я повстречал его в деревне, он сделал мне знак бровями, как будто собирался о чем-то спросить.
На явку я отправился в августе сорок третьего, незадолго до капитуляции Италии.
Это было в то самое утро, когда я встретил у пруда Веронику с ее… ухажером.
Встав засветло, я отправился в Подгорное. Предстоял последний большой покос, который называется у нас последышем, и тогда немного дергаешься, за короткое время надо переделать все, чтобы твой труд ненароком не пропал из-за какого-нибудь внезапного ненастья. За день до этого мы покосили, а наутро нужно было с первым же жарким солнцем переворошить траву. После обеда я собирался этим заняться неподалеку от тутошней луговины в лесной низине. Утро выдалось – загляденье, ни единого облачка на небе, все шло к тому, что день пройдет без нервотрепки, а дождь не пустит все наши труды сенокоса насмарку, и все благополучно закончится. Настроение посему было славное, хотя всю дорогу я напряженно думал о том, хватит ли помощников, и как я все разложу по времени, чтобы успеть управиться с обоих краев. Насвистывая, я направился к сеннику и достал снизу инструменты, потом полез наверх, чтобы подготовить место для сена, которое вскоре должны разложить наверху.
Выходя, я заметил их.
Ее, Веронику. И его, немецкого офицера. Они стояли у воды, и он держал ее за руки. Она повернулась, глядя ему прямо в глаза. Так же, как смотрела на меня у них в столовой. В тот раз, когда ее взгляд пробрал меня до самого нутра, где-то там так разбередил душу, что сердце рвалось из груди. Вот и теперь меня схватило, сердце колотилось в груди, словно бубен, а оттуда ударило в голову, я чувствовал, что виски мои раскалываются. Вот оно, значит, что это за гости. Вчера вечером к поместью съезжались автомобили, а ночью разъехались, ни одного больше не осталось ни перед поместьем, ни на дороге. Значит, немец ночевал в поместье Зарников. С ней? Его женой? Наверняка, она его назад повезет. И где только ее муж? Скорее всего, в Любляне. Я подумал, что надо бы ему сказать, что творится у него в доме. Я залез по лестнице на сеновал, устроившись на деревянном настиле. Я был просто вне себя от такого прозрения. Меня слегка знобило. Все было понятно. Мало того, что она готова была кататься с Янко на мотоцикле и мириться с тем, что он касается ее тела. После долгой ночи, которую она провела с каким-то немцем, она еще и прогуливается с ним ни свет, ни заря возле пруда.
Потаскуха, произнес я почти вслух, шлюха немецкая.
Я тихо прокрался к деревянной стене и через щель наблюдал за ними. Теперь они прохаживались у воды, повернувшись в мою сторону. Я отчетливо видел его лицо. Это был он, доктор, который по любому поводу ошивался в поместье. Выпивал с Лео в охотничьей комнате. Приносил цветы и бутылки вина. Это был он, в расстегнутом больничном халате стоял на дворе гестаповской тюрьмы в Крани, беседуя с Валлнером. Кто попадался тому в руки, этому Валлнеру в начищенных сапогах, тот – труп, говорил парень из Гореньи Васи. Мой гнев нарастал: да она не просто немецкая, она гестаповская шлюха.
До обеда я складывал сено копнами. Я поглядывал в сторону поместья, ведь иногда во время покоса или скирдования сена она приходила и приносила поесть, воду и выпивку. Воду – чтобы утолить жажду, выпивку для подкрепления сил. На этот раз ее не было. Естественно, после такой-то ночи. Пришла Йожи. Я спросил, кто этот дохтур, что ходит в поместье. Ах, ответила она, это один добрейший человек. Он бывал на русском фронте, я подумал про себя, жаль, его там не прикончили. Я спросил, как его зовут. Хорст Хубмайер, он – баварец. Теперь мне все было известно.
Дядя Штефан сидел в своей конторе, склонившись над какими-то бумагами, сообщая кому-то по телефону о товарном составе, который только что промчался мимо. Он поднял глаза и подал мне знак подождать, пока он не закончит. Потом положил трубку, без слов ожидая, что я ему скажу. Я рассказал, что видел. Да ну, ничего особенного. Как это, ничего особенного? взвинтился я. Этот офицер, Хорст Хубмайер, этот баварец, гитлеровец, который связан с гестапо. Я видел во дворе тюрьмы, как он разговаривал с Валлнером. Валлнер было тем словом, которое заставило его подняться. Он встал и начал ходить туда-сюда. Ты уверен? спросил он. Абсолютно, ответил я. Я сообщу дальше, произнес он. А ты держи язык за зубами, понял? Не беспокойтесь, ответил я решительно, я понимаю, о чем речь. Я точно не знал, в чем дело, но в чем-то было, это я понял потому, как, услышав про Валлнера, начальник встал и принялся ходить по помещению. Я уже собрался уходить, как мне в голову пришла мысль. Мне надо поговорить с Янко, сказал я. Это будет сложно, ответил станционный смотритель, он в батальоне.
Мне бы тоже туда, произнес я.
Некоторое время он смотрел на меня. Ты бы подался в леса? Да, ответил я, как можно скорей. Хорошо, произнес он, ступай домой и делай вид, что ничего не случилось. И в поместье Зарников сходи. Придет время, наши тебя найдут. Зазвонил телефон, он снял трубку. Теперь ступай, поезд прибывает. Вот еще что, сказал я. Он взял фуражку и жезл и вышел на перрон. Я вышел следом за ним. Вы его ликвидируете, Хубмайера? Издалека послышался звук локомотива, поезд приближался. Ну, это не мое дело, произнес он тихо, немного раздраженно, ему хотелось избавиться от меня. Поезд, лязгая, остановился. Несколько запоздавших пассажиров вышли в то время как мы разговаривали. На выходе с перрона я заметил, как он беседовал с машинистом. Затем, отступив несколько шагов назад, поднял сигнальный жезл с круглой пластинкой наверху, свою знаменитую ракетку, на которую я любовался все детство. Он не был дядей Штефаном, это был всемогущий человек, принимавший решения о прибытии и отходах поездов, в чьей власти огромный паровоз и все составы тяжелых вагонов для него. Локомотив запыхтел, колеса заскользили по рельсам и завертелись, поезд тронулся. Все быстрее, я видел, как он вместе со светящимися окнами удаляется во мраке, скрылся за поворотом, а затем снова показался за пригорком и теперь уже мчался, я слышал, как рельсы гудят, а поезд мчался, как будто его ничто больше не в силах остановить. Он промчался в сторону Вероники и через нее.
В январе сорок четвертого я снова оказался в поместье. В старой австрийской шинели, которую взял у отца, с итальянским карабином, который мне дал Янко.
Стояла морозная зима, стоянка отряда была повыше охотничьего домика Зарников. Для операции в поместье Зарников батальонный комиссар Костя отобрал нас двадцать человек. Десять должны стоять на охране на подступах и в засаде. Командовать обороной будет командир Янко, остальные десять пойдут с Костей и решат там все, что нужно. Цель операции: пресечь связь здешних предателей с оккупационным центром. Раскрыть сеть информаторов. Произведена будет также реквизиция. Большего нам знать не полагалось, остальное было известно Косте и двум особистам, которые к нам присоединились, одного звали Петер. Всем нам известно, что промышленник Зарник угнетает трудящихся, эксплуатирует своих рабочих на фабрике, взял слово Петер, теперь нам стало известно, что он – вражеский агент. Это мы установили в результате тщательного сбора данных. У нас свои люди среди прислуги. Наш информатор, продолжал Петер, уже в конце августа сообщил нам, что его жена встречается с гестаповцем Хубмайером.
Он посмотрел на меня. Мне показалось, что все оглянулись в мою сторону. Но они не смотрели. Я перевел дух. Этого Петера я еще никогда не видел, а он уже знал, что я их информатор. Наши силы действовали в обстановке секретности, лишь ему было известно, что эти сведения добыл я, может еще Янко, однако, Янко мне об этом никогда не рассказывал, ни тогда, ни потом. Это у нас называлось конспирацией. Мы не знали друг о друге, но руководству было известно все, в том числе и особистам. Это были специфические люди, опасные, когда они появились в батальоне, возникло неприятное ощущение. Постоянно кого-нибудь из нас подозревали. Милана особисты раскрыли, допросили и ликвидировали, перед всем отрядом он заявлял, что любит нас. Перед тем, как мы его забили, потому как нельзя было стрелять. У меня слегка мороз по коже прошел, слушая чеканную речь особистского офицера Петера: по ней выходило, что каким-то образом я поспособствовал начать эту операцию. Теперь я вдруг стал их, особистским осведомителем. Стукачом. Der größte Schuft, Denunziant[16]. Докладывая Штефану, я думал, обойдутся без меня, что бы там ни случилось. С Хубмайером. А про Веронику, о том, что ей может что-то угрожать, мне и в голову не приходило. Если я вообще о чем-то думал, обозленный на доктора, на Веронику, на всех. Теперь мне хотелось возразить, что Хубмайер все-таки не гестаповец, и что я этого дяде Штефану не говорил, я сказал, что он мобилизованный врач, который был на русском фронте. Гестаповцем был Валлнер, правда только то, что они разговаривали друг с другом. Притом на тюремном дворе.
С гестаповцем Хубмайером, продолжал товарищ Петер, который уже уничтожал наших братьев-славян в России, мы только догадываться можем, о чем его любовница ему нашептывала в постели. Бойцы захохотали. Он – агент, заключил Костя, а она – гестаповская подстилка. Допросим их и посмотрим, что эти два предателя словенского народа выдали оккупантам. Я уже было собирался подойти к Янко, хотел ему сказать, что мне лучше не ходить, ведь там меня все знают. Однако это могли истолковать как страх перед операцией, а может, даже как сочувствие к предателям и гестаповским агентам. Петер сказал, что они провели расследование, а моя информация про Хубмайера не могла иметь решающего значения. Этой мыслью я утешал себя и потом, когда мы спускались по лесистому склону по глубокому снегу. Я сказал Янко, что лучше останусь в отделении, которое будет стоять на охране. Ладно, сказал Янко, пойдешь со мной. Комиссар Костя, слышавший это, засмеялся: не тянет тебя зайти к своим господам, да? Я лучше буду на страже, сухо ответил я. Мы оба знали, что так есть, я и рядом не хотел быть, по крайней мере, для меня они были неплохими людьми, а в чем вообще их вина, я не знал. И по сей день не знаю. Это известно Петеру и Косте, может, и Янко тоже знал. Он, возможно, понимал, я только не хотел того, чтобы бойцы видели мою слабость или жалость к врагу. Если бы ко мне хозяйка или сам хозяин обратился, я, скорее всего, не смог бы оттолкнуть их, чтобы они отстали от меня, потому что они не были плохими людьми, по крайней мере, по отношению ко мне, а что они сделали словенскому народу и трудовому люду, это другое дело, комиссар это хорошо знает.
Так я оказался у Подгорного поместья. Никогда и представить себе не мог, что когда-нибудь буду стоять там у входа с оружием. Наши зашли в дом, раздавались громкие голоса и команды, топот шагов по деревянным ступенькам, вопросы испуганных горничных и другой прислуги, которую согнали в кухне. Потом наверху зажегся свет и снова погас. Вскоре все успокоилось, воцарилась тишина, отдельные голоса доносились из погреба, где наши дорвались до колбас и сыра, а также вина. Я узнал об этом потому, что на дворе оказалась Йожи, не понял, вышла ли она, чтобы поискать помощь или просто так, как заблудшая гусыня в страхе ходила кругами. Я наставил на нее оружие, ни с места, сказал я. Она же посмотрела на меня, раскрыв глаза, и запричитала: да ведь это же ты, Иван! Она распсиховалась, хотела знать, что происходит. Потом сбивчиво стала просить, чтобы я зашел и все объяснил, что она и мне вынесет колбасы, сыра и вина, а потом почти что завопила: вы ведь им ничего не сделаете! Я перепугался, а ну, как ее кто-нибудь услышит, я был на посту, а это, шутка ли сказать, какая ответственность, ну и прикрикнул на нее, чтоб убиралась, чтоб в момент сгинула туда, откуда пришла.
Она что-то промямлила, побежала назад, споткнулась и упала в снег, а потом исчезла в доме.
После этой выходки время начало тянуться. Я закоченел на снегу, не только от холода, но и потому, что хотелось, чтобы все это вместе закончилось, и мы бы ушли отсюда, с места, где мне был знаком каждый куст, парадный вход, забор, лошади внизу в конюшне. И все те, кто был сейчас заперт в доме. Я не знал, что с ними собираются сделать. Может, допросят Зарника, а, может, какие-то документы будут искать. Я надеялся, что они не станут слишком уж сильно запугивать Веронику. Как бы то ни было, я ей этого не желал, хоть и был зол на нее, особенно после того утра, когда я видел ее у пруда. Я поглядывал вниз на дорогу, где в засаде был Янко с несколькими бойцами. Мне казалось, что в любой момент может послышаться рев немецких машин. Или ни с того, ни с сего раздадутся хлопки, так бывало довольно часто, то тишина, то ни с того, ни с сего выстрелы. Потом бегство. А иногда бой, но в этом случае последовало бы бегство. Мы располагались в долине, и здесь не смогли бы принять бой. Из дома снова донесся топот шагов на лестнице и в коридоре, время от времени громкие команды, плач и громкий женский голос, мне показалось, я узнал его, это была кухарка Фани. Затем стали гасить свет, как будто фасад большого дома закрывал глаза, одно за другим. Через несколько минут все здание погрузилось в темноту.
Только в одном окне горел свет, его, очевидно, забыли погасить.
В дверях показались наши с набитыми рюкзаками. Часть сложили на снегу, мне было известно, что они достанутся часовым. Я перевел дух, операция подходила к концу. Вздохнул я еще и оттого, что решил, что дело ограничится только реквизицией, но в этот момент в дверях показались господа, оба, Вероника и Лео, следом за ними вышел комиссар Костя. Одеты они были по-зимнему, на ногах горные ботинки. У нее на голове шерстяная шапочка. Хотя дом окунулся во мрак, я отчетливо разглядел ее лицо в отблесках лунного света. Она смотрела прямо перед собой, и я боялся, как бы она не подняла на голову и не взглянула мне в глаза. Признаюсь, сердце мое сжалось. Теперь до меня дошло, что они отправятся с нами, а это не могло хорошо закончиться. Лео глянул в мою сторону, я ретировался в тень от забора. Ночь выдалась ясная, словно серебристая. Все молчали. Как я хотел сквозь землю провалиться, чтобы меня тут не было. Если бы только несколько часов назад я сказался Янко, то мог бы остаться в батальоне, и все это свершилось бы без меня. Но я не остался, и все произошло при мне. Кто-то опрометью спустился вниз по дороге, и мы ждали, когда он приведет часовых, чтобы всем вместе двинуться в гору.
Тут из поместья послышалось пение.
Это и впрямь было очень странно, такое с трудом забудешь. Все мы стояли молчком во дворе в ожидании, комиссар Костя прохаживался туда-сюда, поглядывая на часы, Вероника от холода, а скорее от страха, дрожала. Лео обнял ее за плечи и рукой, одетой в рукавицу, погладил по спине, стараясь согреть. Она перестала дрожать, с благодарностью и вместе с тем с испугом посмотрев на него. И тут-то, в тишине за закрытыми окнами и послышалось пение. Все посмотрели на окно наверху, в котором горел свет. Это был женский голос, монотонно напевавший какую-то песню, никаких слов нельзя было разобрать, лишь однообразное повторение незнакомой мелодии. Только тут я вспомнил, что это окно старой хозяйки. Я часто видел ее сидящей там летними днями, с тех пор, как она перестала ходить, сидела у окна, порой напевая что-то тихонько или разговаривая с кем-нибудь, кто оказывался в комнате. Я заметил, что Вероника подняла руку к глазам, снова вздрагивая, а может быть, заплакав. Костя пришел в ярость, позвал одного бойца и послал его в дом. В этот момент во двор уже стекались бойцы из засады во главе с Янко. Боец, направившийся было наверх, остановился, Костя раздраженно махнул рукой, брось это. Взвалив оставшиеся рюкзаки на плечи, мы быстро двинулись в сторону леса.
Мне до сих пор чудится, что я слышу пение старой хозяйки. Ее дочь задержана, стоит во дворе, готовая отправиться в дорогу, а она там напевает себе, как будто ничего не подозревает или немного не в себе. Дико было все это вместе слышать, настолько это было странно.
Потом я еще несколько раз ее видел. И снова у окна. Это было в Любляне в мае сорок пятого, в тот день выступал Маршал. Все наши собирались на одной улице на окраине, кажется, где-то в Мостах, город большой, я плохо его знаю. Когда колонна с духовым оркестром и транспарантами двинулась, я окинул взглядом окна, откуда нам махали восторженные горожане. У одного открытого окна старенького дома с осыпающейся штукатуркой сидела старая хозяйка. Я присмотрелся повнимательней, только на ее окне не было украшений из майских цветов и транспарантов. Я едва узнал ее, теперь она, на самом деле, выглядела старой, настоящая старуха с растрепанными и немытыми волосами. Она тоже посмотрела на меня, потому что я остановился. Я, было, поднял руку, чтобы помахать ей, и тут же опустил – никакого смысла. Я не стал интересоваться, что она здесь делает, мы были полны жизни, веселы, играл духовой оркестр, мы направлялись на площадь, где держал речь Маршал. Жизнь идет вперед, а кто-то остается позади.
Мы построились в колонну и стали, вгрызаясь в снег, подниматься на заснеженную гору. Узкая тропка была протоптана, потому как прошлую ночь мы заночевали в охотничьем домике и днем были там, а вечером, проваливаясь в глубокий снег, спустились к поместью. По этой же дорожке мы возвращались, после часу хода мы опять остановились у охотничьего домика Зарника. Так как я уже был в карауле внизу, Янко меня никуда не определил. Часовые были расставлены только понизу, наверху никого не было, туда мы обычно отходили, когда располагались на отдых в домике, перекусывали или гоняли вшей, а в теплое время даже устраивали постирушку в ближайшем ручье в глубине леса. Комиссар Костя и особист Петер с несколькими своими вошли с господскими в домик, Янко, я и еще один из Приморья остались на улице.
Я стоял в нескольких метрах поодаль от охотничьего домика. Мне было слышно каждое слово. Сначала допрашивали того конюха, которого мы нашли вечером на кухне в поместье. Особисты решили, что он и был связным между Зарником и гестапо в Крани. Кто-то велел ему вывернуть все карманы и опростать рюкзак. Послышался звон падающих на стол предметов, какие-то металлические скобы или что-то в этом роде, монеты. Потом некоторое время стало тихо. Ничего нет, сказал кто-то. Затем дело в свои руки взял Костя. Что он делал в поместье? Кто его послал? Как давно они знакомы с Зарником? Тот отвечал, заикаясь, что пришел из-за поранившегося коня, и они говорили о покупке нового, то есть о продаже. Зарник подтвердил. Признавайся, что ты связной, надрывался Костя. Какой такой связной? Человек застонал, мгновение спустя последовала пощечина. За ней еще одна. Связной с гестапо. Последовал тупой удар. Послышались его всхлипывания и стоны. Смотри, он обмочился. Да хоть обделайся, произнес особист, тебе ничто не поможет. Оставь его, Петер, сказал Костя. Затем Зарник что-то долго объяснял насчет лошадей. Он рассказал, как Вероника любит лошадей, и что она потеряла покой, когда одна из них сломала ногу, ее придется пристрелить, поэтому сразу послали за этим господином, чтобы он посоветовал им другую лошадь, может липициана. Долго еще он будет лапшу вешать про лошадей? произнес особист Петер. Кончай трепаться про лошадей, а лучше расскажи о своих связях с гестапо. Зарник тихим и твердым голосом, как он всегда разговаривал, когда раздавал указания насчет новых работ, сказал, что надеется, что они не забыли о продуктах, которые он доставлял им в охотничий домик, одежду и печатный станок, который он с трудом втайне купил, и они его год назад получили у него во дворе. Это был ловкий ход, сказал Костя, достал нам печатный станок, чтобы легче было прикрывать сотрудничество с гестапо. Мы помним, сказал Петер, как в тот вечер в поместье пришел тот самый гестаповец Хубмайер, видя, что происходит, притворился, что ничего не заметил. Это значит, что он был в курсе сговора.
В эту минуту вмешалась Вероника. Господин Петер, сказала она, господин Хорст Хубмайер никакой не гестаповец, он – врач. На несколько минут воцарилась тишина. Мне показалось смелостью, что она в этот момент вступила в разговор. Ведь ее ни в чем не обвиняли. Очевидно, она хотела защитить своего мужа, это было более, чем ясно. И тишину, которая наступила в результате этих слов, она хотела использовать, чтобы как-то разрядить напряженность. Вас зовут Петер? продолжала она нежным голосом, и я прямо представил ее себе, как она при этом мило улыбается. Ее улыбка и ее приятный голос действовали обезоруживающе. И моего отца тоже звали Петер, тихо произнесла она. Я вспомнил, как иногда, когда я разговаривал с ней, от этого голоса и улыбки у меня подкашивались колени. От теплоты, которая исходила от этой женщины, от ее женского обаяния. Шлюха гестаповская, закричал Петер, что у меня общего с твоим отцом? Я подумала… сказала она. Раньше надо было думать, шлюха, когда с гестаповцами путалась… посыпались удары, на этот раз, очевидно, на нее, хоть она и не проронила ни звука. Наступила тишина, кто-то громко сопел. Давайте, произнес затем Костя, немного по порядку. Мы обо всем поговорим, времени у нас много, до самого утра. Ты, произнес он, обращаясь к кому-то, поднимайся. Береги своих копытных. Очевидно, это адресовалось конюху. И если только слово пикнешь о том, где был, мы тебя найдем и шлепнем, как собаку. Петер добавил: ты ведь знаешь, мы любого достанем. Ни слова, клянусь, ни слова, заладил тот, всхлипывая как ребенок, никому ни слова. Открылась дверь, и человек с полными ужаса глазами выкатился на снег. Янко засмеялся. Ты чего, радуйся. Я рад, уж так рад, правда, рад, бормотал конюх. Янко повернулся ко мне. Проводи его вниз до дороги, а там дай ему хорошенького пинка под зад, чтоб шевелился.








