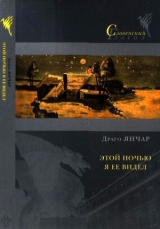
Текст книги "Этой ночью я ее видел"
Автор книги: Драго Янчар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Уж не наш ли это Иван? воскликнула она.
У нее было хорошее настроение, и она засмеялась.
С каких это пор вы ездите на мотоцикле, Йеранек?
Да это не я, несколько смущаясь, ответил я. Янко на нем ездит, я только прокатился.
Янко просто внаглую пялился на нее.
Я и вас могу немного прокатить, заметил он.
Вы бы меня прокатили? произнесла она, будто ее нимало не смутило его почти нахальное предложение. Это я вас могла бы прокатить, я умею водить.
Она умела водить автомобиль, говорили, что она умеет и пилотировать.
Давайте, сказал Янко, я еще не знавал женщины, которая бы умела на мотоцикле ездить.
Так еще узнаете, засмеялась она. Как-нибудь в другой раз. Сейчас мне пора обратно.
И она поскакала прочь по дороге через поле, а мы смотрели ей вслед.
Далеко в низине она повернула коня и направилась в гору, по дороге в Подгорное.
Янко был совершенно очарован.
Вот это баба, вздохнул он.
Затем он принялся громко смеяться.
Если бы она и правда меня прокатила, развязно воскликнул он, я бы ее вот так обхватил за талию.
Он встал позади меня и обхватил за пояс, вот так, добавил он, скользя ладонями по моей рубашке вверх, хватая меня за грудь, и вот так. Он приподнял меня в воздух, и я тоже начал тупо ржать.
Ты, лопух, произнес я, она не про тебя, она замужем.
Так замужние лучше всего скачут, загоготал Янко, и мы уселись на мотоцикл и помчались в деревню, поднимая за собой клубы пыли.
Иван, ты ни бельмеса не смыслишь, ты навсегда останешься холопом.
В тот раз я впервые осмелился подумать, что молодая хозяйка поместья как никак была женщиной, молодой и привлекательной женщиной. Хоть она и была старше меня, она все равно была интересней, чем все наши девчонки, с Пепцей вместе взятые. Пепцу я, естественно, любил; когда я провожал ее вечерами до дверей их дома, я еще долго ходил кругами, смотрел на звезды и думал о ней, о ее черных волосах, которые я мог потрогать, когда мы оставались наедине, о ее пружинистой походке и глазах, выискивающих меня в церкви, когда мы пели на хорах. Однажды священник, застукав нас на лужайке за церковью, когда я взял ее за руку, отчитал, что физическая близость до свадьбы непозволительна. Пепца засмеялась, священник тоже рассмеялся, потом серьезно добавил: первое назначение брака рождение и воспитание детей, и только вторичная цель взаимопомощь и плотские утехи. Возможно, он был прав, он был славным человеком, хорошо пел и хорошо говорил, может, хорошо бы было, если бы сегодня он проводил Янко из этого мира. Я большей частью терпеть не могу священнослужителей, хотя наш священник на самом деле не так уж и не прав был, Пепца мне потом и правда родила сына и была мне в большую помощь по жизни. Плотская любовь это нечто иное.
Вероника была совсем особенной, у нее не было детей, по поместью она ходила в брюках и рубашке с засученными рукавами. От нее исходила доброжелательность, и улыбалась она не как хозяйка, вечно талдычащая о делах, которые необходимо переделать, а как женщина, которая улыбается мужчине, в том числе и мне. Однажды вечером, когда мне пришлось задержаться в Подгорном в дровяном сарае по работе, которую мне хотелось закончить засветло, я увидал ее в шелковом платье. Она стояла у дверей, встречая гостей, приехавших из Любляны на машине. Увидев меня, прошла через двор ко мне и спросила, езжу ли я еще на мотоцикле. Я ответил, что нет, приятель уже долгое время не навещал родных. Как зовут этого мотоциклиста? Я ответил. От ее тела веяло духами и теплом.
Как-нибудь я покажу ему, что на самом деле умею ездить на мотоцикле, засмеялась она.
Потом она снова вернулась к своим гостям. Она была красивая и далекая, недоступная. Во мне тем вечером взыграла ревность, и я был зол на Янко. Неужели своей дерзостью он смог произвести на нее впечатление. Мне представилось, как он едет на мотоцикле и обнимает ее за талию. Он наверняка бы так сделал, как и все остальное, что он демонстрировал мне, кто бы сомневался. А я просто не посмел бы, потому навсегда останусь холопом, как говаривал Янко. Я был раздосадован на него. Да и на нее тоже. Этой ночью я видел ее во сне. И Янко тоже. Как они едут по прямой, среди полей, за ними поднимается облако пыли, Янко обхватил ее за пояс, ее светлые волосы волной струятся по его лицу, а он прижимается губами и что-то говорит ей на ухо.
До той встречи у распятия Иоанна Крестителя я никогда не думал о господских иначе, как о людях, которые добры к нам и хорошо платят. После я часто размышлял о том, как они живут, точнее говоря, как живет она в просторном поместье, в тех здоровенных хоромах со своим мужем и гостями, которые часто оставались до глубокой ночи. Из открытых окон иногда доносились звуки рояля, смех и пение. О ней поговаривали, что прежде чем оказаться в Подгорном, она жила с каким-то сербским офицером. Мне это не казалось чем-то особенным, так себе, сплетни про жизнь господ, которые живут по-своему, иначе, не так, как мы. Тем не менее, после того, как она перебросилась несколькими словами с Янко, а позднее даже расспрашивала о нем, у меня все встало на свои места, во мне начала зреть какая-то тихая злоба на Янко, на неизвестного сербского офицера, мысленно я ставил себя на место ее супруга, и от его имени иногда мог бросить ей резкое словцо. Ее муж был человеком выдержанным и спокойным, она должна была быть ему благодарна. А не говорить первому встречному на мотоцикле, что она его прокатит. Все во мне возмущалось и всякий раз, когда она ко мне обращалась, мне делалось неловко, будто она меня насквозь видела. Однажды после службы, иногда господские ходили к заутренней в храм Святого Якова, она представила меня своей матери, старой хозяйке. Тогда еще старая хозяйка ходила, это потом она расхворалась и только просиживала в комнатах, у себя наверху у окна.
Это наш Иван, сказала Вероника, у него золотые руки. Нет ничего, что бы он не умел делать. И поет отлично. Ты ведь его слышала.
Старая хозяйка спросила, я ли это пел на хорах. Я кивнул, не отрывая взгляда от своих ботинок.
Вы прекрасно пели, Йеранек, сказала эта старая хозяйка.
Золотой парень, произнесла молодая, Вероника.
Я ничего не ответил. Меня выводило из себя, что она не так говорит со мной – не так, как с Янко. Со своими гостями она шутит и поет за роялем, а со мной говорит, как с деревенщиной, который только и умеет, что махать косой по лугу и топором в лесу. И петь аллилуйю. Золотой парень и старательный, и руки у него золотые – и это все, что она могла сказать, говоря со мной. Все остальное были одни лишь поручения: вы не могли бы, Иван, починить дверь в хлеву? Поводите Вранца по кругу, чтобы он немного остыл. Тропинку возле ручья размыло потоком, придется изрядно с ней повозиться. А ведь могла бы и со мной хоть словечком обмолвиться. Я же не холоп какой, а будущий хозяин подворья. А ходил помогать, потому что мне так отец велел, да мне и самому нравилось, ну и из-за денег, которые мне каждую неделю платил ее муж, а не она. Я не был сельским увальнем, а состоял в кружке, где мы, парни и девчонки, читали и готовили постановки, однажды я сыграл священника, благословлявшего словенских парней перед сражением с турками. Дома у нас были просветительские книжки из Общества Св. Мохора мохорянки, и мы выписывали «Словенский дом»[14]. Мы могли бы с ней потолковать о том, что происходит в мире, о лошадях и о самолетах, если бы она захотела, я много читал и много знал. Ее снисходительный тон и эти ее улыбочки стали мне надоедать. Я начал избегать ее поручений. Всякий раз, когда я приходил в поместье, я шел к господину Лео, если тот был дома, и с ним договаривался о работе.
Как-то она попросила меня о чем-то для ее лошадей, я резко ответил, что с хозяином Лео мы уже договорились про лесные работы. Вранац скучает по тебе, произнесла она, ты лучше всех с ним обращаешься. Вороного коня, к которому она прикипела сердцем, звали Вранац, она ходила вокруг него кругами, то и дело лаская, Вранац то, Вранац се, что с человеком. Меня она никогда не удостаивала такого обхождения, как она холила эту лошадь. Как-то за обедом я разошелся по поводу этих телячьих нежностей с лошадью, а повариха Фани заметила, что, скорее всего, она так обращается с этим конем оттого, что у нее нет детей. Она все больше представлялась мне избалованной городской дамочкой, которая только рисуется, что обожает природу, и лошадей, и деревенскую жизнь. Своими засученными рукавами и простой рабочей одеждой, когда мы ворошили сено, она не могла меня больше провести. Скорее ей по душе были шелковые наряды и туфельки на каблуках, люблянские, а потом и немецкие поклонники, целовавшие ей ручки. Все с большим удовольствием я имел дело с ним, с Лео, когда тот был в поместье. Он был господином, не пытаясь, как она, держаться с нами запанибрата, сух и сдержан, никогда не старался быть чрезмерно любезным. Он говорил, вы это хорошо сделали, Иван, платил и до свиданья. Однажды после охоты позвал нас в охотничью комнату, мы закусили, а он произнес тост за удачную добычу. В его бокале была вода. Он и сам был такой, как вода, прозрачный, холодный и всегда немного отчужденный. Так же относился он и к ней, учтиво и покровительственно, что мне было особенно по вкусу. Когда однажды мы с утра рыли канаву для слива отходов из конюшни, он подошел и с удивлением взглянул. А, это она так наказала? Иногда моя жена дает маху, заметил он, мы это сделаем иначе. И мы еще раз переделали, по-другому. Он заплатил без звука, в том числе и за то, что делать не следовало.
Мне показалось, что Вероника через какое-то время заметила, что я избегаю ее поручений. Как-то она остановила меня на дворе и как ни в чем не бывало спросила: я слышала, что вы собираетесь жениться, Йеранек. Меня даже это уважительное выканье взбесило. С Янко она разговаривала как со старым знакомым, а ко мне относилась как к прислуге. Когда я ничего не ответил, она спросила, как зовут мою девушку. Я ответил, что ее зовут Йожица, а дома кличут Пепца. Она сказала, что подарит Пепце что-нибудь красивое на свадьбу. Она хотела знать, какой цвет ей больше всего к лицу. Я сказал, что не знаю, может быть, синий. Мне было неловко говорить об этих женских делах, да и достало, что она сверлила меня, смеющимися и одновременно грустными глазами, я поблагодарил и ушел.
Летом сорок второго Пепца расхворалась, у нее поднялась высокая температура. Она начала бредить, и ее семья просто не находила себе места. Поскольку был поздний час, и никакие поезда уже не ходили, я побежал в поместье Подгорное и спросил, не могли бы отвезти ее в больницу. Шофера не было, он был в отпуске. Господина Лео тоже не было в поместье, скорее всего, он был в Любляне, а может, на охоте. Вероника долго не раздумывала, я отвезу ее, сказала она. Оперировал ее немецкий военный врач, и она быстро пошла на поправку. Через неделю хозяйка сама предложила поехать за ней. Мы ехали по дороге, поднимая за собой облако пыли. Я подумал, что вот сейчас я еду с ней, а не Янко, на машине, а не на мотоцикле. Отличный день был, обратно мы ехали втроем, на заднем сиденье моя ослабевшая больная, спереди мы вдвоем. Янко мог бы мне позавидовать. Вероника мне несколько испортила песню, когда мы остановились у придорожной закусочной и заказали пива. А вообще-то, где это твой приятель, как его, бишь, зовут? Мне стало досадно, что она снова о нем вспомнила, но немного успокоило, потому что она не помнила его имени. Я сказал, как его зовут. Да, точно, Янко, сказал она. А он по-прежнему носится по округе на мотоцикле?
Они так никогда и не прокатились на мотоцикле, и она так никогда и не подарила Пепце «что-нибудь красивое» на свадьбу. Янко был уже в лесах и ловил на прицел немцев, с Пепцей мы поженились только после войны. Вероники в то время уже не было.
Война свалилась, как снег на голову, через деревню шли колонны грузовиков, набитые немецкими солдатами. Жизнь в деревне не слишком переменилась, лишь в жандармском управлении разместилась немецкая военная полиция, они ходили потом вместе с нашими по деревням, а по вечерам сидели с ними в кабаке. Я продолжал ходить в поместье, где все чаще среди гостей бывали немецкие офицеры из Крани. Наверное, потому что им там было вольготно, хозяева, оба, знали их язык, она вроде как даже училась в Берлине. В сорок втором году, вскоре после того, как мы с Вероникой отвезли Пепцу в больницу, прошел слушок, что наши военнослужащие, вернувшиеся после капитуляции из плена, собираются в горах, нападают на немецкие склады с оружием и комендатуры, захватывают оружие и боеприпасы, устраивают налеты на автоколонны. Однажды объявилась большая группа военной полиции, которая вместе с местными прочесывала дома. Как будто одного полицейского застрелили из засады, когда он ехал на велосипеде по дороге через поле у лесной опушки. Нас вызвали в комендатуру, дознавались, не знаем ли мы кого из лесных братьев. Меня тоже вызывали, один тиролец в форме военной полиции расхаживал взад вперед, задавая вопросы, а наш учитель, который говорил по-немецки, переводил. Я ничего не сказал, да я и не знал ничего. Да если бы даже знал, что Янко Краль уже у лесных братьев, не сказал бы. Нипочем. Я не доносчик и не иуда.
Осенью сорок второго однажды ночью кто-то долго стучал в окно. Отец подошел к двери, я слышал, что он с кем-то разговаривает. Вернулся он совершенно бледный. Он сказал, что пришли ко мне, а не к нему. Твой дружок, прибавил он злобным тоном, хотя было видно, что он напуган. Ему не нравилось, что я дружу с Янко, с этим, как он считал, городским фраером. Почему ты не пригласил его зайти? спросил я. И понял, почему – я бы тоже испугался Янко, через плечо у него свисал автомат, поверх кожаного пиджака он был опоясан широким ремнем, на котором висела огромная кобура с пистолетом. На голове – фуражка с красной звездой. Еще и из-за этого он не пригласил его зайти в дом. Отец не любил их, перевертышей, по гроб жизни так и не простил мне, что позже я и сам к ним присоединился. Но это произошло лишь через год.
Я увидел стоявшие под грушей у забора две темные фигуры его дружков. Янко, не здороваясь, спросил меня, хожу ли я еще в Подгорное поместье. Я ответил, что очень редко.
Ступай, сказал он, будешь докладывать нам, что там делается.
Мы боремся за свободу словенского народа, произнес он патетично, что мне было странно слышать из уст этого балагура и выдумщика.
Они же, добавил он, развлекаются с оккупантами.
Он наспех объяснил мне, что ценны любые сведения. Кто приходит и когда уходит, от дворовых нужно попытаться узнать имена, бывают ли среди гостей немецкие офицеры, по возможности также звания, описания автомобилей, бывают ли они с охраной и сколько ее.
Я был поражен. Мне тогда уже было известно, что многие люди не питают симпатии к лесным братьям, потому что среди них были коммунисты, которые хотят все у крестьян отобрать, как в России, знал я и то, что, несмотря на это, люди помогают им продуктами и одеждой, как бы то ни было, а они были своими. Если работаешь в поместье, то многое видишь, в том числе и то, что они уходят с набитыми рюкзаками в лес. Однажды утром, работая в господском лесу, я увидел лесничего, который с двумя подручными тащил тяжелые рюкзаки наверх к охотничьему домику. Это для медведей? пошутил я. Да, ответил лесничий, забрели к нам наверх из Кочевья. Мы все рассмеялись. Мы знали, что у нас медведи не водятся, да если бы и водились, зачем бы человек стал зверям еду носить? Все в Подгорном знали, что вообще-то немцы бывают в гостях, но все также знали, что господин Лео помогает партизанам. Он жил, как все мы тогда, двойной жизнью. От немцев куда денешься, они были всюду. И некоторые наши парни, которых мобилизовали, приходили на побывку в немецкой форме и рассказывали о боях в России, а один из них оказался даже в Африке.
До сих пор я считал, сказал я Янко, что вам господа помогают. Он прямо взбеленился: не моего ума это дело. Думать будут другие, а я должен делать то, что он приказал. Некоторое время он смотрел на меня. Потом усмехнулся и сказал: ты ничего не смыслишь, Иван, ты так навсегда и останешься деревенщиной. Спустя мгновение он снова стал серьезным. Начал давать мне указания. Через неделю или еще раньше кое-кто наведается, и я ему расскажу, что видел. Имена и цифры надо записывать. И чтоб я знал, среди дворовых у них есть свои люди, любые сведения неоднократно проверяются. Это прозвучало как угроза. Позднее они определятся с явкой, куда я буду сам приходить и доставлять туда сведения. Он поднял кулак к фуражке, произнеся: смерть фашизму, подсказывая мне, что я должен отвечать: свобода народу – и ушел. Возле забора к нему присоединились и те двое, топтавшиеся под грушей.
Его серьезность, а особенно это его приветствие, все вместе могло показаться мне потешным, будто Янко снова играется, если бы это не выглядело так неприятно, если не угрожающе. Что это все такое? Чтобы мой друг, которым я восхищался, теперь вдруг отдает приказы и даже немного угрожает? Чтобы я шпионил за людьми, которые ко мне так добры и, в конце концов, хорошо платят за любую работу? Мой отец, живший в бывшей Австрии, еще с тех времен имел для стукачей всегда наготове какое-нибудь немецкое изречение. Когда кто-нибудь в полицию или налоговикам доносил на кого-нибудь на незаконную рубку леса или дикую охоту на серн, он обычно говаривал: Der größte Schuft im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Что значит, что нет на свете большего подлеца, чем доносчик. Я все же знал, что то, что требует от меня Янко, не то же самое, тяжелые времена, я хорошо понимал, что здесь речь идет о другом. Мне все равно было не по себе, и я всю ночь не мог заснуть.
Я не доносчик и не иуда, хоть позднее, в ту страшную зимнюю ночь сорок четвертого, у охотничьей сторожки я почувствовал в ее, Вероники, взгляде нечто большее, чем обыкновенный страх, и большее, чем надежда на то, что я помогу ей, в этом ее взгляде был также какой-то упрек. Ну, а как мне ей было помочь? Я только стоял на страже той зимней ночью в январе сорок четвертого, только на страже, и больше ничего. Да если бы я только слово проронил против того, что их обоих притащили и допрашивают, меня бы шлепнули. Прав был Янко, когда перед смертью, почти четырнадцать дней назад, сидя в этом своем кресле, весь высохший и скукожившийся, сказал, что за нами охотились, как за зверями. Дисциплина поэтому была страшно серьезной вещью. Во время проведения операции любое возражение расценивалось как саботаж, почти дезертирство. Я тогда ничего не мог сделать. В ее взгляде были не только страх и надежда, было и нечто такое, словно бы она хотела сказать, ты ведь наш, Иван, мы тебя любили, и Пепце я хотела что-нибудь подарить красивое на свадьбу. Неужели ты ничего не сделаешь? А что я мог сделать? Может, Янко и смог бы помочь, он был командир, но ему и в голову ничего такого не приходило. И это она с Янко собиралась прокатиться на мотоцикле, а не со мной. Она бы управляла, а он бы сидел на заднем сиденье, громко смеялся, держал ее за талию и на ухо ей, бог знает что, говорил, чтобы и она тоже посмеялась. Она спустила ему, что он так дерзко разговаривал с ней, ей даже понравилось. Спрашивала меня, как его зовут, в тот вечер, когда в шелковом платье принимала гостей. Меня она еле замечала, для нее я был просто крестьянский паренек Йеранек из Поселья, у которого золотые руки, и он умеет, наш Иван, даже петь аллилуйю в церковном хоре.
Дней через десять после посещения Янко, действительно, в мое окно постучали. Я зажег свет и раздвинул занавески. На улице стояла молодая женщина, платок был повязан низко на глаза. Она шепнула, что ее послал Янко. Откуда мне знать, что это правда? осторожно ответил я. Откуда бы я узнала, которое твое окно? ввернула она в ответ. Ну, да, правда, подумал я в полусне. Она оглядывалась вокруг себя и приказала: погаси свет. Свет падал ей на голову, ее лица из-за платка я, несмотря на это, не мог хорошенько рассмотреть. Я погасил свет и остался в темноте, прислушиваясь, не проснулся ли кто в доме. Потом вернулся к окну.
Ну, что у тебя есть? шепнула она нетерпеливо.
Я ответил, что не так часто бывал там. Ну, а когда был, что ты видел? Да, ничего особенного, ответил я. Мне казалось нелепо сплетничать сейчас с какой-то женщиной под окном о тех людях, которые заходили в господский дом. Она становилась все нетерпеливее. Товарищ Янко доверяет и полагается на тебя, заметила она, повысив голос. В ее голосе уже чувствовалась некоторая озлобленность. Ну, хорошо, произнесла она, помедлив, в то время как я продолжал молчать, я передам Янко, что ты не хочешь сотрудничать. Мне не хотелось, чтобы мой приятель снова приперся сюда с автоматом в сопровождении еще двоих, которые бы топтались под грушей в темноте. Приезжала одна дама из Любляны, промолвил я, и еще один, на рояле играл. Целый день что-то наигрывал. Как его зовут? Я вспомнил, что это Вито. Иногда он выходил и закуривал. Жаловался, что рояль старый и расстроенный. Надобно новый купить. Им надо купить новый рояль, сказал я женщине под окном. Мне-то что за дело, ответила она, мне нет никакого дела до их рояля. Кто еще бывает там? В остальном наши, те, что работают. А что немцы? Видно было, что ее терпение на исходе. Наверняка и она должна была для кого-то добывать сведения, а люблянцы, играющие на рояле, вряд ли могли ей в этом сколько-нибудь помочь. Немцев не так много, сказал я. Один господин средних лет, кажется, доктор. Он был один? Было еще два санитара, дожидались его внизу на кухне, Йожи им дала поесть. Он был, наверное, наверху в столовой на обеде. Как долго? Не знаю, часа два, вроде, я в саду работал, не видел, когда они уехали. А Валлнера не было? Тогда я еще не знал, кто такой Валлнер. Никого больше я не видел, сказал я. В этот момент в доме раздался стук, с другой стороны открылась дверь, и женщина присела на корточки под окном. Да ничего, сказал я, отец ходит в это время… ну, сами понимаете, куда. Она поднялась. Тебе придется еще постараться, заметила она. Это ничто. Ничто так ничто, подумал я, я был упрям, как и все в нашей семье. Не знаю пока, можем ли мы тебе доверить явку. Ну и не доверяйте, в сердцах подумал я, я не напрашиваюсь. Не прощаясь, она растворилась среди деревьев, в то время как отец запирал двери уборной возле сарая.
Много воды утекло с тех пор, почти полвека пролетело, и многое я успел забыть, а вот, поди ж ты, то, что незнакомка присела под окном, не забыл. Уже будучи в лесах, я рассказывал Янко, как его посыльная сидела на корточках под моим окном. Я думал, что ей приспичило по-маленькому. Она испугалась моего отца, который на самом деле, как обычно по ночам, шел в туалет. Мы смеялись до слез. Многое изгладилось из памяти, а вот такие мелочи не забылись. Понятное дело, тогда все это начиналось, такие вещи человек хорошо помнит.
Не забыл я Янко, которого сегодня похоронили. Спели ему «Спит озеро в тиши», песню, которую он сам столько раз пел в лесу, у костра или просто так, выпив стакан вина и взгрустнув, слова песни …когда свобода засияет… для всех нас многое значили, и у некоторых комок подступил к горлу, как у меня сегодня защемило сердце в тот момент, когда знамя опустилось над могилой, в которой лежало ссохшееся тело когда-то сильного и отважного человека. Человека, которого я одно время так ненавидел. Из-за нее, из-за Вероники.
Многое забылось, но Янко я не забуду никогда. Его смеха, его пения. И Вероники тоже, никогда. Ее походки, запаха ее кожи, когда она стояла возле меня. Остальное перемешалось, о них я помню каждую деталь, слова, слышу их голоса, проснувшись ночью один в большом доме, вот и теперь, когда вечер того дня, когда мы похоронили Янко Краля, клонится к ночи.
Когда я сам присоединился к боевым товарищам, мы сражались и отступали, собирались вместе и смеялись, оплакивали павших и рвались в бой. После нападения на склад оружия в Буковье, я бродил среди трупов немцев и словенцев в форме немецких полицаев, одного из них я даже узнал, несмотря на то, что лицо его стало зеленым. Ночи без сна, лагерные костры, высоты, ущелья, тропки между скалами, ночные переходы по лесной опушке прямо над деревней, атаки и выстрелы, все со временем сплелось в клубок, не помню ни дат, ни безымянных высот и деревень, многое забылось. Однако обо всем этом написано в книгах, которые собраны у меня на полке в гостиной. Ну не буквально обо всем, не каждый эпизод описан, о той женщине, собиравшей грибы, которую мы застрелили, потому что думали, что она шпионит, там нет, и о предателе Милане, который примкнул к нам, а сам оставлял немцам сообщения в условленных местах в то время, когда он, будучи в карауле, «заблудился», как он уверял на допросе. Он плакал, люблю вас, товарищи, говорил. Его мы забили, потому что стрелять было нельзя, чтобы не обнаружить своего местонахождения. Этого и много чего другого нет в тех книгах. Все равно иной раз вечером люблю достать с полки, отыскивая в них события, в которых и я принимал участие. Я заказал нарисовать во всю стену в гостиной лес и группу партизан, сидящих летним вечером вокруг костра. У Янко, моего сына, глаза на лоб полезли, когда он, вернувшись из Любляны, увидел эту живопись. Он сказал, прошу прощения, но это смехота. Чудовищная мазня. И потом, продолжал он, далеко ли от тебя лес? Нет нужды смотреть на него на картине на стене. Ступай себе в лес, смеялся он, садись на пенек и предавайся воспоминаниям. Ему этого не понять, он многого не понимает. Иногда, наедине с самим собой, беру книжку, наливаю стаканчик вина и оказываюсь среди товарищей, которые, кто сидя, кто стоя, изображены на картине на стене, слушаю партизанские песни, которые есть у меня в записи, чувствуя себя одновременно и прекрасно и отвратительно, это то, что мой сын Янко никогда не сможет понять, хорошо и плохо, то и другое одновременно.
Хоть женщина, сидевшая на корточках под моим окном этой ночью, сказала, что остается под вопросом, доверят ли мне явку, а мне в тот момент было все равно, доверят ли мне ее, тем не менее, я ее получил, не прося. Явка была на вокзале, не где-нибудь, а у самого начальника станции, у того самого, которым я восхищался с самого детства, как он поднимал жезл с круглой пластинкой наверху. В моих глазах он имел большую власть, он был тот, кто отправляет поезда со станции. Когда он подходил к поезду с жезлом подмышкой, локомотив начинал выпускать пар, кондукторы кричали, чтобы последние пассажиры, прощавшиеся на перроне, занимали свои места, двери захлопывались, а когда он поднимал жезл, поезд трогался, колеса начинали вращаться. Я никогда не мог насмотреться на эту картину. Ребенком я звал его дядей. Как же дядя Штефан удивился, когда однажды после обеда я зашел к нему в контору и сказал, что я тот, кого он ждет. Это был пароль. Он ответил только, хорошо, что зашел, привет отцу и заходи как-нибудь еще. Таким образом, теперь я был по-настоящему в деле, уже в конце сорок второго.
Я видел, в поместье бывают разные люди, господа из Любляны, председатели окрестных сельских общин, но я ни о чем не заявлял. Мне не хотелось доносить на господ, которые давали мне работу, платили, были добры ко мне, которых я в общем-то по-своему любил. К тому же: о чем было докладывать? Всякий раз, задерживаясь в поместье по каким-нибудь делам до вечера, я слышал смех, а однажды через открытые окна пение. Мне казалось слишком незначительным доносить о таких вещах на явке. К дяде Штефану я зашел только тогда, когда хозяйка Вероника своим поведением меня на самом деле вывела из себя, когда от той картины, что предстала передо мной, у меня голова просто пошла кругом. В тот раз я поведал ему о Веронике и обо всем, что она вытворяла, обо всем, что там происходит. И его жезл после этого открыл путь поезду, который промчался в ее сторону и через нее.
До этого я на несколько дней оказался в тюрьме в Крани.
Холодным ноябрьским утром, как сейчас помню, была суббота, лед на схваченных изморозью лужах трескался под ногами, когда я вышел из сарая, в деревню въезжали два военных грузовика, а перед ними ехала легковая машина. Я отступил к забору, чтобы посмотреть, куда они направляются. Машины остановились в деревне, в каких-нибудь ста метрах от нашего дома у двора Кошниковых. Из легковушки вышли двое в кожаных пальто, тут же из машины начали выпрыгивать солдаты. Я не понимал, что происходит, думая, что кого-то ищут, у меня засосало под ложечкой при мысли о своих ночных посетителях, о Янко и той незнакомке. Я вернулся в дом, и прежде чем я успел отцу с матерью рассказать о том, что происходит, в дверь ворвались трое с автоматами в руках. Один показал на меня и по-словенски сказал, чтобы я одевался и взял с собой личные документы, потому что поеду с ними. С остальными двумя он перебросился по-немецки, те кивнули. Отец и мать сидели за столом, отец встал и сказал: он ничего не сделал. Тот сказал только: пошли, и больше ничего. Отец повернулся к тем двум и по-немецки сказал, мы лояльны, мы католиш. Католиш, да, да, повторил один из тех двух немцев и все трое рассмеялись. Поскольку отец все продолжал что-то говорить и махал руками, тот, что говорил по-словенски, отодвинул его назад к скамье. Садитесь, отец, может, ничего и не будет, через несколько дней обратно вернется. Он мобилизован? Отец еще попытался вникнуть в то, что его могло бы успокоить. Конечно же, я не был мобилизован, немцы проводили мобилизацию так, что сначала отправляли письмо, которое приносил курьер, и только после этого, если кто не являлся в назначенный день, приходили за ним.
Когда я очутился на улице, у грузовиков уже собралось несколько парней и мужчин постарше из нашей деревни. Они быстро забирались на покрытый брезентом грузовик, я тоже полез наверх, за нами солдаты. Мы сидели там в тесноте, переглядываясь молчком. В Крани нас затолкали в какой-то подвал, нас было около пятидесяти, но мы слышали, как во дворе прибывают все новые грузовики, и по звуку шагов и голосов понимали, что их набралось гораздо больше, чем нас, набившихся в том подвальном помещении. Затем нас начали по двое, трое выводить из подвала. Очевидно, наших имен они не знали, те, что вернулись, говорили, что нужно было сперва в кабинете показать свои документы и назвать данные, которые они параллельно сверяли с бумагами. И со мной было так же, за десять минут дело было окончено. Затем началось ожидание. Заходили охранники и некоторых вызывали по имени. Тех допрашивали. Некоторых избили. Мы слышали удары, крики и стоны. Одни возвращались с улыбкой, другие окровавленные, с быстро расползающимися синяками. Говорили, что бьют бычьими кнутами. Они были из высушенной бычьей плетенки, под их ударами трескалась кожа. Довольно долго мы не понимали, что происходит. Потом в этом подвале распространился слух о том, что нас схватили в качестве заложников. Партизаны напали из засады на немецкого офицера, какую-то шишку, который с охраной ехал куда-то в сторону Бледа, и убили его. Погибло также несколько солдат. Всем нам было ясно, что это значило. Расстреляют заложников, которых, не глядя, отловили по деревням. Их имена появятся на красных плакатах, которые мы иногда читали на вокзале. На них была зловещая надпись, всем нам хорошо известная: Bekanntmachung![15] А до того, как это произойдет, они попытаются выбить из нас еще какие-нибудь показания. И потом вся эта волокита с выкрикиванием имен, вызовами и возвращениями тянулась целый день и далеко за полночь.








