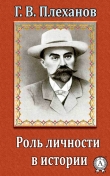Текст книги "Западный марксизм. Как он родился, как он умер, как он может возродиться."
Автор книги: Доменико Лосурдо
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
германизацию завоеванных территорий, в то время как выжившие были обречены работать в качестве черных рабов на службе у расы господ. Что ж, эта глава истории, которая охватывает временной промежуток колониального экспансионизма Запада и обобщает все его ужасы, по мнению Арендт, не имеет ничего общего, по крайней мере, в том, что касается его начальной американской фазы, с историей колониализма! В начале двадцатого века выдающийся британский политик и историк заметил, что работа Токвиля «Демократия в Америке» «является не столько политическим исследованием, сколько назидательным трудом» (Bryce 1901, стр. 325). Книга Арендт «О революции» также попадает в эту последнюю категорию. Это два текста, которые прославляют основание Соединенных Штатов как величайшую главу в истории свободы, не упоминая при этом тот факт, что новорожденная североамериканская республика закрепила рабство черных в своей Конституции и на протяжении десятилетий видела, как рабовладельцы оказывали решающее влияние на политические институты. «В то время, когда движение за отмену рабства уже развернулось по обе стороны Атлантики» (Фергюсон 2011, стр. 129), институт рабства принял наиболее жесткую форму (белый владелец мог при необходимости продать отдельных членов своей черной семьи как отдельные предметы или товары) и пережил свой политический и конституционный триумф. Опубликованная вскоре после первой великой антиколониальной революции (Санто-Доминго-Гаити), книга «Демократия в Америке» хотя и пренебрежительно отзывалась о ней, выражала свое восхищение Соединенными Штатами, которые пытались уморить голодом и принудить к капитуляции страну, управляемую бывшими рабами. «О революции» увидела свет в кульминационный момент всемирной антиколониальной революции, и ее автор заняла ту же позицию, что и Токвиль: она осудила эту революцию и воздвигла памятник сверхдержаве, которая пыталась подавить ее любыми средствами. Несмотря на все это, Арендт продолжала оказывать большое влияние на западный марксизм. Мы увидим, что тезис, согласно которому колониализм и империализм были чужды США, некритически воспринимается Хардтом и Негри (ниже, гл. IV, § 10). Можно сказать, что путешествие Арендт (бегство от антиколониальной революции и Третьего мира и прибытие в «Западное полушарие» и его мифически преображенную ведущую страну) – это также путешествие двух авторов «Империи».
6. Фуко и исключение колониальных народов из истории Вместе с Арендт, еще одним автором, уже аккредитованным Альтюссером в 1960-х годах (Althusser, Balibar 1965, стр. 27, 46, 110), самым авторитетным марксистским философом того времени, он помог сделать разрыв между западным марксизмом и антиколониальной революцией непоправимым. Я имею в виду Мишеля Фуко. Благодаря своему анализу всепроникаемости или вездесущности власти не только в институтах и социальных отношениях, но и в концептуальном аппарате, он излучал ауру завораживающего радикализма, которая позволяла примириться с властью и идеократией, являвшимися основой «реального социализма», кризис которого становился все более очевидным. В действительности радикализм не только кажущийся, но и оборачивается своей противоположностью. Жест осуждения любых властных отношений, фактически любой формы власти как внутри общества, так и в дискурсе об обществе, делает это «определенное отрицание» (bestimmte Negation) весьма проблематичным или невозможным, это отрицание «определенного содержания», которое, выражаясь гегелевскими терминами, является предпосылкой реального преобразования общества, предпосылкой революции (Гегель 1812/1969-79, т. 5, стр. 49). Более того, попытка выявить и демистифицировать господство во всех его формах обнаруживает удивительные пробелы именно там, где господство проявляется во всей своей жестокости: колониальному господству уделяется мало внимания или вообще не уделяется. Фуко, судя по всему, не присоединился к протесту против резни алжирцев в Париже, организованному Сартром, в котором также принимал участие Пьер Булез, друг Фуко. В более общем плане он не играл никакой роли в борьбе против пыток и жестоких репрессий, с помощью которых власти пытались подавить борьбу за национальное освобождение в Алжире. О Фуко справедливо заметили, что «его критика власти продолжает ориентироваться на Европу» (Taureck 2004, стр. 40 и 116). В его произведениях также отсутствуют на историческом уровне колониальные народы или люди колониального происхождения. Это объясняет утверждение, что в конце XVIII века «в Европе и Соединенных Штатах» начали проявляться «исчезновение зрелища наказания» и «публичная ритуализация смерти» (Фуко 1975, с. 13-4; Фуко 1976, с. 213). Предложенная здесь периодизация относится к пыткам, которым в 1757 году подвергся Робер-Франсуа Дамьен (автор неудавшегося нападения на Людовика XV) и которые Фуко реконструировал со множеством ужасающих подробностей (1975, стр. 9-11). В действительности, если включить в эту картину и афроамериканцев, то следует сказать, что в период с конца девятнадцатого века до начала двадцатого мы наблюдаем не исчезновение, а, скорее, торжество «зрелища наказания» и «публичной ритуализации смерти». Вот как в США, где господствовало превосходство белой расы, чернокожий мужчина, обвиненный (часто несправедливо) в попытке уничтожить сексуальную и расовую чистоту белой женщины, был приговорен к смертной казни: Новости о линчевании публиковались в местных газетах, а к поездам добавлялись дополнительные вагоны для зрителей, иногда насчитывавших тысячи человек, приезжавших из отдаленных мест. Школьникам разрешили провести выходной, чтобы они могли стать свидетелями линчевания. Зрелище могло включать кастрацию, сдирание кожи, поджаривание, повешение и выстрелы. Сувениры для покупателей могли включать пальцы рук, ног, зубы, кости и даже гениталии жертвы, а также открытки с изображением события (Вудвард, 1998, стр. 16). Мы далеки от реконструкции истории «экономики наказания» («в Европе и Соединенных Штатах») и «современной души» как таковой, сделанной французским философом: в первые десятилетия XIX века «наказание постепенно перестало быть постановкой, и все, что могло быть зрелищем, теперь подвергалось негативному оценочному суждению» (Фуко 1975, с. 13-4 и 27). В действительности, что касается афроамериканцев, то между девятнадцатым и двадцатым веками пытки и смерть достигли беспрецедентной зрелищности, и они, далеко не
из традиций, применяемых только в исключительных случаях (нападение на короля или главу государства), они превратились в почти повседневную практику.
7. Фуко и эзотерическая история расизма... Все это игнорируется французским философом, и это не случайно. Он прослеживает причудливую историю расизма, настолько причудливую, что она становится почти эзотерической. Короче говоря: «в середине XIX века», в противовес летописной традиции, приверженной освящению суверенитета, во Франции утвердился совершенно новый, антиавторитарный и революционный дискурс, который разбил общество на враждующие расы (или классы) и ввел «принцип гетерогенности: история одних не является историей других» (Фуко 1976, с. 73 и 65). Однако некоторое время спустя наступает переломный момент: «идея расы, со всеми вытекающими из нее чертами одновременно монистической, этатистской и биологической, заменит идею борьбы рас». Это настоящий переворот: «Расизм буквально представляет собой революционный дискурс, но наоборот». Остается верным, что «корень, из которого мы исходим, один и тот же» (Фуко, 1976, стр. 74). Это объяснило бы трагедию и ужас двадцатого века. Третий рейх «возвращает к теме государственного расизма, призванного защищать расу, распространенной в конце XIX века». Что касается страны, возникшей в результате Октябрьской революции: «То, что революционный дискурс обозначал как классового врага, в советском государстве расизм станет своего рода биологической опасностью» (Фуко 1976, с. 75). Это реконструкция, которая поднимает многочисленные проблемы. Прежде всего: появился ли «государственный расизм» только в двадцатом веке? Эта периодизация была задолго до этого поставлена под сомнение аболиционистами, которые в девятнадцатом веке сожгли американскую Конституцию на улицах, заклеймив ее как договор с дьяволом, поскольку она освящала расовое рабство; то есть те аболиционисты, которые критиковали Закон о беглых рабах 1850 года за то, что он хотел заставить каждого гражданина США стать охотником на людей: наказанию подлежал не только тот, кто пытался спрятать или помочь чернокожему мужчине, преследуемому его законными владельцами, но и тот, кто не сотрудничал в его поимке (Losurdo 2005, chap. IV, § 2). Частично оправдывая Фуко, можно сказать, что он игнорирует эту главу истории; но, по крайней мере, он мог бы прочитать комментарий Маркса к Закону о беглых рабах: «Действовать в качестве ловцов рабов для южных рабовладельцев, казалось, было конституционной задачей Севера» (MEW, 15; 333). В любом случае, мы не имеем дело с расизмом, который проявляется только на уровне гражданского общества: на основе четких конституционных и правовых норм социальное положение и судьба человека определяются его расовой принадлежностью, установленной и санкционированной законом; мы явно имеем дело с «государственным расизмом». Если тезис о том, что «государственный расизм» впервые появился в двадцатом веке, совершенно необоснован, то является ли утверждение о том, что возникновение Третьего рейха ознаменовало «возникновение абсолютно расистского государства» (Фуко 1976, с. 225), по крайней мере бесспорным? Особый ужас, в котором виновна гитлеровская Германия, – ужас убийства евреев – не подлежит сомнению, но на самом деле речь идет не об этом. Давайте прочитаем авторитетного американского историка расизма: «Нацистское определение еврея никогда не было столь же жестким, как норма, называемая «правилом одной капли», распространенная в классификации чернокожих в законах о расовой чистоте на юге Соединенных Штатов»; Согласно Нюрнбергским законам, еврей также определялся по принадлежности одного из предков к иудейской религии, в то время как в США религия не играла никакой роли в определении чернокожего человека. Все решалось кровью, даже одной каплей крови (Фредриксон 2002, стр. 8 и 134-35). Если мы затем обратимся к Соединенным Штатам до Гражданской войны, мы более чем когда-либо вынуждены сделать вывод: здесь реальность расового государства проявляется более отчетливо, чем в Третьем рейхе; Гитлер не владел рабами (ни черными, ни евреями), в то время как, как известно, на протяжении первых десятилетий истории североамериканской республики почти все ее президенты были рабовладельцами.
рабы (черные). Однако в истории расизма, которую прослеживает Фуко, нет места ни афроамериканцам, ни даже колониальным народам или народам колониального происхождения в целом. Таким образом, искажается понимание нацизма: мы увидим, как главный идеолог нацизма (Альфред Розенберг) за три года до прихода Гитлера к власти ссылается на «расовое государство», уже действовавшее в США (на Юге), как на модель, которую следует учитывать при построении расового государства в Германии. В более общем плане: устранение колониализма делает невозможным адекватное понимание капитализма. Если проанализировать капиталистические страны вместе с колониями, которыми они владеют, то мы легко поймем, что имеем дело с двойным законодательством: одно для расы завоевателей, другое для расы побежденных. В этом смысле расовое государство или «государственный расизм» (на языке Фуко) сопровождает историю колониализма (и капитализма) как тень; только это явление более заметно в Соединенных Штатах из-за пространственной смежности, в которой проживают различные «расы». К сожалению, реконструируя историю расизма, французский философ абстрагируется не только от колониальной традиции, но и от политико-социальной истории как таковой. Он не начинает со столкновения различных культур и с отношений, установленных Западом с тем, что постепенно стало колониальным или полуколониальным миром. Он фокусируется на главе в истории идей, которая является исключительно внутренней для Запада и, по сути, исключительно внутренней для Франции. Речь здесь не идет о стране (метрополии и колониях), в которой в ходе революции возникло осуждение рабовладельческого и расистского режима, действовавшего в Санто-Доминго (а также в соседней североамериканской республике) и основанного на господстве, санкционированном законом, «аристократии эпидермиса» и «благородства кожи». Это не та страна, где произошло первое эпическое противостояние между сторонниками и противниками рабства чернокожих и расового государства. Нет, это другая Франция в центре истории расизма, описанной Фуко. Даже если он делает это очень расплывчато и не называет конкретных текстов или авторов, он ссылается на дискурс, возникший во время революции, который интерпретировал политико-социальный конфликт в расовых терминах не во Французской империи в целом, а в метрополии Франции (за исключением колоний): если Буленвилье защищал привилегии дворян как наследников победоносных франков, то такие авторы, как Сийес и Тьерри, отвечали, заявляя о праве галло-римлян (или третьего сословия) избавиться от господства, навязанного им именно франками. И снова поразительно своеобразный подход Фуко: он начинает не с Буленвилье, а со своих антагонистов: именно революционеры первыми стали рассматривать политико-социальный конфликт в расовых терминах. Но оставим это в стороне: действительно ли критики Буленвилье были затронуты расизмом, намеревались ли они выявить натуралистическую и непреодолимую «неоднородность» среди конфликтующих политико-социальных субъектов? Независимо от того, идет ли речь о расах или народах, находящихся в конфликте и войне, Сийес оспаривал позицию абсолютной привилегии, на которую претендовали защитники аристократии, которые «даже заходят так далеко, что считают себя другим видом людей», высшим видом (Сийес 1788/1985, стр. 99). Как показывает ссылка на общую человечность, мы скорее имеем дело с критикой расизма, а не с его теоретизацией. Правда ли, что теперь «история одних – это не история других»? На самом деле, когда в 1853 году Тьерри описывал историю третьего сословия, он действительно начал с борьбы между франками и галлами, но в итоге стал восхвалять постепенное «слияние рас», постепенное исчезновение «различия рас» и «правовых последствий разнообразия происхождения», и все это на волне борьбы, в ходе которой крепостные и исключенные в целом делали полемические ссылки на феодалов в следующих выражениях: «Мы такие же люди, как и они» (Тьерри 1853, стр. 411, 413 и 424). Имеем ли мы дело с расистским дискурсом или его критикой? Даже что касается Буленвилье, он, конечно, оправдывал привилегии своего класса, ссылаясь на конфликт между различными «расами», но это были все еще расы внутри Запада; он сравнил третье сословие с галло-римлянами, которые были побеждены, но не чужды
в область цивилизации; он не сравнивал его с чернокожими жителями колоний, то есть с «расой», считавшейся низшей по своей природе и по своей природе способной только выполнять рабскую работу. Своей теорией Буленвилье, конечно, не намеревался подвергнуть буржуазию, пережившую заметный социальный подъем во Франции, рабству или колониальному порабощению; оно было призвано подтвердить исключительный характер узкой области аристократических привилегий. Процесс подлинной расизации, напротив, в первую очередь поразил колониальные народы (и, во вторую очередь, народные классы метрополии, часто ассимилированные с дикарями колоний), и в этих процессах участвовала высшая страта третьего сословия, которая поднимала тему общечеловеческой принадлежности только в связи с борьбой против привилегий аристократии. Все это выходит за рамки историко-концептуальных рамок Фуко. В нем нет места многовековым процессам расизации и дегуманизации, затрагивающим колониальные народы, так же как нет места великой борьбе за признание, начиная с той, которая с радикализацией Французской революции привела к отмене рабства в колониях. Мы вынуждены задать себе вопрос: для объяснения истории расизма на Западе, действительно ли дебаты, которые велись во Франции по поводу франков и галло-римлян с участием небольшого числа интеллектуалов, важнее завоевательных войн против народов, которые начинают считаться массой гомункулов, лишенных настоящего человеческого достоинства и, следовательно, обреченных на порабощение или уничтожение, как это произошло во время того, что иногда определялось, ввиду его масштабов, как «величайший геноцид в истории человечества» (Тодоров 1982, стр. 7), произошедшего после открытия-завоевания Америки? Что касается Франции: является ли небольшая глава об истории идей, на которой Фуко сосредоточивает свое внимание, более значимой, чем революция и война, разразившиеся в Санто-Доминго из-за сохранения или отмены рабства черных? Это гигантское столкновение, в котором участвуют огромные массы людей, и которое составляет центральную главу мировой истории. Однако все это слишком пропитано материальными элементами (цепями реального рабства, прибылью, получаемой от торговли рабами и производимыми ими товарами) и слишком общеизвестно, чтобы вызвать интерес Фуко, который занят демонстрацией того, что революция и расизм идут рука об руку, и поисками оригинальности, граничащей с эзотерикой. Антиреволюционный пыл и культ эзотерики достигают своего пика при прочтении тридцати лет сталинизма как режима, характеризующегося государственным и биологическим расизмом. Традиционная теория тоталитаризма более или менее радикально сравнивает и уподобляет гитлеровскую Германию и сталинский Советский Союз. Но на идеологическом уровне все еще сохраняется большая дистанция и даже явная антитеза: первая страна открыто заявляет о своем желании построить колониальную империю, основанную на превосходстве белой и арийской расы; второй же выступает в роли поборника борьбы с колониализмом и расизмом. Вместо этого Фуко прибегает к операции, которая показалась слишком смелой сторонникам нынешней теории тоталитаризма: он приравнивает Гитлера и Сталина также и на идеологическом уровне, как поборников «биологического расизма». Это, несомненно, новый тезис, но подкреплен ли он какой-либо демонстрацией или аргументами, напоминающими демонстрацию? Что касается взаимоотношений с внешним врагом, то лидер исторического ревизионизма, а именно Нольте, заметил, что во время Второй мировой войны «расистское» представление Германии было весьма распространено на Западе, со «своего рода копией» прочтения конфликта, «дорогого национал-социализму», но не в Советском Союзе, который придерживался «исторического представления». На самом деле, не Сталин, а Рузвельт выдвинул идею биологического решения: «Мы должны кастрировать немецкий народ или обращаться с ним таким образом, чтобы он больше не мог воспроизводить людей, которые хотят вести себя так же, как в прошлом». Неслучайно, что в конце Второй мировой войны, критикуя такое отношение, Бенедетто Кроче подчеркивал, что упомянутые «стерилизации» следовали «примеру, данному самими нацистами». Фактически, в годы Третьего рейха «окончательному решению» предшествовали повторяющиеся программы или предложения
«массовая стерилизация евреев». Более того, Кроче не знал, что Третий рейх многому научился у евгенических и расистских традиций США, как следует из заявлений самих Розенберга и Гитлера. Фактом остается то, что либеральный философ своим своевременным замечанием заранее опроверг фантастическую историю расизма, нарисованную французским радикальным философом. Что касается внутреннего врага: вспоминая заявление Сталина о том, что «сын не отвечает за отца», «Правда» в конце 1935 года заявила о преодолении дискриминации, препятствовавшей детям привилегированных классов поступать в вузы. Педагогическая одержимость, которая, по признанию американского историка с устоявшимися антикоммунистическими убеждениями (Энн Эпплбаум), была характерна для ГУЛАГа, красноречива: до самого конца, пока бушевала гитлеровская война на уничтожение и вся страна находилась в абсолютно трагическом положении, люди изо всех сил пытались найти и вложить «время и деньги» в «пропаганду, плакаты и собрания по политической индоктринации» для заключенных. Очевидно, что террористическая природа диктатуры и ужасы ГУЛАГа остаются, но где же биология? Необходимо отличать политико-моральную деспецифичность (исключение из человеческого и гражданского сообщества), которая главенствует в религиозных и идеологических войнах и которая оставляет жертве путь к спасению через обращение, от расовой деспецифичности, которая натуралистически непреодолима4. Мы можем испытывать сильнейшее отвращение к Альбигойскому крестовому походу и Варфоломеевской ночи, но я не знаю ни одного историка или философа, который бы отнес эти два события к истории биологического расизма! И последнее соображение. Когда Фуко читал лекции в Коллеж де Франс, анализируемом здесь (мы находимся в 1976 году), режим апартеида в расистской Южной Африке был еще жив. С другой стороны, примерно десятью годами ранее Арендт обратила внимание на запрет, который продолжал действовать на межрасовые браки в Израиле, и на другие схожие нормы, парадоксальным образом схожие с «печально известными Нюрнбергскими законами 1935 года» (Арендт 1963b, стр. 15-6). Однако когда французский автор ищет другую реальность, которую можно было бы связать с Третьим рейхом под знаменем «государственного расизма», ему удается идентифицировать ее только в Советском Союзе, стране, которая с момента своего основания играла решающую роль в содействии освобождению колониальных народов и которая в 1976 году все еще была в авангарде осуждения античерной и антиарабской политики, проводимой соответственно Южной Африкой и Израилем!
8. ...и биополитика Не менее эзотерична и не менее проникнута антиреволюционным рвением реконструируемая Фуко история «биополитики» – категории, обязанной своим необычайным успехом именно французскому философу, который использует ее для объяснения ужасов двадцатого века. Здесь, в предельном синтезе, представлен исторический баланс, который он нарисовал: начиная с девятнадцатого века, утверждается новое видение и «новая технология власти». Речь больше не идет, как в прошлом, о дисциплинировании тел отдельных людей; теперь власть «применяется к жизни людей, или, скорее, она инвестирует не столько человеческое тело, сколько человека, который живет, человека как живое существо», она инвестирует «общие процессы, которые являются специфическими для жизни, такие как рождение, смерть, производство, болезнь», «воспроизводство» человеческой жизни (Фуко 1976, с. 211 и 209-10). Да, с появлением биополитики «власть в XIX веке овладела жизнью» или, по крайней мере, «взяла под свой контроль жизнь», и это «равносильно утверждению, что она заняла всю поверхность, простирающуюся от органического до биологического, от тела до популяции», до «биологических процессов в целом»; теперь необходимо обеспечить «безопасность целого по отношению к его внутренним опасностям». Биополитический поворот уже чреват опасностями. Затем следует расизм, или, скорее, государственный и биологический расизм, который утверждает, что «вводит разделение между тем, что должно жить, и тем, что должно умереть», и который превращает биополитику в практику смерти (Фуко, 1976, стр. 218, 215 и 220). Отсюда возникли бы те катастрофические последствия, о которых мы уже знаем на примере сталинского СССР и гитлеровской Германии. Как и в случае с историей расизма, так и в случае с биополитикой молчание по поводу колониализма оглушительно, хотя именно он является местом рождения и расизма (как мы уже видели), и расизма (как мы скоро увидим). То, что произошло в Америке с прибытием конкистадоров, весьма показательно. Туземцев часто приговаривали к работам до самой смерти. Число потенциальных рабов было практически неограниченным, и не было недостатка в тех, кто стремился увеличить свое богатство, способствуя воспроизводству человеческого скота, которым они владели: Лас Касас сообщает, что цена рабыни возрастает, когда она беременна, точно так же, как и цена коров. «Этот недостойный человек хвастался, хвастался – не выказывая никакого стыда – перед религиозным человеком, что сделал все, чтобы сделать беременными как можно больше индийских женщин, чтобы получить за них лучшую цену, продавая их как беременных рабынь» (Тодоров 1982, с. 213). Показания Лас Касаса относятся к периоду, когда «краснокожие» еще не были вытеснены чернокожими в качестве подневольной рабочей силы. Когда произошла эта перемена, первые, фактически превращенные в бесполезный и обременительный балласт, были обречены на исчезновение с лица земли, вторые – на работу и размножение в качестве рабов. Для укрепления и увековечения расовой иерархии в английских колониях Северной Америки, а затем и в США применялись два правила: с одной стороны, запрет на смешение рас или «монгрелизацию», то есть запрет на сексуальные и брачные отношения между представителями «высшей» расы и представителями «низших» рас. Таким образом, жесткий правовой и биополитический барьер отделял расу господ от расы рабов, и существовало достаточно гарантий для того, чтобы последняя оставалась послушной и покорной. При необходимости применялось второе правило: смерть в страшных мучениях ожидала каждого, кто проявлял признаки того, что не усвоил урок. Как только было гарантировано бесперебойное функционирование института рабства, человеческий скот был призван расти и размножаться. В 1832 году Томас Р. Дью, влиятельный идеолог Юга, без всякого смущения и, конечно, не без гордости заявил, что Вирджиния является «штатом, выращивающим негров»: за один год она экспортировала пять тысяч негров. Один плантатор хвастался, что его рабы были «породой исключительного качества». Среди рабовладельцев это был распространенный метод увеличения
капитала через поощрение раннего материнства и поощрение рождаемости в целом: довольно часто девушки уже в 13 или 14 лет становились матерями, а к 20 годам они рожали пятерых детей; они могли даже добиться освобождения, обогатив своего хозяина 10 или 15 новыми маленькими рабами (Франклин, 1947, стр. 149). Эта практика не ускользнула от внимания Маркса, который анализировал ситуацию в США накануне Гражданской войны следующим образом: некоторые штаты специализировались на «разведении негров» (Negerzucht) (MEW, 23; 467) или на «разведении рабов» (MEW, 30; 290); Отказываясь от традиционных «предметов экспорта», эти государства «разводят рабов» как товары для «экспорта» (MEW, 15; 336). Это был триумф биополитики. Если конкистадоры прибегали к биополитике частного характера (но все еще допускаемой или поощряемой политической властью), то теперь мы имеем дело с биополитикой, осуществляемой в соответствии с точными правилами и нормами; мы находимся в условиях государственной биополитики (а также государственного расизма). Государство, «власть», имеет дело с «биологическими процессами в целом», «завладело жизнью» и делает это самым радикальным образом, устанавливая резкое «разделение между тем, что должно жить, и тем, что должно умереть»: размножение чернокожих идет рука об руку с депортацией и истреблением коренных жителей. Это разделение воспроизводится и внутри чернокожих: те, кто подозревается в угрозе «безопасности целого» (используя язык Фуко), считаются недостойными жизни и подлежат смерти, остальных поощряют расти и размножаться как рабов. Позднее, в начале двадцатого века, Джон А. Гобсон, честный английский либерал, которого Ленин широко использовал в своем эссе об империализме, обобщил биополитику капиталистического и колониального Запада следующим образом: те популяции, которые «могут с выгодой эксплуатироваться превосходящими белыми колонизаторами», выживают (и даже поощряются к росту), в то время как другие «имеют тенденцию исчезать» (или, точнее, подвергаться истреблению и уничтожению) (Гобсон, 1902, стр. 214). От этой центральной главы в истории биополитики, главы колонизаторской, у Фуко нет и следа. Однако его молчание на этом не заканчивается. Даже в капиталистической метрополии скапливалось избыточное и непроизводительное население. Это также был мертвый груз, и поэтому наводило на мысли об индейцах. Обоих ждала одинаковая участь. Это мнение ясно выразил Бенджамин Франклин, который заметил относительно туземцев: Если Провидение намеревалось истребить этих дикарей, чтобы освободить место для земледельцев, то мне кажется вероятным, что ром является подходящим средством. Он уже уничтожил все племена, ранее населявшие побережье. Шестью годами ранее Франклин предупреждал врача следующим образом: Половину спасённых вами жизней не стоит спасать, потому что они бесполезны, а другую половину не стоит спасать, потому что они злы. Неужели ваша совесть никогда не упрекает вас за нечестие этой постоянной войны против планов Провидения? Биополитика приберегла схожее, радикальное отношение к внешнему и внутреннему балласту капиталистической метрополии. Как и для самих индейцев, так и для «индейцев» метрополии биополитика суверенно отделила жизни, «достойные спасения», от остальных, или, выражаясь словами Фуко, «то, что должно жить, и то, что должно умереть». Более чем через столетие после Франклина Ницше выступал за «уничтожение декадентских рас» и «уничтожение миллионов неудачников». Биополитическая озабоченность пронизывала все аспекты капиталистического общества. Как мы можем обеспечить послушную и покорную рабочую силу, в которой нуждается капитализм? Сийес мечтал разрешить социальный конфликт, поощряя скрещивание чернокожих и человекообразных обезьян: он надеялся, что в результате этого возникнет раса естественных рабов. Более реалистично, Джереми Бентам предлагал запирать в «работных домах» (принудительно) вместе с бродягами также и их маленьких детей, чтобы впоследствии заставить их спариваться и создать «туземный класс»,
привыкший к труду и дисциплине. Это была бы, как уверял английский либерал, «самая мягкая из революций», сексуальная или, если говорить на устоявшемся в наши дни языке, биополитическая. Именно на этом идеологическом и политическом фоне можно понять изобретение в Англии «евгеники», новой науки, которая в Европе считала Ницше одним из своих самых убежденных последователей и которая в США получила массовое распространение и применение (обо всем этом см. Losurdo 2005, chap. I, § 5 и chap. IV, § 6; Losurdo 2002, chap. XIX). Даже эта вторая глава истории биополитики, собственно капиталистическая, игнорируется Фуко, который не обращает внимания даже на третью, главу, которую мы могли бы определить как воинственную. На самом деле данный термин появился после Первой мировой войны и был впервые использован шведом Рудольфом Кьелленом. На дворе 1920 год. На климате явно сказывается смятение, вызванное масштабами только что закончившейся бойни, тем более, что только что заключенный мир многим кажется простым перемирием, прелюдией к новой гигантской демонстрации силы и новой бойне. С другой стороны, после призыва Октябрьской революции и Ленина к «рабам колоний» разорвать цепи, на Западе широко распространяется тоска по надвигающейся антиколониальной революции, которая уже началась. В таких обстоятельствах плодовитость колониальных народов, вместо того чтобы увеличивать число рабов или полурабов, рискует умножить потенциальных врагов Запада и великих колониальных держав. Так, в США и Европе распространяется осуждение самоубийства или «расового самоубийства», которое совершают великие державы, терпящие аборты или снижение рождаемости. Нет недостатка в тех, кто задает себе страшный вопрос: в то время как идет тотальная мобилизация, даже на экономическом уровне, стоит ли тратить ресурсы на лечение неизлечимых пациентов, которые могут стать лишь обузой в новой войне, которая уже маячит на горизонте, или лучше сосредоточить их на увеличении числа и улучшении условий реальных и потенциальных комбатантов? Очевидно, политика превратилась в «биополитику». Три обсуждаемые здесь главы можно различить на концептуальном уровне, но они не отделены друг от друга на хронологическом уровне. Давайте посмотрим, что происходило в Англии в годы, предшествовавшие Первой мировой войне. Один из экспертов Королевской комиссии, занимающейся изучением проблемы «слабоумных», предупреждает: они «снижают общую энергию нации», более того, они грозят привести к «национальному уничтожению». В докладе, который широко распространял Черчилль, рекомендовались энергичные меры: необходимо было приступить к принудительной стерилизации «слабоумных», неадаптированных и предполагаемых рецидивистов; в свою очередь, «праздных бродяг» следует заключать в трудовые лагеря. Только таким образом можно будет адекватно противостоять «национальной и расовой опасности, которую невозможно преувеличить». Некоторое время назад Черчилль признался своему кузену: «Улучшение британской породы – политическая цель моей жизни». Ученый, проанализировавший эту главу истории, отмечает: будучи министром внутренних дел, в 1911 году Черчилль был сторонником «драконовских» мер, которые «дали бы ему лично почти неограниченную власть над жизнями отдельных людей» (Понтинг 1994, стр. 100-03; Понтинг 1992). У Фуко нет и следа этих трех глав истории биополитики, он использует термин «биополитика» так, как будто он его изобрел. По сути, в конечном итоге он радикально переосмыслил ее: категория «биополитика» теперь стоит рядом с категорией «тоталитаризм». В обоих случаях цель состоит в том, чтобы объединить сталинский СССР и гитлеровскую Германию, иногда даже добавляя к обвинительному суждению социализм как таковой и государство всеобщего благосостояния (Фуко 1978-79/2004, стр. 113-114 и 195-96). Хайек действует аналогичным образом, обвиняя сторонников социализма в любой форме и государства всеобщего благосостояния в «тоталитаризме». И снова, несмотря на свои внешние проявления и радикальные жесты, Фуко, по-видимому, в значительной степени подавлен господствующей идеологией. Само собой разумеется: наиболее заметно сглаживание происходит при максимально радикальном устранении истории колониализма.