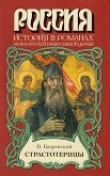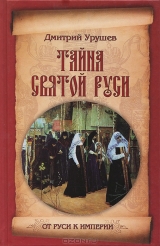
Текст книги "Тайна Святой Руси. История старообрядчества в событиях и лицах"
Автор книги: Дмитрий Урушев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
ГЛАВА III
АПОСТОЛ ГРАДА КОЛОМНЫ
Епископ Павел Коломенский – один из наиболее почитаемых мучеников старообрядчества. В истории «древлего благочестия» ему отводится первенствующая роль, а его подвиг сравнивается со служением апостолов. В одной рукописи начала XIX века о нем говорится: «Павел – апостол града Коломны, за православие стоятель и к новой вере неприклонителъ».
«Рождение же мое в нижегородских пределах» – так начинает свое «Житие» протопоп Аввакум. Так мог бы начать рассказ о себе и Павел, родившийся в том же поволжском краю.
Место рождения будущего епископа неизвестно. По общепринятому мнению, впервые высказанному французским славистом Пьером Паскалем, Павел родился в сельце Колычево, стоящем на речке Сундовик, что на правом берегу Волги, «на горах»[42]42
Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало Раскола. М., 2010. С. 143.
[Закрыть]. Неизвестна дата рождения будущего святителя, но можно предположить, что Павел был ровесником патриарха Никола, то есть родился около 1605 года. Также нам неведомы ни мирское имя Павла, ни имена его родителей.
Достоверно известно, что отец будущего архиерея был священником, и что в семье, кроме сына, была младшая дочь Ксения, в 1648 году выданная замуж за Ивана Ананьина (1632–1707), ставшего впоследствии суздальским митрополитом Илларионом.
По сообщению Паскаля, отец Павла обучал грамоте Никиту Минина, сына мордовского крестьянина из соседнего села Вельдеманово, – будущего патриарха Никона. В «Житии» Никона рассказывается о том, что он был отдан «в научение Божественного писания» и, уйдя из «дому отца своего», некоторое время жил у учителя[43]43
Шушерин И.К. Житие святейшего патриарха Никона. СПб., 1784. С. 4.
[Закрыть].
Если Никита действительно учился у священника из Колычева и жил в его доме, то можно предположить, что будущие иерархи Никон и Павел были друзьями детства и хорошо знали друг друга.
Из Колычева отец Павла вместе с семьей перебрался в близлежащее село Кириково, где продолжил священническое служение. Кириково было расположено неподалеку от большого торгового села Лысково (ныне город Нижегородской обл.) и в официальных документах называлось его «приселком».
«С гор» будущий святитель перебрался на другой берег Волги, «в леса». Здесь мы встречаем Павла в монастыре святого Макария на «Желтых водах», среди иноческой братии. Древний Желтоводский монастырь, основанный преподобным Макарием († 1444), был разорен татарами и возобновлен в 1620 году благочестивым иноком Аврамием (| 1640). Обитель процветала и скоро стала одним из главных экономических центров Поволжья, важнейшим очагом религиозной и культурной жизни, притягивавшим к себе искателей подвижнического жития. Среди монастырской братии мы видим многих персонажей русской церковной истории середины XVII столетия.
В Макарьев монастырь ушел от жестокой мачехи отрок Никита Минин. Сделав небольшой вклад деньгами, он жил здесь некоторое время, но затем был возвращен отцом в родной дом. Пострижениками Желтоводской обители были такие архиереи, как митрополит Корнилий Казанский, архиепископы Илларион Рязанский и Симеон Сибирский.
Без сомнения, Макарьев монастырь сыграл большую роль и в жизни будущего коломенского епископа. Здесь поповский сын принял постриг и был наречен Павлом. Здесь он проходил строгое иноческое житие, приобщаясь к книжной премудрости, и как опытный подвижник получил почетное прозвание «старца». Скорее всего, именно здесь он был рукоположен в священники.
В обители Павел исполнял обязанности казначея. Его имя упоминается среди монастырских казначеев в «духовной памяти» (завещании) инока Аврамия. Казначейскую должность Павел занимал, по-видимому, с 1636 года. Именно под этим годом в духовной он впервые упомянут как казначей. В этом году «при казначее старце Павле куплен колокол большой благовестный, пятьдесят пуд»[44]44
Духовная изустная память строителя Макарьево-Желтоводского монастыря Аврамия// Временник Общества истории и древностей российских. М., 1850. Кн. 8. С. 47 (Смесь).
[Закрыть].
В 1640 году, составляя свое завещание, Аврамий «приказывал» до поставления игумена управлять Желтоводской обителью «того же монастыря казначею старцу Павлу, да старцу Леонтию Макарову, да старцу Иосифу»[45]45
Там же. С. 49.
[Закрыть]. Это позволяет думать, что Павел был исполнительным и честным человеком, достойным доверия, иначе ему вряд ли была бы поручена ответственная казначейская служба и временное управление монастырем.
Летом 1651 года отец Павел был призван в Москву и возведен патриархом Иосифом на должность игумена древнего Пафнутьево-Боровского монастыря. Скорее всего, на игуменство в прославленной обители Павел был поставлен по рекомендации будущего патриарха Никона, ставшего к тому времени новгородским митрополитом и «собинным» (особенным, личным) другом молодого самодержца Алексея Михайловича. От непродолжительного настоятельства Павла сохранились только копии двух челобитных на царское имя, ныне хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов[46]46
РГАДА. Ф. 159. On. 1. Ед. хр. 916. Л. 269–271.
[Закрыть].
После смерти патриарха Иосифа 15 апреля 1652 года Собор высшего русского духовенства избрал кандидатами на святейший престол двенадцать «мужей духовных», среди которых упоминаются имена новгородского митрополита Никона и «из Боровска Пафнотева монастыря игумена Павла».
По воле государя, желавшего видеть на московском архипастырском престоле своего «собинного» друга, патриархом был избран Никон. Участие же в выборах боровского игумена и остальных претендентов являлось простой формальностью, хотя и свидетельствует о том, сколь высокого мнения о Павле были современники.
Начало патриаршества Никона не предвещало воровскому настоятелю ничего плохого. В ноябре 1652 года игумен Павел был рукоположен Никоном в епископы подмосковного города Коломны, о чем свидетельствует запись в Приходной книге Патриаршего казенного приказа: «Ноября в 17 день: у Павла, епископа Коломенского и Каширского, на его поставление за стол тридцать рублев взято»[47]47
РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Ед. хр. 33. Л. 1001.
[Закрыть].
Коломенская епархия была одной из старейших на Руси. Подробное и интересное описание этой епархии, кафедрального Успенского собора, епископской ризницы и архиерейских палат оставил архидиакон Павел Алеппский.
Коломенское епископство считалось небогатым и небольшим, хотя архидиакон с трудом мог в это поверить: «Говорят, будто епархия эта бедна и мала, да поможет ей Бог, а она больше области трех патриархов: антиохийского, александрийского и иерусалимского!»[48]48
Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. С. 228.
[Закрыть]
В состав епархии, кроме самой Коломны, важного торгового центра, входили такие крупные города, как Серпухов, Кашира и Тула. Располагая значительными средствами, коломенский епископ держал при себе целый штат прислуги, духовенства и охраны. «Говорят, этому епископству принадлежат триста воинов-янычар <стрельцов>, коих оно имеет для своей охраны и защиты, для сбережения своих выгод и надзора… Когда епископ едет куда-нибудь, они сопровождают его всюду, куда бы он ни отправлялся»[49]49
Там же. С. 227.
[Закрыть].
Кроме того, по свидетельству Павла Алеппского, коломенский епископ «имеет при себе священников, диаконов, монахов, анагностов <чтецов>, иподиаконов, певчих, чиновных лиц, поверенных, служителей и ратников (более ста человек). Ежедневно они едят и пьют на ёго счет и два раза в год, летом и зимой, получают жалование и одежду. Сочти, сколько нужно на них расходов!»[50]50
Там же. С. 422.
[Закрыть]
Из немногочисленных сохранившихся документов мы узнаем, что святитель Павел управлял епархиею, ставя превыше всего интересы Церкви. Владыка был строгим блюстителем святоотеческих канонов и подвергал суду всякого, дерзнувшего преступить их, даже если нарушителем был могущественный воевода. Поэтому Павел Алеппский восхищенно записал: «Епископ распоряжается в воеводствах с властью, не допускающей прекословия. Здесь архиерейское управление ведется хорошо, и возможна жизнь привольная»[51]51
Там же. С, 228.
[Закрыть].
Когда в 1653 году, в начале Великого поста, патриарх Никон рассылал по храмам свою пресловутую «память», коломенский епископ принял сторону противников новшеств – протопопов Иоанна Неронова, Аввакума и Даниила. Таким образом, святитель Павел оказался единственным русским архиереем, посмевшим открыто выступить против Никона и сумевшим однозначно решить для себя сложнейшую дилемму «остаться ли на епископской кафедре без паствы или пойти с паствой без кафедры»[52]52
Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения в девяти томах. Т. III. М., 1988. С. 298.
[Закрыть].
На Соборе 1654 года только владыка Павел дерзнул выступить против церковной реформы. Как рассказывает Павел Алеппский, святитель говорил на Соборе: «С того времени, как мы сделались христианами и получили правую веру по наследству от отцов и дедов благочестивых, мы держались этих обрядов и этой веры и теперь не согласны принять новую веру!»[53]53
Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. С. 229.
[Закрыть]
Слова коломенского епископа не были услышаны, и Собор дал согласие на реформы. Знаменитый старообрядческий писатель XVIII века Семен Денисов в мартирологе[54]54
Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые редакцией «Братского слова». Т. 1. М., 1875. С. 101–102.
[Закрыть] «Виноград российский» рассказывает, что Никон после Собора хотел лаской склонить коломенского архиерея на свою сторону.
Сначала он говорил Павлу «лестные словеса» и пытался убедить его в необходимости реформ, указывая на «просторечие» древнерусских книг. На это коломенский епископ замечал, что истины евангельские и проповедь апостольская тоже изложены простым языком галилейских рыбарей.
Тогда патриарх указал на несогласие греческих книг и обычаев с традициями Русской Церкви. На это епископ Павел возражал, что хотя новые греческие обычаи не сходны с русскими, зато древние византийские обряды вполне согласуются с московской церковной практикой.
Увидев, что Павел осмеливается ему перечить, Никон столь разгневался, что накинулся на непокорного епископа, сорвал с него иноческую мантию и, как пишет Денисов, собственноручно избил: «Призвав предивного Павла, своима того рукама (оле всезлобныя ярости!) бияше по священному священного лицу. Не усрамився священства великого чина, не устыдевся святости честных седин мужа!»[55]55
Виноград российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном Дионисиевичем (княз. Мышецким). М., 1906. Л. 14 об. – 15 об.
[Закрыть]
Если о рукоприкладстве Никона достоверно не известно, то с уверенностью можно сказать, что по повелению патриарха епископ Павел был отдан на избиение и заключен в темницу.
Московский Собор 1666 года, решая вопрос о низложении Никона, поставил ему это в вину: «Еще же архиерея сам един низверже Никон, кроме всякого поместного Собора, на нем же должен бяше явити его погрешения… По низложении Павла, епископа коломенского, его же из мантии обнажи жестоце и на лютая биения и наказания предаде, и на дальняя заточения предаде, не помянув оного словесе, яко дважды никого же казнити подобает за то же и едино преступление. Тем же прилучися архиереови тому изумитися и погибнути бедному, кроме вести, от зверей ли снеден быв или в воде утопе»[56]56
Историческое исследование дела патриарха Никона. Ч. 2. СПб., 1884. С. 1096.
[Закрыть].
По указанию Никона епископ был отправлен в ссылку: «Немедленно сослали его в заточение вместе с его монахами и слугами и со всем, что при нем было, во внутрь Сибири, за полторы тысячи верст в приморскую область океана»[57]57
Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. С. 229.
[Закрыть].
Позднейшее поморское предание уточняет: сначала святитель был сослан на Онежское озеро, в далекий Палеостровский Рождественский монастырь. Условия этой ссылки были столь суровы, что архидиакон Павел с содроганием писал о судьбе епископа: «Умереть лучше было бы для него, чем жить там, по причине великого стеснения и жалкой жизни, постоянного мрака, голода и совершенного отсутствия хлеба; оттуда ему невозможно убежать и спастись!»
К этому времени относится старообрядческая легенда «о сновидении чернца Анофрея» – сказание о чудесном явлении опального архиерея некоему иноку. Протопоп Иоанн Неронов, сам тогда находившийся в ссылке, рассказывает протопопу Стефану Вонифатьеву в письме от 13 июля 1654 года: «В 162 (1654) году извещение бысть Анофрию пустыннику: показуя ему Бог, яко страдальца, епископа Павла добрый подвиг, вашего же Никона патриарха злоначинание. Зрит бо той Анофрей епископа Павла добре во свете предстояща, со всеми ревнители закона боголюбцы; вашего же патриарха Никона всего омрачена, со всеми послушающими его»[58]58
Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые редакцией «Братского слова». Т. 1. М., 1875. С. 101–102.
[Закрыть].
В Палеостровском монастыре Павел Коломенский пользовался некоторой свободой. К нему «на синее, на славное Онегушко» шли со всей Руси паломники, желающие получить епископское благословение, совет или утешительное слово. Этим людям Павел «немалое время… и ясным гласом, и светлою душею древлецерковного благочестия светлость свободно проповедающу»[59]59
Виноград российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном Дионисиевичем. Л.15 об.
[Закрыть].
Изгнанный святитель принимал паломников и наставлял их:
– Возлюбленные мои братия и чада о Господе! Стойте во благочестии и держитесь предания святых апостол и святых отец, а догматов новых, внесенных в Церковь от Никона и учеников его, не приемлите. Блюдите себя от творящих распри и раздоры, подражайте вере бывших святых архипастырей российских, а в учения странные и чуждые не прилагаетесь. Почитайте священника, без него не пребывайте! На покаяние приходите, посты сохраняйте, пьянственного пития удаляйтесь, Тела Христова не лишайтесь.
По преданию, Павел Коломенский провел в Палеостровском монастыре полтора года. Но поскольку его проповедническая деятельность стала известна в Москве, он (один, без слуг) в феврале-марте 1656 года был переведен под более строгий надзор в древний новгородский Хутынский монастырь, под начал архимандрита Евфимия Барашко.
Соузник протопопа Аввакума диакон Феодор сообщает, что Никон «в ссылку сослал его <Павла> на Хутыню в монастырь Варлаама преподобного. И тамо бысть архимарит Барашко некто. И того Павла епископа мучил, угождая Никону, врагу Христову. И за то тогда Христос отнял язык внезапу у Барашка того, и тако нем ходил до смерти»[60]60
Титова Л.В. Послание дьякона Федора сыну Максиму – литературный и полемический памятник раннего старообрядчества. Новосибирск, 2003. С. 193.
[Закрыть].
В Хутынском монастыре Павел Коломенский был полностью лишен возможности общаться с единомышленниками: патриарх приказал никого не пускать к епископу, а наиболее упорных в своем желании повидаться с опальным архиереем велел хватать и бросать в темницу.
Тогда кроткий Павел взял на себя великий подвиг юродства, который Г.П. Федотов охарактеризовал как «служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силою Духа, духовною властью личности, нередко облеченной пророчеством»[61]61
Федотов Г.Л. Святые Древней Руси. С. 201.
[Закрыть].
О юродстве святителя рассказывает диакон Феодор: «Павел же, той блаженный епископ, начал уродствовати Христа ради».
Внешние наблюдатели посчитали, что Павел «изумился», то есть помешался умом от перенесенных страданий, но это безумство было мнимым. В условиях начавшихся гонений было намного легче проповедовать верность отеческим преданиям, прикрываясь «буйством проповеди», притворным безумием. Так владыка Павел явил собою уникальный образ юродивого епископа, которого не знала ни Греческая Церковь, ни Русская.
Хутынский игумен и монастырская братия, считая Павла сумасшедшим, решили не отягощать себя надзором за «безумцем» и предоставили ему возможность бродить в окрестностях монастыря. Эту свободу владыка всецело употребил для проповеди среди местных жителей.
О том, что Павел по-прежнему проповедует верность «древлему благочестию», стало известно Никону, который решил окончательно погубить непокорного иерарха. Официальные источники глухо говорят о гибели епископа: «Прилучися архиереови тому изумитися и погибнути бедному, кроме вести, от зверей ли снеден быв или в воде утопе».
Протопоп Аввакум, который во время мученичества Павла находился в сибирской ссылке, рассказывает на основании доступных ему свидетельств, что Никон «епископа Павла Коломенского мучил и в новгородских пределах огнем сжег».
Наиболее подробно описывает кончину владыки Павла диакон Феодор: «Никон… посла слуг своих тамо в новгородские пределы, идеже он <Павел>, ходя, странствовал. Они же тамо обретоша его, в пусте месте идуща, и похвативше его, яко волцы кроткую овцу, и убиша его до смерти, и тело его сожгоша огнем по Никонову велению. И тако тому конец рабу Божию сотвори Никон волк, дабы не обличал его, законопреступника»[62]62
Титова Л.B. Послание дьякона Федора сыну Максиму. С. 193.
[Закрыть].
Трагическая кончина Павла последовала по общепринятому старообрядческому преданию 3 апреля 1656 года, в Великий Четверток.
Епископ-мученик Павел стал для староверов одним из наиболее почитаемых святых. Староверы видят в Павле своего первого мученика и исповедника, образец христианской жертвенности и стойкости, «краеугольный камень» всего «древлего благочестия».
Сто лет назад редакция старообрядческого журнала «Церковь» так писала о значении этого человека для русской истории: «Никониане могут гордиться, что они ведут свое духовное начало от столь преступного человека. Старообрядцы же радуются, что за общее их святое дело принес себя в жертву смиренный и кроткий святитель. Восставая против Никона и его нелепых и безрассудных реформ, старообрядцы всегда имели пред собой, как знамя, мученический подвиг этого священномученика; по его святительской воле они отвернулись от жестокого тирана и убийцы. Дух Павла всегда пребывал с ними и руководил ими. А этот дух был апостольским и Христовым духом»[63]63
Прославление мучеников// Церковь: старообрядческий церковно-общественный журнал. [М.]. 1911. № 43. С. 1027.
[Закрыть].
ГЛАВА IV
ОНА ВСЕХ ПОБЕДИЛА
Кажется боярыня Морозова потомку разгадкой всей Московии, ее душой, живым ее светом. И потому это так, что боярыня Морозова – одна из тех, в ком сосредотачивается как бы все вдохновение народа, предельная его правда и святыня, последняя, религиозная тайна его бытия. Эта молодая женщина, боярыня московитская, как бы вобрала в себя свет вдохновения старой Святой Руси и за нее возжелала всех жертв и самой смерти.
И.С. Лукаш
В 1632 году в Москве в семье царского дворецкого Прокопия Феодоровича Соковнина родилась дочь Феодосия. Вместе с ней в отцовском тереме возростали два старших брата, Феодор и Алексей, и младшая сестра Евдокия.
В семнадцать лет скромную и благочестивую красавицу Феодосию выдали замуж за царского спальника и ближнего боярина Глеба Ивановича Морозова. Боярин Морозов, суровый вдовец, был гораздо старше своей юной супруги: ему было далеко за пятьдесят, он был славен и богат, владел более чем двумя тысячами крестьянских дворов.
Еще более славен и богат был его старший брат Борис Иванович, влиятельнейший человек того времени, дядька (воспитатель) и свояк царя Алексея Михайловича, всесильный временщик, бывший молодому самодержцу «во отцово место». Борису Ивановичу принадлежало неслыханное но тем временам богатство – более семи тысяч дворов!
Выйдя замуж за боярина Морозова, Феодосия стала вхожа и в царские палаты, и в дома высшей московской знати. Часто приглашал ее в свои хоромы для духовных бесед деверь, души не чаявший в набожной и кроткой невестке. Муж любил Феодосию, и она отвечала ему почтительной, благоговейной любовью, заповеданной строгими уставами «Домостроя». В1650 году у Морозовых родился сын Иван, болезненный, тихий мальчик.
После смерти бездетного Бориса все его вотчины перешли к брату. А после того, как в 1662 году умер и сам Глеб Иванович, единственным наследником и владельцем несметных богатств рода Морозовых оказался малолетний Иван Глебович, опекаемый матерью.
Неизвестно, когда Феодосия познакомилась с протопопом Аввакумом, ставшим ее духовным отцом. Весною 1664 года Аввакум, вернувшийся из сибирской ссылки в Москву, поселился в доме Морозовой, хотя Алексей Михайлович сначала поместил протопопа с семьей в Кремле, поближе к себе. Но Аввакум предпочел царским хоромам дом боярыни.
Здесь протопоп наставлял духовную дочь в «древлем благочестии», читая вечерами ей душеполезные книги, она же в это время пряла нитки или шила рубахи. Эти нитки, рубахи и деньги Феодосия тайно раздавала нищим.
На сирых и убогих боярыня истратила треть своего огромного состояния. Дома же ходила в заплатанной одежде, а под ней сокровенно носила власяницу, которую надевала, благословляясь у духовного отца: «Благослови до смерти носить! Вдова я молодая после мужа своего, государя, осталася. Пускай тело свое умучаю постом, и жаждею, и прочим оскорблением. И в девках, батюшка, любила Богу молитися, кольми же во вдовах подобает прилежати о души, веще бессмертней»[64]64
Аввакум, прот. О трех исповедницах слово плачевное// Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 448–449.
[Закрыть].
Набожная боярыня щедро подавала милостыню на храмы и монастыри. В своем тереме привечала прокаженных, юродивых и странников. Один из странников, инок Трифилий, рассказал Феодосии о благочестивой подвижнице, старице Мелании – ученице протопопа Аввакума. Морозова призвала старицу к себе, поселила в своем доме и стала ее смиренной послушницей.
Опытная и учительная инокиня, Мелания, наставляла боярыню «сотворити всякое богоугодное дело». Вместе они ходили по тюрьмам и разносили милостыню. Вместе, встав затемно, ежедневно обходили московские святыни и поклонялись им.
В это же время Феодосия захотела принять иночество. Неоднократно она обращалась к своей наставнице, умоляя постричь ее, но Мелания не спешила. Тайный постриг состоялся лишь осенью 1670 года, когда в Москве прилучился знаменитый старообрядческий проповедник, игумен Досифей, который и совершил чин пострижения. Боярыня Феодосия стала черницей Феодорой.
Новоначальная инокиня предалась суровому подвигу – посту, молитве и молчанию – и совершенно устранилась от домашних дел, которые препоручила верным людям.
Между тем царь, овдовевший в 1669 году, решил жениться во второй раз. Избранницею государя стала Наталья Кирилловна Нарышкина, будущая мать Петра I. Брачный пир должен был состояться 22 января 1671 года. На него позвали и Морозову, первую придворную боярыню. Но боярыни Морозовой больше не было, была смиренная инокиня Феодора. И она отказалась, сославшись на болезнь: «Ноги мои зело прискорбны и не могу ни ходить, ни стоять».
Царь не поверил отговорке и воспринял отказ как оскорбление. Топая ногами, «тишайший» государь в гневе кричал: «Возгордилась!» С той поры он возненавидел боярыню и искал случая покарать ее за «гордыню», а заодно и присоединить к казне огромное состояние Морозовых. От недоброжелателей боярыни царь узнал, что она придерживается старообрядчества, и это послужило поводом для опалы.
В начале Рождественского поста 1671 года стало ясно, что Морозову арестуют. Государь сам говорил об этом со своими приближенными, среди которых был кравчий, князь Петр Семенович Урусов, муж Евдокии – младшей сестры боярыни. Вечером 15 ноября, за ужином, Урусов рассказал о готовящемся аресте свояченицы и разрешил жене навестить сестру, повидаться в последний раз. Евдокия допоздна задержалась в доме Морозовой и осталась у нее ночевать. А дома княгиню ждали дети: три дочки и сынок, любезный свет-Васенька.
Глубокой ночью раздался стук в ворота, крики и лай собак. За Морозовой приехали. Боярыня пробудилась в испуге, но Евдокия ободрила ее: «Матушка-сестрица, дерзай! Не бойся – с нами Христос!» Сестры помолились и испросили друг у друга благословения свидетельствовать истину. Феодора спрятала Урусову в чулане, а сама вновь легла на пуховик под иконами.
Тут в опочивальню без стука и приглашения вошел в сопровождении дьяков и стрельцов Иоаким, архимандрит Чудова монастыря, будущий всероссийский патриарх. Архимандрит объявил, что прибыл от самого царя, и заставил Феодору встать для допроса.
Начался обыск – и в чулане нашли княгиню. Иоаким стал допрашивать Феодору: «Как ты крестишься и как молитву творишь?» Она сложила двуперстное крестное знамение и показала ему. Так же поступила и Евдокия, бывшая, как и сестра, старообрядкой и духовной дочерью протопопа Аввакума. Этого было достаточно.
С усмешкой Иоаким обратился к боярыне: «Не умела ты жить в покорении, но утвердилась в своем прекословии, посему постигло тебя царское повеление, чтобы изгнать тебя из дома твоего. Полно тебе жить на высоте, сойди вниз! Встав, иди отсюда!» Но Морозова не повиновалась приказу архимандрита, и ее силой вынесли из опочивальни. Сестер заковали в ножные кандалы и заперли в подвале, а боярским холопам велели крепко стеречь свою госпожу.
Через два дня с сестер сняли цепи и насильно повели в Кремль, в Чудов монастырь на допрос к митрополиту Павлу Крутицкому и архимандриту Иоакиму. На допросе Феодора держалась мужественно, ее не смущали ни слова о покорности царю, ни призывы вспомнить о сыне и домашнем хозяйстве.
На все возражения церковных иерархов она отвечала: «Все вы еретики, власти, от первого и до последнего! Разделите между собою глаголы мои!» Также твердо держалась и княгиня Урусова. Сестер вновь заковали и отправили на двор Морозовой.
На следующий день к узницам приехал думный дьяк и привез тяжелые цепи с ошейниками, которыми заменили легкие кандалы. Феодора целовала новые вериги и радостно восклицала: «Слава Тебе, Господи, что сподобил меня узы апостола Павла возложить на себя!»
Потом сестер разлучили: княгиню Урусову отвели под крепкий начал в Алексеевский монастырь, а боярыню Морозову посадили на дровни и повезли в тюрьму, на бывшее подворье Псково-Печерского монастыря.
Ее везли через Кремль, мимо царских теремов. Думая, что государь из своих покоев смотрит на ее позор, Феодора под звон цепей осеняла себя крестным знамением и простирала к царским окнам десницу с двуперстием. Этот момент изобразил на знаменитой картине живописец В.И. Суриков (1848–1916).
Именно по картине «Боярыня Морозова» (1887), хранящейся в Третьяковской Галерее, старообрядческая мученица известна всему миру. Заснеженная улица старой Москвы, толпа расступается перед дровнями, на которых сидит закованная в цепи немолодая женщина в черном. «Художник остановился на изображении момента увоза Морозовой на допрос, после которого она не возвратится и умрет в ссылке и заточении. Весь сложный строй чувств и переживаний, в котором раскрываются мысли и чувства народа, сложная реакция его на изображенное здесь событие составляют суть содержания»[65]65
Гольдштейн С.Н. В.И. Суриков: 1848–1916. М., 1941. С. 36.
[Закрыть].
Сам художник вспоминал: «Раз ворону на снегу увидел. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила, черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал».
Безусловно, ярчайшее впечатление от картины – лицо Морозовой. Суриков никак не мог найти его: «Я на картине сперва толпу нарисовал, а ее после. И как ни напишу ее лицо – толпа бьет. Очень трудно ее лицо было найти. Ведь сколько времени я его искал. Все лицо мелко было. В толпе терялось». После долгих поисков художник, наконец, увидел лицо одной уральской староверки, приехавшей в Москву: «Я с нее написал этюд в садике, в два часа. И как вставил ее в картину – она всех победила».
По словам писателя В.М. Гаршина, «картина Сурикова удивительно ярко представляет эту замечательную женщину. Всякий, кто знает ее печальную историю, я уверен в том, навсегда будет покорен художником и не будет в состоянии представить себе Феодосию Прокопьевну иначе, чем она изображена на его картине».
А писатель И.С. Лукаш восклицал: «Изнемогающая в цепях и непобедимая боярыня Морозова – живое знамение для всех русских, живых. Как забыть, что ее мощная христианская кровь мощно дышит и во всех нас: она нам знамение Руси о имени Господни»[66]66
Лукаш И.С. Боярыня Морозова// Церковь. Старообрядческий церковно-общественный журнал. М., 1990, вып. 0. [Родина. 1990, № 9]. С. 87.
[Закрыть].
Во время длительного темничного заключения Морозовой умер «от многия печали» болезненный Иван Глебович. Узнав о кончине ненаглядного сына, Феодора рыдала так горько, что даже надзиратели плакали от жалости.
Также убивалась о своих детях и Евдокия Урусова, томившаяся в одиночном заключении в Алексеевском монастыре. На волю, своим «птенцам сирым» и духовному отцу она посылала многочисленные письма, которые Аввакум метко называл «оханьем», так горестны и эмоциональны они были.
К счастью, до наших дней сохранились послания княгини к детям – памятник великой материнской любви. В них чувствуется и безмерная тоска, и твердая воля матери, желающей наставить детей на путь спасения.
Сыну Васеньке, например, Урусова писала: «Буде ты, любезный мой, возлюбишь веру истинную, старую, а от нового от всего станешь беречься, и ты будешь от Бога вечно помилован… А буде грех ради моих возлюбишь ты нынешнюю, новую веру, и ты скоро умрешь и тамо станешь в будущем мучиться. И меня не нарекай уж себе матерью! Уж я не мать тебе, буде ты возлюбишь нынешнюю, новую»[67]67
Письма Е.П. Урусовой// Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. 1. М., 1988. С. 588.
[Закрыть].
Дочерей наставляла: «Поживите хорошо, пекитеся о душе. Все минется, а душа всего дороже!.. Храните веру, во всем любовно поживите, любите друг друга и брата берегите, всему доброму учите брата, чтобы хранил веру. Говорите ему ласково, не ленитеся молиться. Простите, светы мои сердечные»[68]68
Там же. С, 589.
[Закрыть].
Среди этих материнских скорбей царь злорадствовал о кончине Ивана Глебовича: теперь никто не стоял между ним и огромным богатством Морозовых, которое тотчас отошло в государеву казну. Очень быстро Алексей Михайлович расточил все боярское имение: вотчины, стада и табуны раздал приближенным, а драгоценности велел распродать.
Однако ни смерть любимого сына, ни лишение богатства не смогли поколебать веру Морозовой. Она по-прежнему была тверда и непреклонна. За непослушание властям светским и церковным царь велел Феодору, Евдокию и их сподвижницу Марию Данилову, жену стрелецкого головы Иоакинфа Данилова, предать пыткам на дыбе.
Однажды студеной ночью узниц свезли к пыточной избе, где их уже ждали знатные царедворцы, князья Волынский, Воротынский и Одоевский, которые были назначены царем «над муками их стояти». Страдалиц раздели до пояса, связали им руки за спиной и стали поднимать на дыбах, «на стряску».
При этом благородные князья всячески стыдили и укоряли мучениц. Феодора не молчала, но обличала их. За это ее долго (с полчаса) держали «на стряске», отчего веревки протерли руки до жил. Палачи, сняв с дыб обнаженных по пояс женщин с вывернутыми за спину руками, бросили их во дворе на снег. Там они пролежали три часа, а вельможные князья придумывали для них новые пытки и издевательства: жгли огнем и клали на груди мерзлое полено.
Потом Марию немилостиво избили плетями по спине и животу. Эта пытка была столь бесчеловечна, что Морозова в слезах закричала: «Это ли христианство, чтобы так человека умучить?» После истязаний страдалиц развезли обратно по тюрьмам.
Вскоре Феодору с Печерского подворья перевели в Новодевичий монастырь, а оттуда в Хамовническую слободу. Старшая сестра Алексея Михайловича, царевна Ирина, вступилась за боярыню:
– Почто, брат, дурно поступаешь и вдову бедную помыкаешь с места на место? Нехорошо, брат! Попомни службу тебе Бориса и Глеба Морозовых!
От таких слов «тишайший» государь пришел в ярость и закричал не своим голосом:
– Добро, сестрица, добро! Коли ты нянчишься с нею, тотчас готово у меня ей место!
В тот же день Феодору увезли из Москвы в городок Боровск, «в жесткое заточение» в остроге. Вскоре туда же перевели Урусову и Марию Данилову.
Первоначально узницы жили в относительной свободе: несшие охрану стрелецкие сотники Александр Медведский и Иван Чичагов были «задобрены» Иоакинфом Даниловым. Сотники разрешали проносить к узницам съестное, держать в тюрьме сменную одежду, книги и иконы. Но неожиданно все изменилось, когда из Москвы для следствия приехал подьячий Павел Бессонов. Жалкое имущество заключенных он приказал отобрать, а сотников отдал под суд «за неосторожность, что они на караулах стояли оплошно».
Морозову с Урусовой перевели в страшную темницу – пятисаженную земляную яму, а Марию Данилову посадили в тюрьму к уголовникам. Царь повелел не давать сестрам ни пищи, ни питья, а ослушников этого приказа повелел казнить «главною казнью».