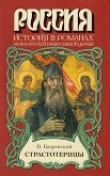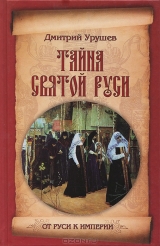
Текст книги "Тайна Святой Руси. История старообрядчества в событиях и лицах"
Автор книги: Дмитрий Урушев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
По единодушному согласию всех старообрядческих иерархов и по благословению владыки Савватия епископы Иоасаф Казанский и Кирилл Нижегородский рукоположили священноинока Арсения в архиерейский сан 24 октября 1897 года в селе Елесине (Нижегородская губ.).
Деятельность епископа Арсения была весьма плодотворна. В 1898 году, после ухода на покой владыки Савватия, свяггитель Арсений был избран местоблюстителем Московской Архиепископии. При его непосредственном участии в октябре 1898 года состоялось избрание и возведение на московский престол архиепископа Иоанна (Картушина, 1837–1915).
Владыка Арсений много содействовал налаживанию ежегодного созыва Освященных Соборов. Он также был учредителем ежегодных Всероссийских съездов старообрядцев, которые пробудили в Церкви новые силы. Его стараниями в 1903 году был поставлен нижегородским епископом его лучший ученик Иннокентий (Усов).
У владыки Арсения не было ни минуты свободного времени. Зиму и лето, день и ночь он был занят церковными делами. Каждый год епископ объезжал свою епархию, посвящая этим поездкам целые месяцы.
Кроме того, ему приходилось временно управлять Нижегородской и Саратовской епархиями. Много сил отнимало ведение обширнейшей переписки и сочинительство. «Как писатель, он очень плодовит и разнообразен. Нет, кажется, ни одного вопроса, важного для старообрядчества, которого бы уральский епископ не коснулся»[185]185
Рябушинский В.Л. Старообрядчество и русское религиозное чувство. С. 96.
[Закрыть].
При этом святитель старался следить за книжными новинками. Например, выписал от Л.Н. Толстого книги «Изложение Евангелия» и «Царство Божие внутри нас». Впечатлением о них епископ поделился в одном письме: «Помаленьку ознакомлюсь с его взглядами, чисто антихристовыми, даже и читать отвратительно. Христос не признается Богом, но каждый человек может быть таким же по всему, как и Христос. И чудес никаких не признает, не знаю, как объяснит Воскресение Его – еще не дочел»[186]186
Арсений, еп. Уральский. Оправдание Старообрядствующей Святой Христовой Церкви. С. 281.
[Закрыть].
В 1906 году, после дарования старообрядцам свободы вероисповедания, по благословению владыки Арсения в городе Уральске (ныне Казахстан) была организована первая в России легальная старообрядческая типография. Для нее был изготовлен оригинальный шрифт, благодаря которому книги «уральской печати» невозможно спутать ни с какими другими.
Сам епископ принимал активное участие в работе типографии. Он подготавливал книги к изданию, иногда правя опечатки в старомосковских богослужебных текстах по западнорусским книгам.
Это вызывало нарекания со стороны некоторых «ревнителей», объявивших владыку Арсения еретиком и «книжным реформатором наподобие Никона». Иногда дело доходило до того, что святителю грозили лишением сана. По этому поводу он писал: «Мне сану не жаль, только не желательно, чтобы свои поставили на меня клеймо еретика. Но что же делать, и Христа свои же нарекли злодеем»[187]187
Там же. С. 344.
[Закрыть].
Эти обвинения огорчали епископа и подрывали его здоровье. Но, несмотря на крайнюю слабость, владыка Арсений не оставлял свою паству без посещения. В последний год жизни он совершил многотрудную пастырскую поездку.
После Пасхи 1908 года он выехал из Уральска в Саратовскую епархию, а потом отправился по приходам Уральской епархии и проехал более 1000 верст на лошадях. Затем поехал в Москву на Освященный Собор, оттуда – во Ржев и Нижний Новгород. Из Нижнего снова отправился в Саратовскую епархию и вернулся домой только 24 августа.
В начале сентября владыка Арсений заболел. Он ходил в типографию и простудился, забыв надеть калоши. На следующий день епископ слег. Он и раньше чувствовал себя нездоровым, но пересиливал болезнь. На этот раз он отказался от врачебной помощи, хотя раньше ей не пренебрегал.
Но и в болезни святитель не оставлял управления епархией, продолжая свою переписку. За пять дней до смерти он наставлял в письме молодого священника: «И хороший дом не сразу отстраивается. А вы поставлены строителями к самому наилучшему дому – Церкви Божией. Посему и нужно не торопясь устраивать его, только бы в конце-то выходило хорошо»[188]188
Арсений, en. Уральский. Оправдание Старообрядствующей… С. 288.
[Закрыть].
Почувствовав приближение смерти, епископ причастился Святых Таин в 2 часа утра 10 сентября, а в 5 часов утра тихо скончался. Его смерть оплакало все старообрядчество.
После кончины святителя Арсения оказалось, что его имущество состояло из одной библиотеки, им собранной и стоящей более 10 тысяч рублей. Денег же не осталось. Хотя благотворители немало жертвовали епископу, он раздавал все деньги бедным приходам и неимущим священникам.
Не оставив по себе презренного злата, владыка Арсений оставил более ценное – многие сочинения, служащие на пользу Церкви, и талантливых учеников. Рябушинский писал о наследии святителя: «Он оставил школу и, пожалуй, мало найдется среди известных старообрядческих деятелей позднейших годов и современности таких лиц, которые не должны прямо или косвенно считаться учениками или последователями уральского епископа»[189]189
Рябушинский В.Л. Старообрядчество и русское религиозное чувство. С. 88.
[Закрыть].
В 2008 году Собор Старообрядческой Церкви, «заслушав свидетельства о богоугодном житии и подвигах в лоне Святой Церкви епископа Арсения Уральского», причислил архиерея к лику святых.
ГЛАВА XVI
И НЕ МОЛЧАТ КОЛОКОЛА
Краткий период между революциями 1905и 1917 годов принято называть «золотым веком» старообрядчества. Воспользовавшись указом Николая II о даровании свободы вероисповедания, староверы за двенадцать лет наверстали то, что упустили за 250 лет гонений.
Точное число старообрядцев в Российской империи неизвестно. Официальная статистика утверждала, что в начале царствования Николая I в стране была всего лишь 627 721 душа «раскольников» (1827 г.)[190]190
Никольский Н.М. История Русской Церкви. С. 277.
[Закрыть]. Причем, если верить статистике, число это ежегодно сокращалось, что свидетельствовало о несомненном служебном рвении полиции и духовенства Синодальной церкви.
Однако, вопреки этому рвению и сведениям статистики, на рубеже XIX–XX веков в стране проживало не менее 15 миллионов староверов. По некоторым данным, «древлему благочестию» следовало до трети всех великороссов.
К старообрядчеству принадлежали крупнейшие предприниматели, в чьих руках были сосредоточены основные промышленные и финансовые ресурсы России. Имена многих широко известны: текстильные фабриканты Морозовы, промышленники и финансисты Рябушинские, владельцы фарфорового производства Кузнецовы.
Прихожанином храмов Рогожского кладбища был коммерции советник, купец первой гильдии Козьма Терентьевич Солдатенков (1818–1901), знаменитый книгоиздатель и устроитель Солдатенковской (Боткинской) больницы. По всей Волге гремела слава крупнейших предпринимателей и благотворителей Дмитрия Васильевича Сироткина (Нижний Новгород) и Ивана Львовича Санина (Самара). А о купцах Мальцевых из Балаково (Саратовская обл.), имевших торговлю по всему миру, говорили, что они диктуют цены на хлеб лондонскому Сити.
Однако эти миллионщики не имели возможности открыто помогать старообрядчеству. В вопросах религиозной жизни они были так же бесправны, как и их простые братья по вере, лишенные многих гражданских свобод.
Бесправие «раскольников» описал в начале XX века правовед М.А. Рейснер: «Если в общем гарантированная расколу терпимость ставит его наряду с религиями грубого язычества, то в частностях раскольники поставлены даже ниже язычников. Так раскольникам запрещается “всякое публичное оказательство” веры, тогда как инородцам это не запрещено. Так раскольники лишены права законного церковного брака, тогда как “каждому племени и народу”, не выключая и язычников, дозволяется вступать в брак по правилам их закона или по принятым обычаям, без участия в том гражданского начальства. Даже самое богослужение раскольников стеснено в высшей степени: они не имеют права иметь свои богослужебные книги, а должны приобретать их в “особой”, учрежденной правительством, типографии. Они не имеют права иметь свои особые священные изображения и иконы, и даже вступление раскольников в иконописные цехи может состояться не иначе, как с разрешения министра внутренних дел»[191]191
Рейснер М.Л. Государство и верующая личность. СПб., 1905. С. 195.
[Закрыть].
Между тем даже иностранцы, посещавшие Россию, восхищались староверами и наилучшим образом отзывались о них. Например, итальянский писатель и ученый Томазо Карлетти, несколько лет проживший в России, писал: «Некоторые поповские секты отличаются большою нравственностью: им запрещено пить вино и курить; они любят просвещение и покровительствуют народному образованию. Мы не ошибемся, если скажем, что поповцы представляют собою самую трудолюбивую и зажиточную часть русского населения»[192]192
Карлетти Т. Современная Россия. СПб., 1895. С. 145.
[Закрыть].
Уже в XIX веке стала очевидной необходимость дарования религиозной свободы старообрядцам. В том столетии, омраченном войнами, заговорами и покушениями, староверы имели возможность не раз засвидетельствовать российскому императорскому престолу свою искреннюю верность. Недаром премьер-министр С.Ю. Витте утверждал, что старообрядцы «всегда составляли элемент наиболее консервативный, наиболее преданный своему царю и родине»[193]193
Витте С.Ю. Воспоминания. Т. II. М., 1960. С. 361.
[Закрыть].
Вот один из многих примеров проявления этого верноподданнического чувства. Когда 1 марта 1881 года народовольцами был убит император Александр И, московские староверы-поповцы тотчас испросили у властей разрешения принести присягу новому государю. Разрешение было получено. В Рождественском соборе на Рогожском кладбище была поставлена походная церковь, пожертвованная Солдатенковым, и после торжественного молебна духовенство и миряне присягнули Александру III.
Правительство этого императора несколько смягчило законодательство о «раскольниках»: 3 мая 1883 года был принят закон, дозволявший свободное отправление старообрядческого культа, но без всяких внешних проявлений – без колокольного звона, крестных ходов и облачения духовенства в ризы. Также староверам дозволялось иметь паспорта и с разрешения властей ремонтировать храмы (что было запрещено с 1826 г.).
В соответствии с этим законом в самый день коронования Александра III, 15 мая 1883 года, в Покровском соборе на Рогожском кладбище была установлена походная церковь, где регулярно совершалась литургия. Но 25 ноября 1884 года временные алтари в кладбищенских храмах были разобраны по распоряжению московского генерал-губернатора. Стало ясно: Александр III не намерен предоставлять старообрядцам полную религиозную свободу.
Долгожданная свобода была получена староверами лишь после революции 1905 года. Правительство императора Николая II, напуганное массовым революционным движением, спешно искало поддержки многомиллионного консервативного старообрядчества и одновременно начинало демократизацию страны. Провозвестием духовной свободы стало открытие алтарей храмов Рогожского кладбища.
Накануне Пасхи, 16 апреля 1905 года, в Рогожскую слободу по высочайшему повелению прибыл генерал-адъютант Д.Б. Голицын.
В Покровском соборе собралось все кладбищенское духовенство и человек триста народу. С амвона Голицын зачитал царскую телеграмму: «Повелеваю в сегодняшний день наступающего светлого праздника распечатать алтари старообрядческих часовен московского Рогожского кладбища и представить впредь состоящим при них старообрядческим настоятелям совершать в них церковные службы. Да послужит это столь желанное старообрядческим миром снятие долговременного запрета новым выражением моего доверия и сердечного благоволения старообрядцам, искони известным своею непоколебимою преданностью престолу»[194]194
Реформы веротерпимости на пороге XX века. Нижний Новгород, 1905. С. 107.
[Закрыть].
Собравшиеся в храме были потрясены. В совершенной тишине Голицын срезал печати с алтарных дверей. Сбили замки с южной диаконской двери (ключи были давно утеряны), зажгли свечи и вошли в алтарь.
Присутствовавший при этом писатель В.А. Гиляровский рассказывал: «Отворили двери. Пахло сыростью, хотя было светло, так как окна не забивались. Сорок девять лет сделали свое дело. Кое-где упали иконы; на полу, покрытые пылью, валялись скелеты голубей и галок, прорвавшихся сюда в разбитые окна и пропавших с голода. Стены заплесневели. Покровы сотлели… Много, очень много попортилось икон и пропала под плесенью стенная живопись»[195]195
Гиляровский В А. Репортаж с места события // Церковь. Старообрядческий церковно-общественный журнал. 2005, вып. 7. С. 13.
[Закрыть]. Потом был распечатан алтарь Рождественского храма.
Через несколько часов у Покровского собора собралось более 10 ООО староверов. До сорока человек убирали алтарь, готовя его к праздничной службе, которая прошла на этот раз необыкновенно торжественно. Слова пасхального канона «Смерти празднуем умерщвение, адово разрушение, иного живота вечнаго начало» верующие восприняли как пророчество о начале новой жизни.
На следующий день, 17 апреля, был издан императорский указ «Об укреплении начал веротерпимости». Он касался всех российских «иноверцев»: мусульман, буддистов, сектантов (протестантов) и старообрядцев. Николай II надеялся, что указ обеспечит «каждому из наших подданных свободу верования и молитв по велениям его совести».
Новый закон запрещал называть староверов «раскольниками», разрешал свободное отправление духовных треб, рассматривал вопросы брака, усыновления, составления завещаний и пр.
В то же время власти лишний раз заявили поповцам о непризнании Белокриницкой иерархии. Указ повелевал старообрядческим священникам и епископам называться только «настоятелями» и «наставниками», хотя и освобождал их от призыва на действительную военную службу. Архиепископу Иоанну, находившемуся в ссылке, было дозволено вернуться в Москву.
Этот закон, пусть и не вполне совершенный, был весьма важен для староверов. Наконец-то поповцы и беспоповцы могли облегченно вздохнуть и заняться спокойным устройством своей религиозной жизни. Период с 1905 по 1917 год стал «золотым веком» русского старообрядчества.
Невозможно в одной главе рассказать обо всех достижениях староверия за эти двенадцать лет. За столь небольшой срок было наверстано то, что старообрядцы упустили за 250 лет гонений.
Строились храмы, открывались школы и училища, созывались съезды и Соборы, создавались политические партии, выпускались граммофонные пластинки с записями церковного пения, издавались богослужебные книги, христианские журналы и газеты.
Даже в начале XXI века староверы сохраняют духовный импульс, полученный в 1905 году. Они молятся в храмах – тогда воздвигнутых, по книгам – тогда напечатанным, пред иконами – тогда написанными.
Дарование свободы вероисповедания в первую очередь коснулось общественной жизни. Открыто созываются Соборы и съезды. Староверы-поповцы устраивают в Москве ежегодные Всероссийские съезды, призванные усилить роль мирян в управлении Церковью. Свои Соборы проводят беспоповцы разных согласий: поморцы, федосеевцы, филипповцы, нетовцы и часовенные.
Голосом освобожденного староверия стали многочисленные периодические издания. Значительнейшими из них были журналы «Церковь» (в 1914–1917 гг. назывался «Слово Церкви»), «Старообрядческая мысль» (до 1910 г. назывался «Церковное пение») и «Старообрядец» (в 1908–1909 гг. назывался «Старообрядцы»).
До 1905 года староверы не могли легально печатать свои богослужебные книги. Им приходилось пользоваться либо старо-московскими изданиями, выпущенными до патриарха Никона, либо книгами, напечатанными в зарубежных типографиях и тайно привезенными в Россию, либо изданиями московской типографии единоверцев. Но теперь церковное книгопечатание становится свободным.
Крупнейшую и лучшую типографию открывают федосеевцы на Преображенском кладбище. Высоким качеством изданий была известна печатня федосеевца Луки Арефьевича Гребнева в селе Старая Тушка (Вятская обл.). Большим ассортиментом и изящными шрифтами славилась типография в городе Уральске, основанная епископом Арсением. В 1910 году своей типографией обзавелось Рогожское кладбище.
Церкви не хватало подготовленных людей, способных преподавать в приходских школах. Эта насущная проблема была решена в 1912 году: на Рогожском кладбище открылся Старообрядческий богословско-учительский институт. На первый курс без экзаменов были приняты 23 человека.
Директором института стал Александр Степанович Рыбаков – отец известного историка, академика Б.А. Рыбакова. К сожалению, Первая мировая война и октябрьский переворот 1917 года поставили крест на планах церковного образования: в 1918 году институт был закрыт.
Но наиболее значительными памятниками дарованной свободе вероисповедания стали многочисленные храмы-новостройки. Часто их проектировали знаменитейшие и лучшие архитекторы. Например, прославленный Ф.О. Шехтель по заказу Мальцевых возвел в Балаково величественную церковь во имя Пресвятой Троицы. Талантливый ученик Шехтеля И.Е. Бондаренко построил в Москве и Подмосковье несколько прекрасных храмов в древнерусском стиле.
Церкви возводились по всей стране. Но, конечно же, особенно много храмов было построено в Первопрестольной столице. Пережившие болыпевицкое лихолетье, не все они, к сожалению, были возвращены законной владелице – Старообрядческой Церкви. Вот лишь некоторые из московских храмов.
Памятником, посвященным распечатыванию алтарей соборов Рогожского кладбища, стал мемориальный храм-колокольня во имя Воскресения Христова. Он был построен на Рогожском кладбище в 1908–1909 годах по проекту архитекторов Ф.Ф. Горностаева и З.И. Иванова. По преданию, колокольня лишь на один кирпич ниже кремлевского «Ивана Великого». Деньги на колокола (30 ООО руб.) пожертвовала потомственная почетная гражданка Москвы Феодосия Ермиловна Морозова.
Другим храмом-памятником стал Успенский собор на Апухтинке (у Покровской заставы), возведенный в 1906–1908 годах по проекту Н.Д. Поликарпова. Великолепная церковь со звонницей строилась по образцу кремлевского Успенского собора. Храм украсили древние иконы, собранные из старообрядческих моленных со всей Руси.
В пятиярусном иконостасе, обложенном серебряной вызолоченной басмой, находились образа XV–XVII веков новгородских и московских писем. В особых киотах помещались иконы «Минеи месячные» строгановского письма. Престол в алтаре был высечен из цельного камня по древнему образцу, здесь же находились иконы корсунских писем XV века.
В храме хранился серебряный ковчег с частицами мощей многих святых: Иоанна Крестителя, апостола Матфея, Николы Чудотворца, Сергия Радонежского, частью Гроба Господня и Ризы Господней[196]196
Козлов В.Ф. Москва старообрядческая. История. Культура. Святыни. М., 2011. С. 252.
[Закрыть].
Чин освящения церкви совершил 9 ноября 1908 года архиепископ Иоанн. Когда в конце всенощной торжественно загудел большой колокол, весивший 350 пудов, многие богомольцы расплакались от счастья. Уже за праздничной трапезой один из них произнес экспромт:
Исчезла вековая мгла,
Кресты и главы заблистали,
И не молчат колокола,
Что два столетия молчали!
Величественный храм на Апухтинке был одним из красивейших в России, а по благолепию и богатству убранства мог поспорить с соборами Кремля и Рогожского кладбища. Не зря искусствовед П.П. Муратов писал: «Впечатление глубокой цельности и тонкой красоты производит такая церковь, как храм Успения у Покровской заставы, созданный не знающим усталости усердием, не знающей ошибок любовью к старине»[197]197
История русскою искусства. Т. VI. М., [1915]. С. 14.
[Закрыть]. К сожалению, эта прекраснейшая церковь была закрыта в 1935 году и перестроена в уродливое четырехэтажное общежитие.
На деньги богатых доброхотов в Москве были построены и другие старообрядческие храмы, не менее красивые и чудесно убранные. Но к настоящему времени Церкви возвращены только два храма: Никольский у Тверской заставы и Покровский на Остоженке.
Величественный Никольский храм у Тверской заставы (Бутырский вал) был построен в псковско-новгородском стиле в 1914–1916 годах по проекту архитекторов И.Г. Кондратенко и А.М. Гуржиенко на средства купцов Ивановых и Ивана Ульяновича Ульянова. Из-за трудностей военного и революционного времени церковь была освящена только в 1921 году. И была закрыта через двадцать лет – в январе 1941 года.
В 1992 году Никольский храм был возвращен старообрядцам. Ныне несколько колоколов с его колокольни находятся в столичной церкви «Большое Вознесение» у Никитских ворот.
Изящный Покровский храм на Остоженке (Турчанинов переулок) строился по проекту В.Д. Адамовича и В.М. Маята в 1907–1908 годах на средства Рябушинских. В основу проекта была положена новгородская церковь Спаса на Нередице. Храм был убран ценнейшими иконами XV–XVII веков из знаменитого собрания банкира С.П. Рябушинского.
В 1938 году церковь была закрыта, а уникальные иконы были переданы в Третьяковскую галерею. И только в 1994 году запущенное здание храма было возвращено староверам.
К сожалению, до сих пор не все московские храмы «золотого века» возвращены Старообрядческой Церкви.
Краснокирпичная церковь во имя Тихвинской иконы Божьей Матери у Серпуховской заставы (Хавская улица) была построена по проекту архитектора Н.Г. Мартьянова в 1911–1912 годах на месте деревянной моленной, известной со времен Петра I. В 1930 году храм был закрыт. Горькие советские годы, когда здание церкви служило клубом и складом скобяных изделий, были для него не самыми худшими. Настоящая беда приключилась в 1991 году.
В то время, когда культовые сооружения возвращались прежним владельцам, городские власти продали бывший храм частному акционерному обществу, устроившему здесь гриль-бар. В 2003 году здание купил некий «православный бизнесмен», пожелавший подарить его никонианам – Московскому Патриархату. Этого не произошло, но законным владельцам, староверам, церковь также не возвращена.
Подобная участь постигла Покровско-Успенский храм близ Немецкого рынка (Малый Гавриков переулок). Необычная двухэтажная церковь, построенная в 1909–1911 годах в русском стиле по проекту архитектора И.Е. Бондаренко, была чудесно убрана древними иконами из коллекции С.П. Рябушинского. Верхний храм, предназначенный для праздничных богослужений, был освящен во имя Покрова Богородицы. Нижний храм, предназначенный для будничных служб, – во имя Успения Богородицы.
В 1933 году храм был закрыт и разорен: наиболее ценные иконы были переданы в Третьяковскую галерею, а колокола – в Большой театр. В здании располагались клуб и спортивная школа. Сейчас в церкви размещается дом физкультуры. Воссозданная в 1995 году церковная община упорно, но безуспешно добивается возвращения храма.
Однако староверы «золотого века» не подозревали о печальной будущности своих святынь. Они жили полной христианской жизнью: строительство церквей, книгоиздательство, открытие учебных заведений… Нежданной свободой старообрядцы сумели воспользоваться в полной мере. Но относительно благополучное и спокойное существование в одночасье кончилось в 1917 году. Все было как во дни Ноя: «ели, пили, женились, выходили замуж… и пришел потоп, и погубил всех» (Лк. 17,27).