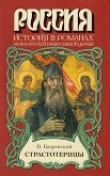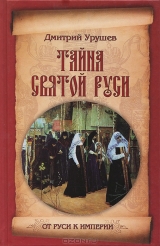
Текст книги "Тайна Святой Руси. История старообрядчества в событиях и лицах"
Автор книги: Дмитрий Урушев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Мученическая кончина и неустанная деятельность митрополита Филиппа накрепко запечатлелись в исторической памяти русского народа. Он являлся не только великолепным устроителем монастырской жизни, но и одним из самых значительных исторических деятелей эпохи Ивана Грозного. Недаром Николай Карамзин увидел в святителе «знаменитейшего из героев древней и новой истории».
Опубликовано: газета «НГ-религии» (приложение к «Независимой газете»), 2006, № 14 (186).
ПАТРИАРХ ТРЕТЬЕГО РИМА
В русской истории необычайно тесно переплетены судьбы государства и Православной Церкви. Интересы державной внутренней и внешней политики нередко отображались в событиях церковной жизни. Иногда религиозные деятели становились заложниками этих интересов, подобно первому московскому патриарху Иову.
Будущий патриарх родился около 1525 года в городе Старице (нынешняя Тверская область) и в миру звался Иоанном. Его родители, числившиеся между посадскими людьми, отдали сына на воспитание в Старицкий Успенский монастырь. По словам древней «Истории о первом патриархе Иове Московском», Иоанн «от той же святой обители архимандрита Германа воспитан и грамоте и всему благочинию изучен и страху Божию добре обучен».
После первоначального обучения грамоте Иоанн тщательно изучил церковные книги. В то время образованные люди уделяли особое внимание развитию памяти. Эта способность у будущего архиерея была развита вполне: «Всю Псалтырь, и Апостол, и Евангелие без книг толкование сказывал и читал». Даже в глубокой старости, потеряв зрение, он совершал литургию по памяти.
Кроме того, Иоанн был обучен переписыванию книг и так овладел искусством излагать свои мысли на бумаге. Юноша принимал самое близкое участие в жизни монастыря, особенно в богослужении, ибо у него был звучный голос: «Прекрасен бо был в пении и во чтении, яко труба дивна всех веселя и услаждая слухи сердца слушателей».

Царь Алексей Михайлович Романов. Гравюра 1655–1678 гг. Государственный музей А.С. Пушкина

Патриарх Никон. Гравюра 1802 г. Государственный музей А.С. Пушкина

Епископ Павел Коломенский. Роспись в приделе Св Илии Пророка в старообрядческом храме Св. Николы Чудотворца (г. Москва). Художник Б.В. Кисельников

Инокиня Феодора (боярыня Морозова) на допросе. Художник Б.В. Кисельников

Казнь протопопа Аввакума и его соузников. Художник Б.В. Кисельников

Князь Иван Андреевич Хованский. Гравюра 1659 г. Государственный музей А.С. Пушкина

Митрополит Амвросий Белокриницкий.
Роспись в преиделе Св. Илии Пророка в старообрядческом храме Св. Николы Чудотворца (г. Москва).
Художник Б.В. Кисельников

Епископ Арсений Уральский. Фотография 1903 г. Из собрания священника А. Лопатина
По достижении совершеннолетия Иоанн принял иноческий постриг и был наречен Иовом. Многие годы провел он в Старицкой обители, пройдя путь от смиренного послушника до почитаемого настоятеля. Как сказано в житии Иова, в христианских добродетелях он превзошел всех: «Во дни же его не обретался человек подобен ему ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни поступью, ни вопросом, ни ответом… Дарование Божие бысть ему паче же прочих человек».
На эти качества инока обратил внимание царь Иоанн Грозный, однажды посетивший Старицкий монастырь. Государевым изволением Иов был назначен архимандритом этой обители. В1571 году он был переведен в Москву настоятелем Симонова монастыря, а в 1575 году стал архимандритом Новоспасского монастыря, считавшегося царским. В 1581 году Иов был посвящен в епископы на кафедру подмосковного города Коломны, а в 1586 году стал архиепископом Ростова Великого.
В том же году по воле царя Федора Иоанновича, сына Иоанна Грозного, Иов стал митрополитом Московским и всея Руси – главой Русской Церкви. Ради этого царь и его шурин Борис Годунов, фактически правивший страной, поспешно удалили с московской кафедры митрополита Дионисия.
Этому архиерею выпал жребий совершить предсмертный постриг в иночество Иоанна Грозного, отпеть и похоронить его, а потом венчать на царство Федора Иоанновича. «Премудрый грамматик» Дионисий слыл за человека умного и образованного, обладающего силой воли и характера.
Вместе с князьями Шуйскими, некоторыми боярами и купцами он принял участие в заговоре против Годунова. Но тот успел предупредить действия недругов: Шуйские и бояре были отправлены в ссылку, «торговые мужики» – казнены, а Дионисий был лишен кафедры и сослан в новгородский Хутынский монастырь.
В начале XVI века ученый старец Филофей из Пскова в споре с католиками, утверждавшими, что первенство в христианском мире принадлежит Риму и Римскому Папе, сформулировал и озвучил аксиому русской средневековой национальной идеологии – учение о Москве-Третьем Риме: Первый Рим пал от «латынской ереси», Второй Рим (Константинополь) пал от нашествия турок, Третий Рим – Москва, а четвертому не бывать.
С этим учением на Руси распространилась уверенность в том, что Московское царство – последний в мире оплот истинной православной веры, а Московская Церковь – единственный гарант неизменности и чистоты этой веры. В это верили и этому учили все старорусские церковные мыслители от Иосифа Волоцкого до протопопа Аввакума.
Такого же мнения держался и митрополит Иов, писавший константинопольскому патриарху, что у русского самодержца «в его государстве, в царствующем граде Москве и во всех его великих государствах российского царствия Христовою благодатью святая наша христианская вера яко солнце под небом сияет, и благочестивые лучи во всю вселенную испущает, и неверующих души просвещает, и от тьмы на свет обращает».
Со времен Иоанна Грозного Русь возвеличилась как мировая православная держава, но ее Церковь продолжала считаться зависимой от константинопольского патриарха. Это не соответствовало действительному положению дел: сильная Церковь в сильной, независимой стране должна была подчиняться слабому греческому патриархату, во всем зависевшему от произвола турецких властей.
Несоответствие это было устранено, когда на Русь прибыл константинопольский патриарх Иеремия. После непростых и долгих переговоров он согласился на учреждение в Москве особой патриаршей кафедры. По желанию царя Федора Иоанновича и Бориса Годунова первым московским патриархом был избран митрополит Иов. В кремлевском Успенском соборе 26 января 1589 года Иеремия возвел Иова на русский патриарший престол.
Как верно заметил историк протоиерей Георгий Флоровский, это стало событием не столько церковной, сколько политической жизни: «Было установлено московское патриаршество во свидетельство независимости и преобладание скорее русского царства, чем самой Русской Церкви… Это был акт политический прежде всего, и он отозвался в самых глубинах народного духа. Это было решительным отречением от Византии».
Ревностно исполнял Иов патриаршее служение. Главной целью его деятельности стало укрепление веры и благочестия на Руси. Заботясь об устроении Церкви, он учредил четыре митрополии: Новгородскую, Казанскую, Ростовскую и Сарско-Подонскую. Его стараниями было построено множество церквей, открыты многие обители, например, Донской монастырь в Москве.
К концу XVI века Русь покорила Сибирь. При Иове эта далекая земля была обращена в христианство: крестились сибирские инородцы, остяки и вогулы, и их князьки. Патриарх также пекся об укреплении благочестия ранее крещенных казанских татар.
Ревнуя о повсеместной проповеди православия, он заботился об издании и распространении душеполезных книг. При Иове на московском Печатном дворе было издано девять наименований церковных книг. Некоторые из них (Минея общая, Октоих и Служебник) были напечатаны впервые.
Живя в столице и занимая высочайший святительский престол, патриарх не оставлял иноческого подвига: «Постник всегда был, николи же не имея гортани своей никакого покоя ни в брашнах, ни в питии. И всегда алчбу и жажду держал волею. И гладен был, а глас его был во обличение питающимся и упивающимся… И обычая своего яко в нищете убогого иночества, тако и в величестве, и в богачестве патриаршества никак не изменил».
Но за относительно спокойными временами последовало кровавое лихолетье Смутного времени. Не оставив по себе наследника, умер 6 января 1598 года «ангел-царь» Федор Иоаннович. Земский Собор избрал на престол Бориса Годунова. Деятельное участие в его избрании принял Иов, приведший народ к крестному целованию новому самодержцу.
В память о почившем государе святитель сочинил хвалебную «Повесть о житии царя Федора Иоанновича». В этом панегирике он описал не столько то, «что было», сколько то, «что должно было быть».
Патриарх изобразил болезненного и безвольного Федора Иоанновича благочестивым самодержцем и кротким богомольцем, имевшим единственное попечение – «вечных благ насладиться и Небесного Царствия сподобиться». Борис Годунов был совершенно идеализирован как «изрядный правитель» и «великий воевода», украшенный «зело преизрядною мудростью» и «благим разумом».
В 1604 году на западных границах Руси объявился самозванец Лжедмитрий. В нем патриарх узнал своего беглого дьякона и писаря Гришку (Юшку) Отрепьева. Стремясь пресечь действия самозванца, святитель рассылал по всей стране обличительные грамоты: «А тот страдник, расстрига, ведомый вор, в мире звали его Юшком Богданов сын Отрепьев, жил у Романовых во дворе и заворовался. От смертной казни постригся в чернецы, и в Чудове монастыре во дьяконах, да и у меня, Иова патриарха, во дворе для книжного письма побыл во дьяконах же. А после того сбежал с Москвы в Литву».
Иов призывал не потворствовать самозванцу, а выдать властям для наказания. Он предал проклятию тех, «которые государю изменили, а тому вору и богоотступнику последуют и именуют его князем Дмитрием». Но народ был глух к этим воззваниям. Он давно уже ждал прихода «доброго царя», и с этим ничего нельзя было поделать.
Тогда святитель предал анафеме Лжедмитрия и его сообщников как злодеев и еретиков, замышляющих «церкви Божии разорять, и веру христианскую попрать, и учинить в российском государстве во святых Божиих церквах костелы латынские, и люторские, и жидовские». По указу патриарха анафему возглашали во всех храмах.
Неожиданно 13 апреля 1605 года скончался от апоплексического удара царь Борис, оставив престол сыну Федору. При его кончине, ярко изображенной А.С. Пушкиным в драме «Борис Годунов», присутствовал и Иов. Великий классик был верен истории, вложив в уста умирающего самодержца слова:
Все кончено – глаза мои темнеют,
Я чувствую могильный хлад… Кто там?
А, схима… Так, святое постриженье!
Ударил час, в монахи царь идет,
И темный гроб моею будет кельей…
Повремени, владыко патриарх,
Я царь еще. Внемлите вы, бояре!
Се тот, кому приказываю царство,
Целуйте крест Феодору… Басманов,
Друзья мои… при гробе вас молю
Ему служить усердием и правдой!
Но «друзья» не спешили присягать юному Федору Борисовичу. Среди всенародного смятения только Иов сохранял твердость духа и до конца оставался верным Годуновым. Он призвал войско целовать крест царевичу.
Но крестное целование оказалось неискренним, вскоре последовала измена, Федор был вероломно убит, а самозванец вошел в столицу. Святитель отказался признать царем расстригу, своего беглого служку, и разгневанный Лжедмитрий решил свести его с патриаршего престола.
Через несколько дней после убийства царевича Федора мятежники с оружием и дрекольем ворвались в алтарь Успенского собора, где патриарх совершал литургию. Не дав окончить богослужение, они сорвали с Иова ризы и потащили из храма. Боярин Басманов проклинал святителя перед всем народом, называя «Иудой» и виновником «предательств» Годуновых по отношению к «прирожденному государю Дмитрию».
Беснующаяся толпа хотела растерзать старца, но тут раздался крик: «Богат, богат Иов патриарх! Идем и разграбим имения его!» Погромщики оставили архиерея и кинулись грабить патриарший двор, палаты и ризницу.
Измученного Иова в простой иноческой одежде посадили на телегу и повезли в Старицкий Успенский монастырь. Так под конец жизни святитель вернулся в обитель своей юности.
Здесь его с почетом принял архимандрит Дионисий, ставший впоследствии настоятелем Троице-Сергиевой лавры и руководителем ее прославленной обороны. Лжедмитрий приказал Дионисию держать патриарха «во озлоблении скорбном», но архимандрит не выполнил этот наказ, проявив к узнику уважение и заботу.
Между тем в Москве по велению самозванца состоялся Собор, который лишил Иова патриаршества и возвел на его место грека Игнатия, рязанского архиепископа. Игнатий приехал в Старицу, желая получить благословение от опального святителя. Но Иов, как гласит предание, несмотря на угрозы, отказался благословить предателя и только сказал: «По ватаге атаман, а по овцам и пастырь».
Вскоре Лжедмитрий был убит, Игнатий лишился патриаршего сана, а на царский престол был избран князь Василий Шуйский. Бояре и архиереи молили Иова возвратиться на свою кафедру и венчать на царство нового государя. Но патриарх к тому времени ослеп и посему благословил на свое место казанского митрополита Ермогена.
Ради освобождения Руси от захватчиков патриарх Ермоген и царь Василий призвали народ к церковному покаянию, которое просили принять старца Иова. Он прибыл в столицу, и 20 февраля 1607 года в Успенском соборе состоялось всенародное моление.
Москвичи, возглавляемые царем и патриархом, со слезами взывали к Иову: «О пастырь предобрый! Прости нас, словесных овец бывшего твоего стада… Мы же, окаянные, малодушные, своими нравами отбежали от тебя, предивного пастуха. И заблудили в дебри греховодные и сами себе дали на снедь злолютому зверю, иже всегда готов губить души наши. Восхити нас, о богоданный решитель, от нерешимых уз, по данной тебе Божественной благодати».
На это Иов отвечал: «Чада духовные! В сих клятвах и крестного целования преступлении, надеясь на щедроты Божии, прощаем вас и разрешаем соборно, да примите благословение Господне на главах ваших».
Простив и благословив народ, патриарх вернулся в Старицу. Его земные подвиги были завершены – как жил он в этом мире в совершенной простоте, так и уходил из него: в смирении и бедности, вдали от мирской суеты. Четыреста лет назад, в ночь на 19 июня 1607 года, Иов скончался и был погребен в Успенском монастыре.
После него не осталось никакого имущества: в скромной келье были найдены пятнадцать рублей, несколько икон и кое-какой домашний скарб. Свое единственное сокровище – келейную библиотеку в 56 томов – святитель завещал Старицкой обители.
Спустя почти полвека, в 1652 году, при царе Алексее Михайловиче Романове и патриархе Иосифе останки Иова были торжественно перенесены в Москву и перезахоронены в Успенском соборе.
Глядя на бесчисленных богомольцев, пришедших поклониться первому русскому патриарху, Иосиф плакал и говорил царю: «Вот смотри, государь, каково хорошо за правду стоять – и по смерти слава».
При погребении Иова царь и патриарх обсуждали: «Кому ж в ногах у него лежать?» И патриарх просил: «Пожалуй, государь, меня тут, грешного, погресть».
Спустя несколько дней, 15 апреля 1652 года, Иосиф скончался и был погребен возле первого патриарха. С его смертью окончилась целая эпоха русской истории, начавшаяся при Иове.
Царь Алексей Михайлович и его «собинный друг», новый патриарх Никон, отказались от прежней идеологии Третьего Рима. Начался новый период отечественной истории, когда мнение греков и прочих чужестранцев стало решающим в судьбе Русской Церкви.
Опубликовано: газета «НГ-религии» (приложение к «Независимой газете»), 2007, № 12 (206)
ДВЕ ЧЕЛОБИТНЫЕ ИЗ БОРОВСКА
Еще в середине XIX века М.П. Погодин призывал своих современников, молодых ученых, обратиться к биографии Павла Коломенского: «Сколько важного и полезного для науки можно еще сделать, познакомясь с письменною литературою и принявшись с тщанием собирать сведения об исторических наших личностях: что известно у нас в общем обороте о каком-нибудь… епископе Павле?»[198]198
Погодин М.Л. Замечание о родине патриарха Никона и его противников // Москвитянин. 1854. № 19, кн. 1. С. 138.
[Закрыть].
Этот призыв сохраняет свою актуальность до настоящего времени, тем более что единственным ученым, откликнувшимся на него, был С. А. Белокуров, собравший и издавший в двух выпусках «Сказания о Павле, епископе Коломенском» (М., 1905).
Владыка Павел является весьма значимой фигурой не только в трагической истории Раскола, но и вообще в истории русской религиозности. Достаточно вспомнить, что Павел был единственным архиереем, выступившим против реформ Никона, на стороне старообрядцев, что он был единственным в истории православия епископом-юродивым.
Выступление Павла против Никона, патриаршая опала, ссылка и трагическая гибель в 1656 году получили разнообразные трактовки в последующей старообрядческой литературе. Это было обусловлено тем, что источники биографии епископа немногочисленны, противоречивы и по-разному рассказывают о последних годах его жизни. Обнаруженные в последнее время новые документальные источники позволяют более полно восстановить биографию Павла Коломенского.
Документы, связанные с жизнью епископа Павла, представляют большой научный интерес, однако до сих пор практически не выявлены. Нам удалось разыскать в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) три подобных документа. Один из них – грамота от 19 марта 1653 года к архимандриту Кирилло-Белозерского монастыря Митрофану. Она опубликована нами в третьем выпуске сборника научных трудов «Старообрядчество в России» (М., 2004).
Также в РГАДА, в фонде 159 (Приказные дела новой разборки) хранится обширное «Судное дело г. Боровска посадских людей с Пафнутьевым монастырем о пригородных слободах». В этом деле имеются копии двух челобитных 7160 (1652) года, поданных Павлом, тогда игуменом Пафнутьева монастыря, царю Алексею Михайловичу.
В игумены старинного Пафнутьева монастыря Рождества Богородицы в городе Боровске (Калужская обл.) Павел был определен летом 1651 года. А осенью 1652 года он был поставлен в епископы на кафедру Коломенскую и Каширскую.
Фактических данных о настоятельстве отца Павла почти не сохранилось: «Имя сего игумена упоминается в одной только грамоте под означенным 1652 годом. По сей грамоте производилось размежевание усадебных мест для градских жителей и монастырских крестьян, принадлежавших Покровскому Высокому монастырю»[199]199
Леонид (Кавелин). Историко-археологическое и статистическое описание Боровского Пафнутиева монастыря. 2-е изд. Калуга, 1894. С. 125.
[Закрыть]. Пришедший в упадок древний Покровский Высокий монастырь в Боровске был приписан к Пафнутьеву монастырю и управлялся его настоятелем. К сожалению, эта грамота нам неизвестна.
Но сохранились копии двух челобитных игумена Павла «з братьею». В первой иноки жалуются Алексею Михайловичу на дворянина Василия Федоровича Шетнева, мерившего по «государеву указу» «монастырские слободки под Боровском» и переписывавшего их жителей. Монастырские слободы оказались приписаны «на посад», т. е. к городу. Недовольные иноки били челом царю, чтобы он не велел слободских жителей «от монастыря на посад взять».
Алексей Михайлович поручил расследовать это дело князю Юрию Алексеевичу Долгорукому, боярину и первому судье Приказа сыскных дел. Но результат расследования не удовлетворил иноков, поэтому они вторично били челом царю, чтобы «Высоцкой слободке быть за монастырем» и чтобы был издан «государев указ» о «пашенных людишках, которые живут в Никольской слободке».
Неясно, было ли уважено царем челобитье отца Павла. Но, глядя на значительный объем судного дела, можно предположить, что тяжба между монастырем и Боровском продолжалась еще не один десяток лет.
ПЕРВАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ИГУМЕНА ПАВЛА
Царю, государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Росии. Бьют челом твои государевы богомольцы, Пафнутьева монастыря игумен Павел, да келарь Иевище Панин з братьею.
В нынешнем, государь, во 160 году по твоему государеву указу велено Василью Шетневу монастырские наши слободки под Боровском измереть от крайнего посацкого двора до крайнего ж двора монастырских слободок, в кольких саженех мерою будет, и в тех слободках росписать всяких людей торговых, и ремесленых, и промышленых, и пашенных. И по твоему государеву указу Василей Шетнев монастырские слободки с посацкими дворами измерел и в тех слободках людей росписал по торгом, и по промыслом, и которые ремеслишком кормятца.
Милосердый государь, царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии! Пожалуй нас, твоих государевых богомольцов, вели, государь, нам свой государев указ учинить о тех монастырских слободках, которые крестьянца Василья Шетнева в росписи объявились, огороды пашут и кормятца огородным овощем, ездят по городом и по деревням, лук и чеснок продают, и с ыными небольшими товаришки в отъезд ездят, а иные кормятца своим ремеслишком всяким и пашню на себя пашут.
Не вели, государь, у нас тех крестьянец от монастыря на посад взять. А которые крестьянца торговые, в лавках торгуют, и откупщики, и о тех крестьянцах, как тебе Праведной Бог известит. А у нас, государь, тех слободок крестьянца в приход воинских людей под Пафнутьев монастырь будут в осаду стрельцы и пушкари, и всякие боевые осадные люди.
Царь-государь, смилуйся, пожалуй!
А на челобитной помета: государь пожаловал, велел боярину князю Юрью Алексеевичи) Долгоруково доложить себя государя без молчания.
ВТОРАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ ИГУМЕНА ПАВЛА
Государю, царю и великому князю Алексею Михайловичи) всеа Русии. Бьют челом твои государевы богомольцы, Рожества Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря игумен Павел, да келарь Иев Панин з братьею.
В нынешнем, государь, во 160 году по твоему государеву указу посылан в Боровеск Василей Шетнев. А по наказу велено ему, Василью, Пафнутьева монастыря отписные слободки измереть трехаршинною саженью от посацкого крайнего двора до крайнего ж двора монастырских слободок. И Василей Шетнев те монастырские слободки измерел, и людей в них розобрал, и росписал, и учинил одну роспись дальним и ближним слободкам. А указ нам против твоего государева указу не учинил.
И твой государев боярин князь Юрья Алексеевичь Долгоруково тое Васильевой расписи слушав, указал монастырские слободки – слободку Мякишеву, слободку Мельничную – взять на тебя, государя, с торговыми, и с промышлеными, и с ремеслеными людьми, а молодчих и пашенных людишек отдать в монастырь и свесть их на монастырскую землю. А слободку Высоцкую и Никольскую взять на тебя, государя, без розбору со всеми людьми. А та, государь, Высоцкая слободка от посаду – от крайнего посацкого двора до крайнего ж двора монастырские Высоцкие слободки – по мере двести с лишком сажен. А в Никольской слободке шесть дворишков, а живут в них пашенные людишка, один торговой человек.
Милосердый государь, царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии! Пожалуй нас, богомольцов своих, по прежнему своему государеву указу. Вели, государь, той Высоцкой слободки быть за монастырем, что та слободка в дальних саженех от посаду. И о пашенных людишках, которые живут в Никольской слободке, свой государев указ учини.
Царь-государь, смилуйся, пожалуй!
На челобитной помета: 160 года, апреля в 8 день. Выписать из росписи Василья Шетнева и из указу, что велено ему делать, и против ли государева указу учинил Василей Шетнев, и о близости – в скольких саженех мерял слободы от посаду. И на пример выписать против серпуховских и против ростовских монастырей, в кольких саженех от посадов монастырские слободы иманы к посаду.
РГАДА. Ф. 159. On. 1. Ед. хр. 916. Л. 269–271.
Опубликовано: журнал «Культура и здоровье2011, № 1.
ЯБЛОКИ НА СНЕГУ
Приближается Новый год, излюбленный праздник россиян. Впереди – наряженные елки, шампанское, мандарины и звон бокалов под бой кремлевских курантов. И даже не верится, что триста лет назад царь Петр I буквально силой заставлял своих подданных радоваться наступлению Нового года!
Государев указ, объявленный в Москве 19 декабря 1699 г., гласил следующее: «С 1 генваря 1700 года лета счислять в приказах и во всех делах по-новому». Указ повелевал горожанам встречать праздник торжественно, с перезвоном колоколов, пушечным и ружейным салютом, поздравляя друг друга «с новым годом и столетним веком». А столичная «чернь» обязывались «для украшения улиц и домов заготовить ельнику и подобных оному зеленых ветвей».
С самого начала празднеству был придан религиозный характер. В новогоднюю полночь во всех московских церквах началось всенощное бдение, завершившееся поутру литургией и молебном. Сам Петр с придворными присутствовал в Успенском соборе на богослужении, совершавшемся «со всем духовным великолепием». Когда во время молебна было возглашено многолетие царской семье, по всему городу начался колокольный звон и пушечная пальба. Потом участникам торжества, священнослужителям и придворным предложили праздничную трапезу, на которую бояре должны были явиться с женами и в «немецком платье». Простолюдинов угощали на улице вином и пивом.
И бояре, сидевшие в кремлевских хоромах в куцых голландских кафтанишках, и народ, выпивавший на морозе за государев счет, шепотком поругивали царя. Виданное ли дело, Бог сотворил мир в сентябре месяце, а простой смертный, пусть и всероссийский самодержец, переносит начало года на январь!
На Руси было принято отмечать новолетие (Новый год) 1 сентября. Этот праздник пришел к нам из Византии вместе со строгими канонами православия. В святцах он назывался «началом индикту, сиречь новому лету». Стоит отметить, что и летосчисление в то время велось от Сотворения мира или от Адама. Церковный устав предписывал в этот день совершать особое «действо» – богослужение с молебном, водосвятием и крестным ходом. Сентябрьское новолетие было понятно мифологическому сознанию русских людей. В это время уже поспевают яблоки, которыми, согласно библейскому рассказу, соблазнились в райском саду Адам и Ева. А зимой яблок не бывает! Значит, рассуждали москвичи, не мог Господь создать мир в январе, значит, царь лукавит, обманывает христиан. Да и не царь это вовсе, поговаривали в народе, а богоборец-антихрист.
Историки утверждают, что Петр, желая отвлечь подданных от столь непозволительных мыслей, повелел устроить в столице «фейерверки с великим множеством разных потешных огней, с по-следствуемым от многочисленных пушечных выстрелов громом». Москвичи глохли от салюта, вздрагивали от взрывов невиданных шутих, расцвечивавших вечернее небо, и с грустью вспоминали, как степенно и чинно встречал новое лето Господне отец Петра, «тишайший» государь Алексей Михайлович.
О торжестве сентябрьского новолетия сохранилось немало сведений. Подробно рассказывают о нем «Дворцовые разряды», своеобразные хроники придворной жизни XVII века.
В первый день нового года совершалось церковное «действо». Из теремов отправлялся на молитву в Благовещенский собор царь в многоценном праздничном одеянии, окруженный нарядными придворными. Бояре и дворяне были «в золотом платье и в шапках горлатных», рынды (царские телохранители) – «в белом платье», а стрельцы – «с ружьем, в цветном платье». В это же время в Успенском соборе молился патриарх с многочисленным духовенством.
После богослужения царь и патриарх под звон колоколов, в сопровождении икон и крестов выходили на Соборную площадь к храму архангела Михаила, где был устроен специальный помост, устланный персидскими коврами. Здесь по обычаю совершался молебен о начале нового лета и водосвятие, после которого государь выслушивал многословные поздравления от патриарха и бояр. Потом царь приглашал светские и духовные власти к себе на пир, обычно устраивавшийся в Грановитой палате. Царица с ближними боярынями трапезничала в Золотой палате.
Что же подавали на праздничный стол? В «Дворцовых разрядах» нет описания царской трапезы, но, несомненно, она была великолепной. По обилию яств ей ничуть не уступал постный новогодний обед патриарха. Для примера перечислим лишь некоторые кушанья, поданные 1 сентября 1698 года патриарху Адриану: шесть папошников (хлебов), четыре «пирога долгих с яйцы», оладьи путные, пироги подовые, пироги-сырники, яичница, сбитень, щи и две ухи, икра зернистая, вязига под хреном, две щуки-колодки, полголовы белужьи, полголовы осетровые, рыба паровая (судак, лещ, язь, стерлядь) и рассольная (лещ и окунь). Но, наверное, главным украшением стола было блюдо с загадочным названием «кавардак».
В новолетие Алексей Михайлович награждал своих приближенных, или «жаловал для своей государской всемирной радости». Жаловались либо чины, либо деньги, либо ценные подарки. Например, в 1667 году царь пожаловал митрополитам и епископам «по кубку, по атласу, по сороку соболей». Этот подарок скромен по сравнению с собольей шубой «под бархатом золотным» стоимостью в 365 рублей 20 алтын, серебряным позолоченным кубком и 140 рублями, пожалованными в 1671 году воеводе Юрию Алексеевичу Долгорукому за подавление восстания Стеньки Разина. А в 1674 году царь раздавал «боярам по 100 рублев, окольничим по 70 рублев, думным дворянам по 50 рублев».
Все эти патриархальные, немножко восточные, обычаи старо-московского новолетия были отменены Петром I, пытавшимся перекроить Русь по европейскому лекалу. И хотя нашим предкам изначально не понравилась очередная царская затея, Новый год постепенно прижился, хотя всегда уступал по популярности таким церковным торжествам, как Пасха, Рождество или Троица. Но в Советском Союзе и современной России Новый год, без сомнения, стал главнейшим праздником.
За нарядные елки, долгожданные подарки, искристое шампанское и мимолетное детское счастье россияне должны благодарить царя Петра, властного и крутого самодержца. Если бы не он, не было бы у России праздника, объединяющего всех ее граждан независимо от национальности и веры.
Опубликовано: газета «НГ-религии» (приложение к «Независимой газете»), 2006, № 22 (194).
СВЯТЫЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
В 1676 г. пал оплот «древлего благочестия» – Соловецкий монастырь. Но наследие прославленной обители не погибло вместе с ней. Его сумели сохранить и приумножить немногие соловецкие иноки, спасшиеся от казни. По их благословению в Поморье, на реке Выг, был создан староверческий монастырь. Выговской обители принадлежит особое место в истории старообрядчества.
Безлюдные леса и «топи блат» русского Поморья – побережья Белого моря – привлекали староверов, скрывавшихся от преследований светских и духовных властей. В 80-е гг. XVII в. в этом суровом краю скитались иноки-старообрядцы из разоренной Соловецкой обители, наставлявшие местных жителей в верности «древлему благочестию».
Среди этих наставников особо выделялся соловецкий иеродиакон Игнатий, еще до начала осады покинувший монастырь из-за разногласий с братией.
Поселившись вместе с учениками в скиту близ Онежского озера, иеродиакон проповедовал о том, что в мире воцарился антихрист, олицетворяемый государственной Церковью, а его верные слуги – царь и патриарх. «Церкви все и обители святые овладела богомерзкая мерзость их, и воинство антихристово везде и повсюду укрепилося», – писал Игнатий.