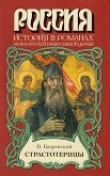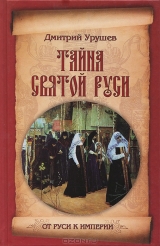
Текст книги "Тайна Святой Руси. История старообрядчества в событиях и лицах"
Автор книги: Дмитрий Урушев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Всякая благодать взята на небо, священство Христово прекратилось, а вместе с ним прекратились и церковные таинства. Поэтому нельзя молиться за царя-«еретика» и принимать крещение, совершенное попами-«еретиками». Впоследствии это учение старообрядческих «радикалов-пессимистов» получило имя «беспоповства», а его приверженцы стали называться «беспоповцами».
По мнению Игнатия, единственный способ спасения в этом гибнущем мире – мученическая смерть. Обращаясь к царю и патриарху, Игнатий восклицал: «Не желаем при вашем царствии живота себе, но желаем смерти!.. И вы нас скончайте всех во едином месте!»
Не дождавшись преследований и казней от властей, Игнатий вместе с последователями захватил в марте 1687 г. Палеостровский Рождественский монастырь, где окончил жизнь жуткою самоубийственною смертью – самосожжением. В «палеостровской гари» погибло 2700 человек.
После гибели Игнатия его скит возглавил бывший церковный дьячок из села Шуньги Даниил Викулин. В 1691 г. в этот скит пришли двое юношей из села Повенец: Иван Белоутов и Андрей Денисов (1674–1730), отпрыск захудалого рода князей Мышецких.
Жизнь в скиту была «нужною» – тяжелою и голодною из-за недородов хлеба. Поэтому в 1694 г. скитская братия переселилась на реку Выг, земли по которой оказались «вельми годны» к пашне. Там уже жил крестьянин-старовер Захарий Дровнин, выжигавший лес, сеявший хлеб и получавший сносные урожаи. Так возникла Выговская обитель.
По свидетельству современника, Даниил Викулин и Андрей Денисов активно занимались проповедью беспоповства и, обходя Поморье, учили: «Время настоящее есть время антихристово! Антихрист в церкви боголепно на престоле сидит». Благодаря этой проповеди слух о новом старообрядческом поселении облетел все Поморье.
На Выг, убегая от антихриста, стали переселяться не только поморы, но и крестьяне, и посадские жители из Москвы, Великого Устюга и Поволжья. Уже через несколько лет посреди дебрей и болот возникла обитель, имевшая хорошо налаженное хозяйство: были распаханы обширные пашни, заведены огороды, разведен скот, организованы торговля, морские зверобойные промыслы и различные кустарные производства. По имени Даниила Викулина новая обитель называлась «Даниловым монастырем», а ее насельники – «даниловцами».
Подробное описание обители в первые годы ее существования содержится в доносе крестьянина Мартемьяна Никифорова, прожившего на Выгу у «раскольников» несколько месяцев. Крестьянин рассказывал, что уже в 1698 г. здесь была «часовня с трапезою самая большая и четырнадцать келий больших же, а людей в скопе в том месте церковных раскольников из розных городов мужеска и женска полу и чернцов и черниц человек с две тысячи».
Первоначально мужчины и женщины жили вместе, но с тщательным разделением. Жизнь даниловцев регламентировал строгий иноческий устав, составленный по образцу общежительного устава Соловецкого монастыря. В1706 г. в 20 верстах от Выговской пустыни на реке Лексе построили особую женскую обитель, первой настоятельницей которой стала Соломония – родная сестра Андрея Денисова.
После того как в 1702 г. ушел на покой Даниил Викулин, общим решением братии киновиархом (настоятелем) был избран Андрей Денисов. Его блестящий организаторский талант сыграл важную роль в обустройстве Выговской обители. Годы настоятельства Андрея стали периодом наивысшего расцвета Данилова монастыря.
Новый настоятель был человеком образованным, отличался житейским здравомыслием и умением идти на компромиссы с властью, что помогало ему хлопотать о делах обители в обеих столицах.
В Санкт-Петербурге Денисов встречался со «светлейшим князем» А.Д. Меншиковым. Киновиарху удалось задобрить Меншикова щедрыми подарками, и в сентябре 1704 г. «светлейший» подписал указ, признававший за выговскими староверами право молиться «по книгам московской печати давних лет выходов» и в то же время обязывавший их быть «во всяком послушании, как и прочих погостов жители».
Приписка старообрядческих поселений к Олонецким металлургическим заводам упрочила положение обители. Указом 1705 г. Выговская пустынь признавалась самостоятельной хозяйственной единицей, которой была обещана защита от всякого «утеснения», что подтверждалось тремя указами Меншикова и Петра I.
Среди насельников Выговской пустыни было много опытных рудознатцев (онежские крестьяне издавна занимались железоделательным промыслом), поэтому обитель успешно выполняла трудовою повинность по изысканию руды для Олонецких заводов. Заводское начальство, состоявшее по большей части из иноземцев, равнодушных к конфессиональной принадлежности старообрядцев, высоко ценило их успехи.
В то же время Андрей Денисов познакомился с Прасковьей Федоровной, вдовой царя Иоанна V Алексеевича, старшего брата Петра I. Знакомство состоялось при помощи одного старовера из Олонецкого уезда, имевшего подряд в Москве на строительство дворца для царственной вдовы и порекомендовавшего ей Андрея как ученейшего книгочея.
Своими знаниями Денисов сумел завоевать расположение Прасковьи Федоровны и был допущен к древним книгам из библиотек кремлевского Успенского собора и Патриаршего двора.
Царица не раз помогала Выговской пустыни, за что староверы благодарили ее различными подарками, например, живыми оленями. Приезжая с дочерьми, среди которых была Анна, будущая российская императрица, отдыхать на лечебные Марциальные воды, Прасковья Федоровна призывала из пустыни Андрея.
Киновиарх должен был жить при ней на Олонецких заводах, постоянно навещая для бесед на благочестивые темы и чтения душеполезных книг. Впоследствии, как рассказывает «Житие Андрея Денисова», написанное в конце XVIII в., Анна Иоанновна вспоминала Андрея, который «часто похаживал к покойной матушке моей, Прасковье Федоровне, и книга читывал. Я помню его, ибо часто видывала еще в девицах у матушки».
Покровительство властей много значило для Выговской пустыни, ведь, как пишет современный историк Е.М. Юхименко, «положение старообрядчества было столь непрочно, что любой донос мог привести к закрытию и разгрому обители; возможность прибегнуть к заступничеству вселяла надежду на благоприятный исход дела и создавала условия для созидательной работы».
Желая заручиться высочайшей благосклонностью, беспоповцы подносили подарки не только вдовствующей царице, но и самому императору, хотя считали его «антихристом» и не молились за него. Когда Петр I приезжал на Олонецкие заводы и Марциальные воды, Андрей Денисов и Даниил Викулин отправляли к нему посыльных с письмами и гостинцами.
«Первые киновиархи прекрасно понимали, что для выполнения главной цели – создания своего собственного, старообрядческого мира – было недостаточно только построить кельи, возвести монастырскую ограду, обеспечить известный материальный достаток. В это тело следовало вдохнуть дух» (Е.М. Юхименко).
Поэтому при Андрее Денисове на Выгу было развернуто настоящее культурное строительство: создавались школы, переписывались книги, собиралась «книжница». В обительской библиотеке, состоявшей из 194 рукописных и 150 печатных книг, были такие раритеты, как «Выголексинский» сборник житий XII в. и список XV в. с «Изборника» Святослава 1073 г.
Благодаря богатой библиотеке многие «даниловцы» смогли получить хорошее самообразование, стать книжниками и начетчиками. Согласно бытующему в Поморье преданию, в Выговской пустыни некоторое время обучался Михайло Ломоносов.
Среди братии знаниями выделялся Андрей Денисов, которого современники называли «мудрости многоценное сокровище». Его «Житие» рассказывает, что в юности Андрей ездил в Киев, где «изучися добре грамматическому и риторскому учению».
Во время поездок по делам обители киновиарх посещал разные города и монастыри, где внимательно изучал церковные древности и посещал книгохранилища для сбора свидетельств в защиту старых богослужебных обрядов.
Обширные знания Андрея пригодились в сентябре 1722 г., когда на Олонецкие заводы по именному указу Петра I прибыл из Синода иеромонах Неофит «для разглагольствования о происходящем церковном несогласии и для увещания». Неофит потребовал, чтобы к концу года староверы письменно ответили на 106 вопросов догматического и исторического характера.
Работа над ответами требовала большого труда и времени, поэтому выговцы несколько раз просили об отсрочке. Только в июне 1723 г. начетчики предоставили иеромонаху апологию «древлего благочестия» – прославленные «Поморские ответы».
Неофит не нашелся, что ответить староверам, и «разглагольствования» не получилось. Замечу, что возражение на «Поморские ответы» не написано по сию пору.
Основная часть этого грандиозного сочинения, ставшего настольной книгой всего старообрядчества, была написана Андреем Денисовым. В основном вопросы Неофита и «Поморские ответы» касаются старых и новых обрядов. Большая часть книги посвящена защите церковной старины и обличению нововведений патриарха Никона.
Но иеромонах также задавал каверзные вопросы «политического» характера. Ответы на них требовали большой изворотливости. Например, Неофит спрашивал староверов о царе Алексее Михайловиче, отце Петра I: «Вы как разумеете о сем, православно ли жизнь свою провождал и в правой ли вере скончался или не в православии?» (72-й вопрос).
Естественно, беспоповцы не могли ответить, что считают отца здравствующего государя «еретиком» и «антихристом», поэтому уклончиво писали: «Не наше дело его государское православие истязать и судить, не наша должность его царское отшествие от сей жизни испытывать и рассуждать. Но нам должно их государское великолепие почитать, нам нужно свое православие соблюдать».
Кроме того, перу Андрея Денисова принадлежит большое количество полемических сочинений и посланий, проповедей, поучений и слов на церковные праздники, с которым киновиарх выступал в соборной часовне. Андрей стоял у истоков той литературной школы, которую принято называть «поморской» или «выговской».
Умер Денисов внезапно в 1730 г., несколько дней проболев «вельми тяжко главною болезнью». О том, сколь много значил для старообрядчества Андрей, рассказывает его «Житие»: столичные «высокие персоны», беседуя о покойном настоятеле, спрашивали некоего выговца: «Еще ли у вас другой Андрей остался таков в разуме, и в книжной премудрости и поучении?» И сами отвечали: «Негде взять и не сыскать и во всех староверцах! И нет, и впредь не будет!»
Выговская братия пожелала иметь своим киновиархом Семена Денисова (1682–1740), младшего брата и «правую руку» Андрея. И хотя Семен отказывался, выговцы «неволею» избрали его на настоятельство. Новый киновиарх проявил себя не только как мудрый духовный вождь, но и как рачительный хозяин. Например, в неурожайном 1731 г. Семен умело организовал хозяйство обители, чем спас общину от голода.
Опала «светлейшего князя» Меншиковав 1727 г. лишила Выговскую пустынь важного покровителя. Относительно благополучное существование обители стали омрачать частые конфликты с духовной и светской властью.
В 1738 г. по доносу бывшего старообрядца Ивана Круглого началось очередное следствие над обителью. В Выговскую пустынь прибыла следственная комиссия во главе с асессором О.Т. Квашниным-Самариным.
Комиссия поставила в вину беспоповцам то, что они не молятся за царскую власть, за императрицу Елизавету Петровну. Растерянные староверы не знали, что делать. Некоторые уже готовились к «вольному страданию» – самосожжению, но наиболее рассудительные из братии утверждали, что «страдать не за что». Рассудок возобладал, и выговцы согласились поминать в молитвах царей и цариц, которых еще недавно считали «антихристами».
Часть беспоповцев, недовольных компромиссом с «еретической» властью, объединилась вокруг инока Филиппа. Филипп, беглый стрелец Фотий Васильев, в 1700 г. оставил цареву службу и пришел в Выговскую пустынь, где принял иночество и предался подвижническому житию.
В 1737 г. Филипп повздорил с киновиархом, оставил обитель и поселился в скиту на реке Умбе. Сюда стали стекаться староверы, недовольные введением молитвы за царей. Поморское беспоповство раскололось на два течения: лояльных к власти «даниловцев» и бескомпромиссных «филипповцев». В 1742 г. старец Филипп и 70 его учеников совершили самосожжение при попытке правительственной карательной команды захватить Умбский скит.
В 1740 г. новым настоятелем Выговской пустыни был избран Иван Филиппов. Новый киновиарх оказался нерешительным человеком, что отчасти объяснялось его преклонным возрастом. Он никогда не называл себя «настоятелем», а только «выборным». Житейским хлопотам Иван предпочитал работу над «Историей Выговской пустыни» – фундаментальной летописью поморского беспоповства.
После Ивана Филиппова обитель возглавляли Мануил Петров, Никифор Семенов и Алексей Тимофеев. Это второе поколение настоятелей уже не пользовалось таким безоговорочным авторитетом, как их предшественники. Поэтому, управляя обителью, новые киновиархи опирались на свою духовную связь с первыми выговскими отцами, прежде всего, братьями Денисовыми.
К этому времени относятся многочисленные хозяйственные достижения Выга: полное обустройство после пожаров мужской и женской обителей (постройка больниц и новой часовни на Лексе), устройство пристани на берегу Онежского озера и организация широкой хлебной торговли.
В 1780 г. настоятелем обители был избран Андрей Борисов, родившийся в Москве в семье богатого откупщика. Борисов принадлежал к Синодальной церкви, но еще в молодости заинтересовался беспоповством. Однако московские староверы крайне настороженно отнеслись к юноше, ходившему в европейском костюме – «во всем убранстве немецком».
В 1754 г. Борисов приехал в Выговскую пустынь все в том же «внешнем уборе». Здесь, пообщавшись с Мануилом Петровым, молодой откупщик решил «отлучиться славы и чести суетного мира». Вскоре Борисов перешел в беспоповство, был перекрещен и поселился на Выгу, пожертвовав все свое состояние на нужды обители.
Борисов был образованным, умным и энергичным человеком широких воззрений. Настоятелем он стал в мирные времена правления императрицы Екатерины II, как известно, отличавшейся веротерпимостью. Только при «матушке Екатерине» староверы смогли на некоторое время передохнуть от столетних гонений.
Началось оживление духовной жизни не только в Поморье, но и по всей России. В Москве и Петербурге возникли крупные беспоповские общины, которые стали претендовать на лидерство. Выгу, попавшему в полную материальную зависимость от богатых столичных купцов, стало все труднее сохранять первенство.
Андрею Борисову удалось восстановить пошатнувшийся авторитет пустыни и вновь сплотить вокруг нее беспоповцев. Несомненно, укреплению позиций Выга могло способствовать создание в Поморье старообрядческой академии, о чем Борисов писал московскому староверу Василию Емельянову: «А мне любо, что наши московские заселят места здесь, и академию заведем, лишь завести! А то наедут, и детей городских обучать станем разным наукам».
К сожалению, благим мечтам не удалось сбыться: помешали три сильнейших пожара летом 1787 г. Все силы киновиарха ушли на восстановление обители.
Возвеличиванию Выга способствовало и возрождение поморской литературной школы. Сам Борисов писал поучения и проповеди, исторические и полемические сочинения, а его ученики – не только прозу, но и стихи.
В конце XVIII в. происходит канонизация поморских отцов (Даниила Викулина, Андрея и Семена Денисовых и др.), составляются их жития, а писатели Григорий Корнаев и Иван Антонов сочиняют в их честь службы с канонами, стихирами, тропарями и кондаками.
В 1791 г. Борисов умер, так и не осуществив своей заветной мечты. После его смерти в обители не осталось ни одного значимого лица, имеющего влияние на российские общины. Выг вновь потерял самостоятельность и независимость от мира.
Возрождение Выга при Андрее Борисове нашло отражение не только в литературе, но и в изобразительном искусстве, пережившем в конце XVIII – начале XIX в. настоящий расцвет.
Нет такой разновидности художественного творчества, которая не получила бы развития на Выгу. Здесь создавались живописные произведения (иконы, лубки и книжные миниатюры), предметы мелкой пластики (резные деревянные кресты и литые металлические иконы) и прикладного искусства (шитье, роспись на мебели и плетение из бересты).
Безымянный путешественник, посетивший Выговскую пустынь в 1786 г., видел в «Даниловом монастыре» «кожевенный завод, на котором вырабатывается подошва и юфть; медеплавительную о двух горнах фабрику с формовою избою для отливания медных образов». В женской обители черницы упражнялись «в пряже, тканье, в вышивании золотом и серебром».
В конце XVIII – начале XIX в., при настоятелях Архипе Дементьеве и Кирилле Михайлове, в беспоповском богословии происходит важная перемена, сравнимая с принятием молитвы за царя. Поморье принимает брачное учение.
Основатели Выговской пустыни Даниил Викулин и Андрей Денисов строго придерживались беспоповского учения о наступлении «царства антихриста» и скором светопреставлении, что делало ненужным супружество и чадородие. Свою обитель они организовывали на строгих иноческих уставах: все, приходившие в «Данилов монастырь», должны были давать обет безбрачия.
Однако проходили годы, а обещанный конец света все не наступал. Совершенное безбрачие не смогло привиться на Выгу, и живущие вне стен обители стали обзаводиться семьями, хотя против этого выступали киновиарх и начетчики.
В 1725 г. было принято специальное постановление, которое определяло телесные наказания для обличенных «в блудном согрешении» и не позволяло крестить новорожденных младенцев, «кроме самыя смертныя нужды».
Однако ничто не могло остановить людей, желавших обзавестись семьей. Это дало повод некоему ревнителю «пустынного жития» скорбно восклицать: «Ныне приходящие к нам слышат везде и видят не полезное, но весьма зазорное поведение. В скиты ли придут? Зрят не вдовствующие чистотою, яко же прежде, мужи и жены, но женящиеся и посягающие видят. Иных же и своих жен от себя изгнавших, с чужими живущих созерцают. В кельи ли внидут? Видят не книги прочитаемы, а колыбели со отрочатами зыблемы».
Поморские богословы были вынуждены более терпимо относиться к брачному вопросу, смотря «сквозь пальцы» на тех, кто обзаводится семьями. По соборному постановлению 1777 г. таких людей уже допускали к общей молитве (за занавесью) и трапезе (за отдельным столом). А в 1795 г. Поморье окончательно приняло брак.
В 1762 г. беспоповец Иван Алексеев написал обширное сочинение «О таинстве брака», в котором доказывал, что брак – это «общенародный христианский обычай», а не церковное таинство. Венчание же («благолепное украшение, случайно устроенное») было введено Церковью для того, чтобы им отличить законное супружество от блудного сожительства.
Учение Алексеева поддержал и развил Василий Емельянов, духовный наставник беспоповской Покровской часовни в Москве. Он считал, что сила брака заключается не в венчании и молитвах иерея, а во взаимном согласии и обещании жениха и невесты, объявленном при свидетелях. В нынешние «антихристовы» времена, при прекращении православного священства, такие браки может благословлять и простой мирянин. Поэтому Емельянов стал самостоятельно совершать бракосочетания, установив для этого особый чин с торжественным молебном.
Новое учение приобрело множество приверженцев, что подтолкнуло московского наставника поехать в Поморье и добиваться поддержки насельников Данилова монастыря. Первоначально выговцы отказались признать брачное учение и принуждали Емельянова отказаться от него.
Трижды наставник «ради мира церковного» подчинялся, однако дело решилось в его пользу в 1795 г. Выговская пустынь вынуждена была признать действительность и законность браков, совершаемых мирянами. Это фактически означало отказ от прежнего эсхатологического учения. Теперь беспоповское учение об антихристе и последних временах приняло весьма условные формы.
Но последние времена все-таки наступили. При императоре Николае I и настоятелях Петре Иванове и Федоре Бабушкине для Выговской пустыни наступили черные дни. Правительство Николая I настойчиво проводило политику «полного искоренения раскола», закончившуюся разгромом прославленной обители.
В 1835 г. насельники Выговской пустыни были приравнены к казенным крестьянам «в видах ослабления раскола и установления порядка». Власти не разрешали молодым людям проживать в обители, сняли со звонниц колокола, запретили ремонтировать ветхие часовни и строить новые.
В 1843 г. на Выг были переселены 53 крестьянские семьи из Псковской губернии, которые были «известны своею любовью к православию». В 1854 г. власти начали сносить ветхие постройки – монастырские ограды, колокольни и кладбищенскую часовню. На следующий год все старообрядцы были высланы из обители по месту прописки. Осталось лишь несколько больных стариков, доживавших свой век в богадельнях.
А в 1856 г. по распоряжению архиепископа Олонецкого и Петрозаводского Аркадия (Федорова) соборные часовни Выга и Лексы вместе со всем их богатым убранством были отобраны у оставшихся немногочисленных беспоповцев и превращены в приходские храмы Синодальной церкви.
Так пала, просуществовав полтора столетия, прославленная Выговская пустынь.
Опубликовано: журнал «Истина и жизнь», 2005, № 4.
УСТА БОГОСЛОВИЯ
В редкой книге по русской литературе XVIII века встретишь имя Семена Денисова. Среди «просвещенных мужей» вроде пиитов Кантемира, Сумарокова или Хераскова, воспевавших на европейский лад «сердца скорби люты», не находится места северному пустыннику, повествовавшему древним слогом «не Ахиллесов гнев и не осаду Трои», а подвиги старообрядческих мучеников.
Семен (Симеон) Денисов родился в 1682 году в Поморье – в селе Повенец на берегу Онежского озера. Отпрыск захудалого рода князей Мышецких, он был воспитан в верности церковной старине. Огромное влияние на Семена оказал старший брат Андрей (1674–1730), юношей покинувший отчий дом ради подвижнического жития. Андрей был в числе тех, кто в 1694 году основал на реке Выг старообрядческую обитель – знаменитую Выговскую пустынь. В 1697 году сюда переселилась вся семья Денисовых.
В 1702 году Андрей Денисов стал настоятелем пустыни, а Семен – его незаменимым помощником. В декабрю 1713 года во время поездки по нуждам обители Семен был арестован как «расколоучитель» новгородским митрополитом Иовом.
Несмотря на все попытки брата освободить его, Семен несколько лет провел в заточении, сопротивляясь усилиям митрополита отвратить своего узника от старообрядчества. Иов даже возил Семена в Санкт-Петербург для увещевания в Синоде, но успеха не имел. В столице Денисова представили самому царю Петру I, который, «взяв оного Симеона пред себе и испытав из тиха на словах и поговори мало, ни его отпустити, ни испытати жестоко не повеле, оставил его тако».
В темнице Семен написал свои первые сочинения: три послания в защиту «древлего благочестия» к митрополиту Иову. Отвечать на них было поручено ученейшему мужу того времени, греку Иоанникию Лихуду, находившемуся тогда в Новгороде. Полемика с митрополитом и Лихудом подвигла Денисова к усиленным литературным упражнениям.
В ночь с 7 на 8 сентября 1717 года Семен бежал из тюрьмы. Но «бояся о себе взыскания», он не сразу вернулся в Выговскую пустынь, а около полугода прожил в Москве. Возвратившись в Поморье, Денисов захотел уединиться и заняться словесными науками. Он провел шесть лет, сидя в келье, «книги читая и риторики с Москвы получая, и в тех упражнялся самоукой, время оное препровождая в охоте и тщании книжном». Первым литературным наставником Семена стал старший брат, по преданию, постигший грамматическое учение и риторическую премудрость в Киево-Могилянской академии.
Скоро Денисов-младший прославился на все старообрядчество как «сладковещательная ластовица и немолчная богословия уста». Вместе с братом он стоял у истоков литературной школы, которую принято называть «поморской» или «выговской». Сочинения авторов этой школы отличались не только красочным языком и выспренним стилем, но и особым историческим подходом, который писатель Борис Шергин определил так: «В противовес мнению высшего общества, будто “русские всегда были во всем невежды”, поморские писатели того времени прямо или косвенно старались напомнить о том, что у русского народа есть славное историческое прошлое».
В1730 году умер Андрей Денисов. Выговская братия пожелала видеть своим «отцом и наставником» Семена. И хотя тот отказывался, его «неволею» избрали на настоятельство.
При Семене Денисове на Выгу продолжилось «культурное строительство», начатое Андреем: собирались рукописные и печатные книги, иконы и предметы церковной старины. В обительских мастерских переписывались и украшались пышным орнаментом книги, писались и отливались из меди иконы, составлялись морские карты и лоции. По всей Руси можно было встретить выговцев: они разъезжали по стране, закупая хлеб, совершали миссионерские поездки, ходили на промыслы в суровое Белое море.
Относительно спокойное существование обители омрачали конфликты с духовными и светскими властями. Священники Синодальной церкви обвиняли староверов в «совращении в раскол» окрестного населения, а чиновники – в укрывательстве беглых помещичьих крестьян.
В1738—1744 годах против обители велось дело Тайной канцелярии. В марте 1739 года на Выг прибыла следственная комиссия. Настоятель по совету братии укрылся в одной из келий, но его нашли и, заковав в железо, взяли под стражу.
Дело Тайной канцелярии закончилось благополучно для пустыни. Но Семен вышел из-под ареста полубольным: «Он вельми стал худ и немощен за караулом, истомил себе великим постом и молением к Богу, всенощным стоянием и великою печалию… И в таковом помянутом утеснении вся внутренняя его повредишася, едва жив на ногах своих хождаше».
Пережитые волнения и тяжкое заключение подорвали силы Семена. Вскоре он совсем слег и скончался 25 сентября 1740 года.
Перу Семена Денисова принадлежат более ста сочинений, удивляющих разнообразием. Тут и произведения уставного характера, и многочисленные проповеди, и поздравления, и надгробные слова, и послания. Вместе с братом он участвовал в написании прославленных «Поморских ответов» – своеобразного старообрядческого катехизиса.
Крупным самостоятельным сочинением Семена является «Виноград российский» – свод житий старообрядческих мучеников. Собирая материал для этой книги, Денисов обращался не только к документам, но и к народной памяти. Если же сведений не хватало, то сочинитель вдохновенно заполнял пробелы ярким риторическим узорочьем.
Вершиной творчества Семена Денисова бесспорно является «История об отцах и страдальцах соловецких», написанная «по умолению отец, паче же по принуждению брата Андрея». Эта книга посвящена знаменитому «соловецкому сидению» – восьмилетнему героическому сопротивлению братии Соловецкого монастыря, отказавшейся принять реформы патриарха Никона и сохранившей верность церковной старине, царским войскам, посланным для ее покорения и усмирения.
Это эпическое сочинение на протяжении нескольких веков оставалось одной из любимейших книг староверов, о чем свидетельствуют многочисленные издания и рукописи «Истории», дошедшие до наших дней. Можно смело утверждать: старообрядческая литература не создала произведения лучшего, чем «История об отцах и страдальцах».
В этой книге соединяются две древние литературные традиции: православная церковная агиография и северная народная словесность. Это сочинение сродни не только житиям святых, но и поморским былинам-старинам. Торжественный слог Денисова – дитя не только риторического художества, но и природного северного красноречия, ведь «у наших поморов слово слово родит, третье само бежит» (Борис Шергин).
И пишет Семен не условным книжным стилем. Язык Денисова – явление первородной мощи. Его стиль близок не только «плетению словес» древнерусской литературы, но и речи поморов, потомков вольных новгородцев, заселивших пятьсот лет назад Белое море. Язык Денисова древен и чист по складу своему, по ритму, по выразительности.
Остается лишь сожалеть, что такой язык непонятен и недоступен большинству наших современников. Увы, ныне, как никогда, актуально печальное наблюдение Белинского о том, что «славянские и вообще старинные книги могут быть предметом изучения, но отнюдь не наслаждения, что ими могут заниматься только ученые люди, а не общество».
Опубликовано: газета «НГ-Ех libris» (приложение к «Независимой газете»), 2012, № 35 (668).
АНТИХРИСТ ЦАРСТВУЕТ В МИРЕ
Церковная реформа патриарха Никона и царя Алексея Михайловича не только расколола русский народ на никониан и староверов, но и разделила самое старообрядческое движение на «традиционалистов-оптимистов» поповцев и «радикалов-пессимистов» беспоповцев.
В конце XVII в. по всей Руси, независимо друг от друга, разные проповедники учили о наступлении «последних времен», воцарении «всепагубного антихриста» и прекращении церковных таинств.
В среднем Поволжье с такой проповедью выступили Козьма Андреев († 1716) и Козьма Панфилов († 1714). Их учение было просто: «Благодати Божией несть ни в церквах, ни в чтении, ни в пении, ни в иконах, ни в какой вещи, все взято на небо». Оба проповедника погибли в застенках Преображенского приказа («политическая полиция» XVIII века).
Их последователи составили особую беспоповскую секту – нетовщину (Нетовское согласие). Название согласия происходит от слова «нет», так как, по учению нетовцев, в мире нет ни истинной Церкви, ни истинного священства, ни истинного богослужения. Иногда нетовцев называют «спасовцами» (Спасово согласие), так как они «надеются на одного Спаса».
В Поморье схожее учение проповедовал Игнатий, иеродиакон Соловецкого монастыря (| 1687). Он верил, что миром правят антихрист и его слуги, «угодник любимый – Алексей (Михайлович) и советник его лукавый – Никон».
Официальная Церковь, утверждал иеродиакон, не Церковь, но «лукавое сонмище и ересям всеприятелище, римскому костелу соединение». Поэтому Игнатий отвергал крещение и все таинства по новому обряду, перекрещивая никониан, переходивших в старообрядчество.
Сходного мнения придерживался и Феодосий Васильев (1661–1711), основатель беспоповского Федосеевского согласия, одной из крупнейших старообрядческих деноминаций дореволюционной России.
Феодосий происходил из захудалой ветви рода князей Урусовых. Его дед, Евстратий, обеднев в годы Смуты и потеряв всех родственников, переселился из Москвы в Великий Новгород. Отец Феодосия, священник Василий, служил при церкви св. Никиты Новгородского в Крестецком Яме.