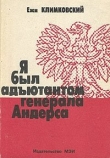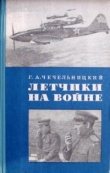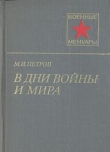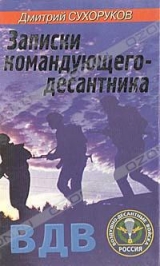
Текст книги "Записки командующего-десантника"
Автор книги: Дмитрий Сухоруков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
54
лометра можно идти только по колено в воде, а затем постепенно начинаются глубины. Это, без сомнения, и спасло десантников, которые приземлялись на воду.
Через два часа снова доклад: все нормально, все живы, травм нет. Повеселели наши лица, я по радио передал командиру полка: «Спасибо, Анатолий Андреевич, тебе за выучку твоих орлов, продолжайте выполнять поставленную задачу».
Во второй половине дня маршал Москаленко дал отбой учению. Полк начал сосредоточиваться у аэродрома Южно-Сахалинска. На следующий день десантники самолетами были возвращены к своему месту дислокации в Белогорск. Так мы выдержали этот серьезнейший этап проверки нашей боеспособности.
В Хабаровске состоялся разбор итоговой проверки войск округа, проведенной Главной инспекцией. Доклад сделал Маршал Советского Союза К. С. Москаленко.
Когда речь в докладе шла об итогах боевой подготовки, среди других, но с лучшей стороны, отмечалась почти по всем показателям наша дивизия. Я при каждом таком тезисе вскакивал и стоял, пока маршал не говорил мне «садитесь». Хотя можно было и не вставать, я опять вскакивал, когда говорилось хорошо о дивизии.
Затем маршал перешел к анализу состояния дисциплины. Много было по этому вопросу сказано нелицеприятного в адрес 98-й дивизии наряду с другими. Тут я уже не вставал, пока маршал не спросил, а где комдив? Пришлось встать, и долго я ждал его разрешения «садитесь». Бывает и так!
По итогам проверки был издан приказ министра обороны. В приказе отмечалась высокая выучка десантников 98-й дивизии и неполная готовность военно-транспортной авиации к проведению десантирования ночью.
Мне как командиру дивизии была объявлена благодарность министра обороны. Не все задачи боевой готовности, подготовки частей и особенно поддержания воинской дисциплины решались так, как
55
нам хотелось бы, много было просчетов, ошибок в нашей работе. Мы понимали это, но мы знали что и как надо делать.
Большую работу проводил среди личного состава политотдел дивизии, возглавляемый полковником В. М. Крутько и подполковником М. И. Гоголевым, заместителями командиров по политчасти. У меня с ними было полное взаимопонимание, каждый из нас занимался своим делом, ощущая всю полноту ответственности, которая ложилась на наши плечи. Политорганы мне не мешали, напротив, от них шла реальная поддержка. Может быть, мне просто везло на порядочных людей, за исключением одного, но об этом позже.
Высокая оценка, данная дивизии, – это заслуга и результат напряженной работы всего личного состава, особенно управления дивизии, командиров и штабов частей, солдат, сержантов и офицеров. Я это понимал и ценил. Люди знали, что я, как командир, ценю их труд, они отвечали тем же.
Этой проверкой фактически и заканчивалось мое командование дивизией. Прощай, ВДВ. Мне тогда казалось, что на этом заканчивалась моя служба в Воздушно-десантных войсках, но в жизни получилось иначе.
Было грустно расставаться с замечательным коллективом. Но нас не спрашивали, где нам служить, и мы не выбирали место службы.
VII
Остров Сахалин
(1966– 1969)
В 1966 году я был назначен командиром 2-го армейского корпуса, дислоцированного на острове Сахалин, где прослужил до конца 1969 года. Перед этим я окончил Высшие академические курсы при Академии Генерального штаба. Это была полезная и необходимая учеба.
Все, кому довелось служить на Дальнем Востоке, и особенно на острове Сахалин, всегда, как мне кажется, будут вспоминать эти свои годы, изумительный край и неповторимую его природу.
Зимой, особенно в конце января-феврале, часто бывают вьюги с обильным снегопадом. За сутки-двое снега выпадало столько, что сугробы доходили до окон вторых этажей зданий, можно было прямо из окна становиться на лыжи и выезжать из дома. На помощь Южно-Сахалинску приходили военные. На ГТС (гусеничные высокопроходимые транспортеры) развозили по магазинам продукты, оказывали помощь населению, расчищали дороги. Как только утихала пурга, заканчивался снегопад и выглядывало солнце, ослепительно сверкал снег и все становились на лыжи.
Недалеко от дома, где мы жили, находился трамплин на горе под названием «Горный воздух». Сотни жителей, сняв верхнюю одежду, голые по пояс, катались на лыжах – Швейцария!
Летом, в июне, погода могла также преподнести сюрприз – шли обильные дожди или снова сыпал на землю снег. В июле приходило резкое потепление, в Анивском заливе начиналось купание. Этот период был коротким, в лучшем случае – пара недель.
Всегда поражала красота осени. Кроны деревьев переливались разноцветными красками. Листья от-
57
дельных растений достигали громадных размеров, одним листом лопуха или папоротника можно было укрыть небольшую машину.
В сентябре начинался ход рыбы на нерест. Это захватывающее зрелище. На острове было несколько рыборазводных питомников. В чанах с проточной водой из искусственно оплодотворенных икринок вырастали мальки. Когда они достигали необходимых размеров, их выпускали в речку, и они уходили в море. Особенность горбуши и кеты в том, что рыба через три года возвращается для икрометания в ту речку, где ее выпустили или где взрослые особи отметали икру.
Рыболовецкие бригады в это время выходили море.
Рыба шла сплошным потоком. В небольших речках, особенно в устьях, вода кишела рыбой. Упорно она пробивалась вверх по рекам, где, отметав икру, выбрасывалась на берег и гибла.
Воинские части закупали лицензии, создавали бригады и вели отлов рыбы. В солдатских столовых стояли бочки с кусками малосольной кеты или горбуши. В магазинах города красную икру продавали на вес. Так было до глубокой осени.
Японцы часто перехватывали идущие к нашим берегам косяки рыб, ставили проволочные сети на путях их движения. Была даже нота протеста нашего правительства правительству Японии по этому вопросу. Как известно, браконьерство со стороны японских рыбаков продолжается и сейчас. По-прежнему пограничники задерживают японские шхуны в наших территориальных водах.
Надо сказать, что японцы после захвата в 1905 году южной части Сахалина нанесли за время своего пребывания на острове значительный ущерб природе. Вокруг Южно-Сахалинска варварски вырублены леса, пни от деревьев оставлены высотой около метра, создается впечатление, что Сахалин служил для них местом, откуда природные богатства интенсивно вывозились в Японию. Японские войска в южной части Сахалина находились только
58
летом. На зиму оставались военные комендатуры для охраны военных городков и подготовки к приему войск с наступлением тепла.
В конце августа 1945 года в результате блестяще проведенной Южно-Сахалинской операции войсками 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта и Северо-Тихоокеанской флотилией был освобожден Южный Сахалин и Курильские острова.
В южной части острова располагались соединения и части 2-го армейского корпуса, а также части истребительной авиации ПВО и небольшая база флота. Семьи наших офицеров в маленьких гарнизонах жили в японских домиках. Это были домики на одну-две семьи. Стены их сооружены из досок, между внешней и внутренней стеной засыпаны опилки или проложен мох. Внутри печь, но труба сразу снизу почему-то выводилась наружу и поднималась вверх вдоль стены. Мы так и не поняли, в чем суть этой архитектуры. А горели эти домики, как бумага. К сожалению, были случаи и гибели в них людей.
От японцев осталась и действовала узкоколейная железная дорога Южно-Сахалинск – Поронайск. Нам часто приходилось ездить по ней. Маленький паровозик, маленькие низкие вагоны, где можно было стоять только согнувшись. Дорога шла вдоль моря, затем петляла между сопок, вагоны качало из стороны в сторону, а зимой, случалось, поезд останавливался где-нибудь на перегоне из-за снежных заносов. В этих случаях вызывался вертолет и командира корпуса вызволяли из снежного плена.
Оперативное предназначение войск корпуса – оборона острова. Боевая подготовка велась с учетом этой задачи. Летом проводились учения с боевыми стрельбами на побережье по надводным целям, а зимой занимались в основном одиночной подготовкой солдат и подготовкой подразделений, расчисткой от снега путей выхода войск из военных городков на свои направления.
Серьезной трудностью для нас было проведение мероприятий по доукомплектованию войск. К час-
59
тям приписывался двойной комплект военнообязанных, но и это не в полной мере решало проблему. Дело в том, что основная масса мужчин на острове – рыбаки и моряки. Они уходили летом в море. Призывать в установленные сроки практически было некого. К сожалению, это не всегда учитывалось старшими начальниками, особенно из генштаба, мерили всех одной меркой.
Еще один парадокс заключался в том, что ежегодно корпус формировал и отправлял по морю на материк автомобильные батальоны для уборки урожая. Грузили автомашины на пароходы в портах Корсаков и Холмск, перевозили их в Совгавань. Затем погрузка в железнодорожные эшелоны, и они следовали в Сибирь, а один раз даже в Ставрополье. Дорого обходился государству этот хлеб.
Возвращались автобаты тем же путем уже поздно осенью. Автомашины стояли на палубах обледенелые, буксирами их стаскивали на берег. В течение нескольких недель мы их приводили в порядок, ремонтировали. На другой год все повторялось сначала. Со стороны округа мы находили взаимопонимание по отправке автомобильных батальонов, но не все зависело и от них.
Были, конечно, и преимущества у службы на острове. Это, во-первых, предоставление полной самостоятельности. Различные комиссии Москвы и Хабаровска к нам прилетали в основном к моменту начала отлова красной рыбы. Офицеры стремились попасть служить на Сахалин. Привлекали льготы: полуторный оклад денежного содержания, паек для семей, выслуга лет – год за полтора. Были льготы и для гражданского населения. Но однажды на остров прилетел Н. С. Хрущев. Выйдя утром на балкон, он увидел ясное небо и солнце. Стоило ему произнести: «Как здесь хорошо, даже лучше, чем на материке», – как через несколько дней после его отлета были отменены все льготы для населения. Начался процесс отъезда людей с острова. И только когда увидели, к чему это привело, были восстановлены льготы – уже при новом руководстве страны.
60
Прилетал на остров и председатель Совета Министров А. Н. Косыгин. От встречи с ним осталось приятное впечатление.
Посетив солдатскую столовую, он сел за стол и попросил подать ему ужин. Подали на металлической тарелке картофельное пюре с рыбой и кусок черного хлеба – солдатскую порцию. Алексей Николаевич спросил: «А что, белого хлеба нет?» Ответили: «По норме не положено, только на завтрак».
– Мы сейчас в состоянии кормить армию лучше, – был его ответ.
Через некоторое время вышло постановление правительства об увеличении нормы белого хлеба, и дополнительно в солдатский паек включались куриные яйца.
Ночевал Косыгин в гостинице на озере Тунайча. При возвращении утром в Южно-Сахалинск была сделана остановка в поселке рыбаков на берегу Охотского моря. Председатель Совета Министров подошел к группе мужчин, стоящих у магазина.
– Что, мужики, так рано стоите у магазина, соображаете на троих?
– Нет, Алексей Николаевич, мы в состоянии купить на каждого по бутылке. В этом году у нас хорошие заработки.
К нему прорвалась через охрану одна женщина и пожаловалась, что маршрутный автобус должен был прийти полчаса назад, а его все нет. Что же это у нас за порядки? Позже, в машине, Алексей Николаевич с довольным видом говорил, что народ надеется на Советскую власть, раз эта женщина считает, что и за опоздание автобуса власть отвечает и должна принять необходимые меры. Секретарь обкома П. А. Леонов обещал разобраться и навести порядок. Тепло попрощавшись с нами в аэропорту, Косыгин улетел в Москву.
Постоянную помощь корпусу, особенно в вопросах обустройства гарнизонов, оказывали командование и военный совет округа. В это время округом командовали генералы И. Г. Павловский, В. Ф. Толубко, О. А. Лосик.
61
Трудности заключались в том, что на острове практически не было своей строительной базы и все завозилось с материка, так же как и материальные запасы, в том числе и продовольствие. В корпусе был свой военный совхоз. Мы выращивали картофель, капусту, обеспечивали войска этой продукцией.
Из всего сказанного видно, что командованию корпуса наряду с руководством войсками, решением вопросов боевой готовности и боевой обученности, приходилось значительное время уделять хозяйственным проблемам, находить их решение. Много работали над этим заместитель по тылу полковник, впоследствии генерал, Николай Семенович Усошин, заместитель по вооружению полковник Борис Семенович Бриль. У меня до сих пор сохранились с ними теплые, дружеские отношения.
В управлении и штабе корпуса был дружный и работоспособный коллектив, и хотя не всегда было все безоблачно, но это была служба.
Заместителем по политической части был генерал-майор Иван Михайлович Россейкин. Я уже писал, что мне везло на порядочных людей. Из их числа и Иван Михайлович. Это был хорошо воспитанный и подготовленный генерал. Он не лез в вопросы командования войсками, а занимался своим делом. В войсках корпуса пользовался авторитетом. Мы жили в одном доме, подружились семьями, а позднее, когда я был уже в Калининграде, породнились. Его сын Владимир окончил Дальневосточное общевойсковое училище, женился на нашей дочери Ларисе, а теперь у нас взрослые внучка и внук, сейчас внучка Элеонора уже подарила нам правнука, прекрасного мальчика Сашу.
В конце 1969 года меня неожиданно вызвали в Москву, в Главное управление кадров. Было предложено вернуться в Воздушно-десантные войска на должность первого заместителя командующего.
Мне не хотелось покидать свой корпус, Дальний Восток. Дела у меня шли хорошо, служба на Саха-
62
лине была интересной. Насколько я знаю, и командование округа не особенно хотело моего отъезда.
Но у нас росли дети, сын поступил в политехнический институт в Хабаровске, дочь на следующий год заканчивала школу. Мы стояли перед выбором – или ехать в Москву, или оставаться на прежнем месте. Жена упорно твердила, что надо ехать, чтобы как-то в будущем определить детей. В конце концов я дал согласие.
С болью в сердце я расставался с корпусом.
В Хабаровске в штабе меня принял командующий войсками округа, а начальник штаба генерал-лейтенант В. И. Петров дал прощальный ужин.
Василий Иванович Петров почти всю свою службу до 1976 года провел на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией, командовал полком, дивизией, армией, был начальником штаба округа, с 1972 года командующий войсками Дальневосточного военного округа, главнокомандующий войсками дальневосточного направления, а с 1980 года – главнокомандующий Сухопутными войсками, затем первый заместитель министра обороны, Маршал Советского Союза. За оказание военной интернациональной помощи одной из стран на Ближнем Востоке был удостоен звания Героя Советского Союза. Это истинно военный человек, крупный военачальник, строгий и справедливый, службу он ставил выше всего. В войсках его авторитет был непререкаем. Все, кто служил с ним, всегда вспоминают о нем доброжелательно, с искренним уважением.
Итак, прощай Дальний Восток и остров Сахалин!
VIII
Снова Воздушно-десантные войска
(1969– 1971)
В январе 1970 года я прибыл в Москву на должность первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками. В управлении шутили: вернулся блудный сын.
Работа заместителя командующего известна: войска, полигоны, учения, выполнение других внезапно возникающих задач. Два года пребывания в этой должности позволили мне познакомиться с областями и республиками, где дислоцировались наши войска, познакомиться со многими людьми, сравнить подготовку сухопутных частей, которыми я командовал, с подготовкой десантников, другими глазами увидеть проблемы войск. Воздушно-десантные соединения и части дислоцировались в Прибалтике, Молдавии, Узбекистане, в Одесской области Украины и в трех центральных областях России. Требовалось тесное взаимодействие с военными округами. Все это пригодилось в моей дальнейшей службе.
Командовал войсками генерал армии Василий Филиппович Маргелов. Его по праву до сих пор, хотя он уже ушел из жизни, называют «десантник номер один». Он прокомандовал Воздушно-десантными войсками более двадцати лет. Никто другой так много не сделал для развития войск, как он, это был самородок, незаурядный человек. Именно такой и нужен был в то время Воздушно-десантным войскам. Личная храбрость и решительность проявились у него еще во время войны. Он закончил войну командиром стрелковой дивизии, Героем Советского Союза. По окончании Академии Генерального штаба вступил в командование Псковской воздушно-десантной дивизией. Здесь же, в возрас-
64
те сорока лет, имея восемь боевых ранений, совершил свой первый парашютный прыжок. В 1950 году его назначают командиром воздушно-десантного корпуса на Дальнем Востоке, а в 1954 году – командующим Воздушно-десантными войсками Советского Союза.
Характерными его чертами были высокая требовательность и предоставление инициативы подчиненным, начатое дело он доводил до конца, смело брал на себя ответственность за свои решения и действия войск. Много внимания уделял парашютно-десантной и физической подготовке своих подчиненных. Воин-десантник в любых условиях обязан действовать самостоятельно, уверенно вести бой в тылу противника, проявлять дерзость и лихость.
В 1969 году боевая машина десанта БМД-1 была принята на вооружение, на ее базе появилась и другая бронетехника, войска оснащались современными противотанковыми средствами и другим вооружением. Командующий держал под своим постоянным контролем разработку, внедрение в производство и оснащение войск новейшей техникой и средствами ее десантирования, в том числе на парашютно-реактивных системах.
В результате этого при нем значительно повысилась огневая мощь и маневренность на поле боя. Это были уже другие войска, способные в тылу противника решать оперативно-стратегические задачи. Генерал Маргелов смело пошел на проведение эксперимента, а затем и внедрение в практику войск десантирования части экипажа внутри боевой машины на парашютных платформах, а позднее и на реактивных системах. Надо было иметь мужество и маргеловский характер, чтобы эти испытания поручить своему сыну Александру, офицеру Воздушно-десантных войск. Спустя более двадцати лет полковнику Маргелову Александру Васильевичу и генерал-лейтенанту Щербакову Владимиру Ивановичу за испытание новой техники и проявленное мужество были присвоены звания Героев России.
Василий Филиппович всегда и везде крепил авторитет ВДВ в масштабе Вооруженных Сил и стра-
65
ны в целом. Войска стали популярными, а за рубежом их называют элитными. По его инициативе в войсках были введены тельняшка и голубой берет – это стало отличием и символом десантников.
Как у каждого, у него были и недостатки личного порядка, но они с лихвой перекрывались его авторитетом у подчиненных. Как я уже говорил, он до сих пор остается в памяти воинов Воздушно-десантных войск как «десантник номер один», а войска ВДВ называют «войска дяди Васи». Уходя в запас, каждый воин-десантник считает своим долгом иметь в «дембельском» альбоме портрет В. Ф. Маргелова.
В качестве первого заместителя командующего ВДВ мне часто приходилось бывать в военных округах на войсковых учениях, в которых принимали участие Воздушно-десантные войска.
Одно из таких учений с десантированием парашютно-десантного полка проводилось в ходе инспектирования Главной инспекцией войск Среднеазиатского военного округа.
Десантирование полка в районе реки Чу прошло нормально, но как только приземлился последний парашютист, вдруг задул «афганец». Все кругом стало черно, тучи песка обрушились на площадку приземления, но люди уже были на земле. Через несколько минут «афганец» ушел, опять выглянуло ослепительное солнце. В общем, десантникам повезло.
По окончании учений там же, в поле, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Кунаев дал обед для офицеров полка. На обеде присутствовали Маршал Советского Союза Москаленко и командующий Среднеазиатским военным округом генерал армии Н. Г. Лященко.
Было поставлено несколько юрт для офицеров. В белой юрте Кунаев давал прием (обед) для генералов. Тут же рядом с юртами резались бараны и жарился шашлык. Официанты принесли на большом блюде запеченную голову барана. Кунаев руками взял глаза барана и преподнес их Москаленко, как самому дорогому гостю. Кирилл Семенович сту-
66
шевался, не зная, что делать. Кунаев спас его, поднял тост за гостей. Так маршал и не отведал бараньи глаза.
В марте 1970 года на заснеженных полях Белоруссии состоялись крупные общевойсковые учения под кодовым названием «Двина», которыми руководил министр обороны А. А. Гречко.
От Воздушно-десантных войск в учениях принимала участие 76-я Черниговская Краснознаменная дивизия под командованием полковника (впоследствии генерала) В.Н. Костылева. Я в должности заместителя командующего непосредственно отвечал за подготовку дивизии и выполнение ею своих задач. Более шести тысяч десантников дивизии и частей усиления всего за 22 минуты были десантированы самолетами военно-транспортной авиации в свои районы и успешно выполнили поставленную задачу. В этом была заслуга и летчиков военно-транспортной авиации. Руководитель учения высоко оценил подготовку и действия десантников.
В июне 1971 года проводились войсковые учения «Юг», также под руководством А. А. Гречко.
На этих учениях 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия десантировалась в один из районов Крыма.
В связи с обострением обстановки в районе Ближнего Востока эта дивизия была передислоцирована с Дальнего Востока в город Болград Одесской области, а один полк в Кишинев, в Молдавию.
Части дивизии разместились на фондах военных городков мотострелковой дивизии, которая в 1968 году ушла в Чехословакию. Особенностью небольшого районного центра Болград было то, что на каждом углу стояли ларьки, где продавалось вино. Офицеры и солдаты частенько утоляли жажду стаканом вина за пять копеек. За одним стаканом следовал другой, третий и т. д. Это становилось проблемой для командования подразделений и частей дивизии.
В учении «Юг» в полном составе участвовала дивизия, которой я командовал на Дальнем Восто-
67
ке. Это была моя родная 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Части дивизии блестяще справились с поставленными задачами. И я испытал чувство гордости за то, что здесь не растеряли традиций, которые были заложены ранее.
Но это было последнее крупное учение для меня как первого заместителя командующего ВДВ. Я, по-видимому, чем-то обратил на себя внимание руководства Министерства обороны на этих учениях. Вскоре меня ждало новое место службы.
Незадолго до этого, наконец, получили квартиру в Москве, даже не успели, как говорится, забить гвоздь в стенку. Дочь заканчивала школу, готовила уроки лежа на полу, не было еще никакой мебели, сын перевелся из Хабаровска в институт в Москве, и вот надо снова уезжать. Настроение в семье было не из лучших, но служба есть служба, тем более что я получил назначение на самостоятельную большую армейскую должность – в Прибалтийский военный округ на должность командующего 11-й армией. Снова прощай ВДВ.
IX
Прибалтийский военный округ. Командарм одиннадцатой. Служба в Закавказском военном округе
(1971– 1976)
В первых числах ноября 1971 года я прибыл поездом в Ригу, в штаб Прибалтийского военного округа. Надев парадную форму, как и положено, представился командующему войсками округа генералу армии Г. И. Хетагурову Он тепло со мной побеседовал, расспросил о моей службе, рассказал об особенностях округа и армии, которой мне предстояло командовать. Затем пригласил в кабинет своих заместителей и основных начальников родов войск и служб, представил меня. В тот же день на самолете командующего я улетел в Калининград, где дислоцировались штаб и управление 11-й армии.
11– я гвардейская общевойсковая армия преобразована в 1943 году из 16-й армии, участвовала в Курской битве, Брянской, Белорусской и Восточно-Прусской операциях. Командующими армией были такие прославленные полководцы, как К. К. Рокоссовский, И. X. Баграмян, ставшие затем Маршалами Советского Союза.
В состав армии входили прославленные в годы войны дивизии, как, например, 1-я Московская Пролетарская дивизия, ведущая свою историю еще со времен гражданской войны, удостоенная пяти боевых орденов, участвовавшая в штурме города-крепости Кенигсберг. Такими же заслуженными были и другие соединения и части. Мы гордились боевыми традициями армии, ее соединений и частей, на этом воспитывались солдаты и офицеры.
Дислоцировались войска на территории Калининградской области (бывшая Восточная Пруссия), это была мощная группировка войск, укомплекто-
69
ванная личным составом, современным вооружением и техникой. Командовать таким объединением – высокая честь и громадная ответственность. Я понимал, что мне оказано большое доверие и теперь я, как командующий, несу личную ответственность за судьбы многих десятков тысяч людей, за боеготовность и боеспособность армии в целом, за готовность ее к выполнению боевых задач по оперативному предназначению. Командовали дивизиями полковники, ставшие впоследствии генералами: Бондаренко, Ряхов, Малышев, Пономаренко, Маргелов.
Штаб армии возглавлял генерал-майор Дмитрий Иванович Михайлик, членом военного совета, начальником политотдела был Александр Иванович Борисов. Это были компетентные, исполнительные, ответственные генералы. На всем протяжении моей службы в армии они оставались настоящими помощниками командующего. Военная служба нас потом разбросала по разным местам, но доброе и уважительное отношение друг к другу сохранилось до сих пор.
Мне хочется сказать, что офицерский коллектив, особенно в звене – полк, дивизия, управления объединений, – наиболее дружен, здесь не предают друг друга, верны офицерской чести и слову. Материальное благополучие тогда не являлось определяющим, никто не строил дач, не обогащался, используя свое служебное положение. Это, как правило, были дружные, работоспособные коллективы. Конечно, попадались и случайные люди, но от них старались избавиться или они сами быстро уходили. Дух стяжательства и наживы пришел позже, в годы «реформ». К сожалению, этому поддались и некоторые генералы, но, к счастью, их мало и армия постепенно избавляется от них.
Материальное положение каждого определялось в рамках денежного содержания, регулярно и в срок выплачиваемого государством, иногда, когда в этом была необходимость, выручала касса взаимопомощи. Ее услугами пользовались практически все, вплоть до меня, когда необходимо было что-то купить, на что не хватало денег.
70
Вступив в должность командующего армией, я в первые же дни объехал все гарнизоны, познакомился с расположением войск, с командным составом. В один из дней представился всему руководству области, командующему Балтийским флотом. В целом у меня сложилось хорошее впечатление от знакомства с частями. Войска занимались своим делом, я не видел оснований что-либо резко менять. Это была заслуга тех командующих, которые руководили до меня и тех генералов и офицеров, которые работали в управлении и штабе армии, в дивизиях и частях.
В одном танковом полку очень мне понравилась теплица. Встретил нас там чистенький, одетый в белую куртку солдат. Он с большой любовью стал показывать свое хозяйство, а на выходе угостил нас свежими огурцами. Я так расчувствовался, что решил тут же наградить его своими наручными часами. Стал снимать с руки, вдруг сзади кто-то меня дернул за китель. Поворачиваюсь, а командир полка отрицательно качает головой. Все же часы я солдату дал, а выйдя поинтересовался, в чем дело. Выясняется, что этот солдат служит уже полгода, но отказывается принимать присягу и брать в руки оружие. Как позже выяснилось, в армии таких оказалось одиннадцать человек, все они были призваны из Западной Украины, то ли баптисты, то ли из какой-то другой секты. По закону – это был отказ от военной службы, прокуратура армии готовила уже материал для передачи в военный трибунал. Пришлось вмешаться мне, их назначили на должности подсобного характера, а с прокурором договорились не возбуждать против них дело. Как потом мне докладывали, они честно работали там, где их поставили, и были очень дисциплинированны и исполнительны.
В конце ноября нас вызвали в штаб округа на оперативный сбор. В ходе этих занятий было решение летучки на картах. Нам выдали задание, карты и дали время на принятие решения. Вечером, накануне заслушивания решений по обстановке, меня в кабинет вызвал командующий генерал Г. И. Хетагуров.
71
– Ты молодой командующий, это будет твой первый доклад у нас в округе. Тебя будут оценивать все, кто на сборах. Вот карта с нанесенным решением руководителя сборов. Посмотри внимательно и, если согласен, используй завтра при докладе своего решения.
Сказав это, он оставил меня одного в кабинете. Через минут 15-20 вернулся и разрешил мне выйти. Почти до часу ночи я и прибывшие со мной офицеры и генералы работали.
На другой день Хетагуров начал заслушивать участников сборов по принятым ими решениям. Дошла очередь и до меня. Я повесил карту и доложил решение. Подводя итоги, Георгий Иванович обратил внимание всех, что недавно прибывший новый командующий армией выбрал решение наиболее целесообразное (это было, конечно, не мое решение, а подсказанное Хетагуровым).
Таким своеобразным способом Георгий Иванович вводил меня в коллектив руководства округом, таков был его метод: не дать сразу «сломаться» вновь прибывшему человеку. Это была единственная поблажка от него, больше никаких скидок не делалось, ни с его стороны, ни со стороны других командующих, которые его сменили.
Генерал Хетагуров основное свое служебное время проводил на Добровольском полигоне, в Риге в штабе округа его можно было застать редко. Он мог неожиданно позвонить и приказать к утру следующего дня вывести такой-то полк или батальон на полигон. Там уже была расставлена мишенная обстановка, в ходе марша командиру офицер штаба округа вручал боевое распоряжение. С ходу развернувшись на полигоне, полк (батальон) переходил в наступление с боевой стрельбой. Командующий лично наблюдал за ходом учения. Это был его излюбленный метод руководства войсками. Мы об этом хорошо знали и принимали заранее соответствующие меры.
У нас вызывали недоумение взаимоотношения между Хетагуровым и Чуйковым. Главнокомандующий Сухопутными войсками Маршал Советского