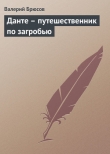Текст книги "Данте"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Данте, новый этруск, – такой же звездочет, астролог, гадатель по звездам, в Святой Поэме своей, каким был и древний этруск, колдун Аронт, в своей пещере из белого мрамора. Тихое течение звезд над миром – морем ночным, наблюдают оба, гадают по звездам о будущем; оба знают, что звездное небо – не только над человеком, но и в нем самом, в душе его и в теле.
Сохранилось вавилонское глиняное изваяние печени, kabbitu, разделенное на пятьдесят клеток – небесных сфер, для гаданий, восходящих к глубочайшей вавилоно-шумерийской древности.[600]600
P. Dorme, La religion assyro-babylonienne (1910), p. 294.
[Закрыть] Точно такое же бронзовое изваяние найдено и в этрусском городе, нынешней Пиаченце.[601]601
A. Jeremias. Handbuch der altorient. Geisteskultur (1913), p. 145.
[Закрыть] Печень, а не сердце, по вавилонскому учению, есть средоточие жизни в теле человека и животного: вот почему обе астрологические печени, этрусская и вавилонская, изображают планисферу звездного неба, внутреннего, живого – животного, дымящегося кровью, как ночное небо дымится звездными дымами. В теле кровяные шарики – то же, что бесчисленные солнца в небе.[602]602
Д. Мережковский. «Тайна Трех».
[Закрыть] В небе и в теле совершается
скажет «звездочет» Данте, как могли бы сказать Аронт и Виргилий.
«Данте был звездочетом-астрологом», – сообщает Боккачио в истолкованиях «Комедии».[604]604
Boccaccio. Comm. (Solerti, p. 72).
[Закрыть]
Так как в те времена астрология, как и все вообще «отреченные» Церковью, «тайные знания», смешивалась с магией, то Данте – «астролог», значит «маг». Тот же Боккачио называет и Вергилия «знаменитейшим звездочетом-астрологом», сообщая народные легенды о «волшебствах» Вергилия.[605]605
F. D 'Ovidio. Studi danteschi (1926), p. 361.
[Закрыть]
Как ни грубо и ни глупо ошибался миланский герцог, Галеаццо Висконти, желая пригласить к себе Данте, чтобы извести «колдовством» врага своего, папу Иоанна XXIII – что-то верно угадал он в Данте. И те веронские женщины, что в суеверном страхе шепчутся за спиною у проходящего Данте о данной ему сверхъестественной власти сходить заживо в ад, что-то верно угадывают в нем. Кем дана ему эта власть, – Богом или дьяволом, – не знают они; помнят только о его сошествии в ад, а о восшествии в рай забыли; так же, как Галеаццо Висконти, помнят только убивающую живых, «черную магию», а «белую», воскрешающую мертвых, – забыли.
Слыть в народе «колдуном» было, в те времена, не безопасно. Если дымом костра пахнет от Данте, живого и мертвого, так что кости его едва не будут вырыты из земли и сожжены, то, может быть, не только потому, что он слывет «колдуном», но и потому, что «колдовское», «магическое» в нем действительно есть.
Два великих тосканца, этруска – Данте и Леонардо да Винчи, – подняли на плечах своих, как два Атланта, всю тяжесть будущего мира; Данте поднял ее ко Христу, а Леонардо, предтеча Гёте-Фауста, неизвестно к кому – ко Христу или к Антихристу.
Бритое, голое, тонкое, с выдающейся вперед нижней челюстью, под странным, точно женским, головным убором тех дней, красным колпаком с двумя по бокам полотняными белыми лопастями, будто старушечье, лицо Данте напоминает этрусскую волшебницу Манто; а лицо Леонардо, в старости, с волнистой, длинной, седой бородой, с щетинисто-нависшими, седыми бровями над темными впадинами страшных или жалких, нечеловеческою мыслью отягченных глаз и с такою же, как у Данте, горькой складкой крепко сомкнутых, как будто навеки замолчавших, губ, – напоминает не этрусского, а более древнего, пещерного волхва, – того, кто зажег в Ледниковой ночи первый огонь, как титан Прометей.
«В теле или вне тела» был Данте «восхищен на небо» – этого он сам не знает, так же, как ап. Павел (II Кор. 12, 2–3), а Леонардо, изобретая человеческие крылья, чтобы лететь, как Симон Волхв летал, и полетит Антихрист, знает, что человек будет «восхищен на небо, в теле».
В стенописях этрусских могил как будто уже предвосхищены картины Дантова «Ада»,[606]606
Papini. p. 26.
[Закрыть] где Минос, Герион и Грапии – этрусские чудовищные демоны. И неземные страшилища винчьевских карикатур так родственны видениям этих двух адов, этрусского и Дантова, как будто и те и другие вышли из одного и того же безумного и вещего бреда. И в таинственной улыбке Леонардовой Девы Скал, пещерной Богоматери (чья, может быть, родная сестра – маленькая Брассенпуйская пещерная Изида) – та же неземная прелесть, как в улыбке маленьких бронзовых этрусских богинь Земли-Матери, найденных на склонах той самой горы Фьезоле, где родилась Беатриче, и где от ног ее запечатлелись, столько раз мысленно целованные Данте, легкие следы.[607]607
I del Lungo. Beatrice (1891), p. 3.
[Закрыть] Той же улыбки неземную прелесть увидит он в Раю, на губах Беатриче:
Так, кто были на земле Возлюбленной Данте, будет на небе Матерью:
Что на земле начала Беатриче, кончит на небе Дева Мария.
эта молитва св. Бернарда Клервосского есть молитва и грешного Данте.
Только исполнив ветхий и новый, вечный завет Вергилия, а может быть, и всего дохристианского человечества:
Матери древней ищите,
Antiquarii exquirite Matrem, —
Данте найдет Третий Завет Духа-Матери – единственный путь к Воскресению.
III. ДАНТЕ-МАГ
«Я ничего не сделал и не сделаю» – вот вечный страх и мука таких людей, как Данте, или, вернее, такого человека, потому что не было другого подобного ему за два тысячелетия христианства, и едва ли скоро будет в «поэзии-делании». Данте не мог не сознавать или, по крайней мере, не чувствовать иногда, что в главной воле его – к соединению двух миров, того и этого, в одном третьем, все действующие в мире силы – Церковь, государство, искусство, наука, философия, – все, что мы называем культурой, – идут если не против него, то не с ним; потому что весь мир движется не к соединению двух миров, а к их разделению, под знаком не Трех – Отца, Сына и Духа, а Двух: Отца против Сына или Сына против Отца; Бога против человека или человека против Бога; плоти против духа или духа против плоти; земли против неба или неба против земли – и так без конца, в ряде вечных противоборств – противоречий неразрешимых. Данте, один из сильнейших людей, не мог не сознавать, или, по крайней мере, не чувствовать иногда, как страшно бессилен и он, потому что страшно одинок. Главная воля его к Трем вместо Двух, не находя точки опоры ни в чем внешнем и действительном, изнемогала в пустоте, в бездействии или в самоубийственных бореньях внутренних.
Слишком понятно, что в такие минуты или часы, дни, месяцы, годы сомнений, неимоверная, им поставленная себе в «Комедии» цель – «вывести человека из состояния несчастного», – Ада земного, и «привести его к состоянию блаженному», «земному Раю» – казалась ему самому почти «безумною»:
Кажется, этого возможного «безумья» он страшится не только в самом начале пути к «Раю земному» – Царству Божию на земле, как на небе, но и в самом конце: иначе не замуровал бы в стену, накануне смерти, тринадцать последних, высших песен Рая. Самое для него страшное, может быть, то, что в этом «безумном желании» он иногда сознает или, по крайней мере, чувствует себя не «грешным», а иначе святым, по-новому, – не так, как были святы до него, за десять-одиннадцать веков христианства, после двух-трех первых, все святые; чувствует себя, в какой-то одной, не достигнутой им и, может быть, для него недостижимой точке, противосвятым, antisanctus.
Очень вероятно, что бывали такие минуты, когда он готов был поверить тому, что следовало из ошибочных, в уровень тогдашнего знания; но для него соблазнительно точных, астрологических и богословских выкладок, а именно тому, что первое всемирно-историческое движение к Царству Божию – «поворот всех кораблей носами туда, куда сейчас кормы их повернуты», – совершится не ранее, как через семь тысячелетий – т. е. через столько веков, сколько отделяет конец каменного века от Р. X.[612]612
Par. XXVII, 139. – C. A. Fabricetti. Spunti ed appunti su Dante Vivo di G. Papini (1933), p. 29.
[Закрыть] Судя по этому, Данте – меньше всего отвлеченный мыслитель и мечтатель из тех, кого мы называем «идеалистами»: он «видит все», tutto vedea, по глубокому слову Саккетти; он знает, с кем борется; чувствует действительную меру того, что хочет сделать: раздавливающий вес подымаемых им тяжестей.
Так бесконечно трудна цель его – борьба за христианство будущее – потому, что и бывшее уже изнемогает в мире, именно в эти дни: между смертью св. Франциска Ассизского и рождением Данте уже начинается то, что мы называем «Возрождением» и что, может быть, вернее было бы назвать «вырождением» христианского человечества; тогда уже совершается «великий отказ», il gran rifiuto,[613]613
Inf. III, 60.
[Закрыть] отступление от Христа, единственного двух миров Соединителя:
Ибо Он есть мир наш, соделавший из двух одно, poiêsas ta amphotera hen. (Еф. 2, 14).
Хуже всего, что в главной воле своей к соединению Двух в Одном, Третьем, Данте должен был бороться не только со всем миром, но и с самим собою, потому что находил иногда и в себе не соединение, а «разделение» двух миров: «было в душе моей разделение», la divisione ch'è ne la mia anima;[614]614
Conv. II, 6.
[Закрыть] потому что и он уже родился, жил и умер, под знаком двух «Близнецов» – Веры и Знания.
Ах, две души живут в моей груди! —
мог уже и он сказать.
Главная цель его – «вывести человека из состояния несчастного и привести его к состоянию блаженному, еще в этой жизни земной», – была так бесконечно трудна еще и потому, что самое трудное в религиозном действии – дать людям почувствовать, что ответом на вопрос, ждет ли их что-то за гробом, или не ждет ничего, – решается все, не только во внутренней духовной жизни их: ложь или истина, зло или добро; но и в жизни внешней, физической: болезнь или здоровье, голод или сытость, война или мир. Людям кажется, что от судеб их в вечности ничто не зависит во времени, как от цвета облаков. Но пахарь, готовящий жатву, знает, что светлым или темным цветом облаков предвещается дождь или засуха, – хлеб или голод, жизнь или смерть, не только для него одного, но и для множества людей.
Эту зависимость временного от вечного, всего, что здесь, на земле, сейчас, от того, что некогда будет в вечности, лучше Данте никто не чувствовал, и никто не сделал больше, чем он, чтобы дать это почувствовать людям.
«Нет у человека преимущества перед скотом, потому что… все идет в одно место: вышло из праха и в прах отойдет» (Еккл. 3, 19–20). Если и Тот, кого весь мир не стоит, в прах отошел, то цену жизни понял лучше всего мудрейший из сынов человеческих, Екклезиаст: «мертвые блаженнее живых, а еще блаженнее тот, кто никогда не жил и не видел злых дел, какие делаются под солнцем» (Еккл. 4, 3).
Завтра начнется вторая всемирная война, в которой накопленные человечеством, за десять тысячелетий так называемой «культуры», «цивилизации», сокровища погибнут бессмысленно, – и отвечать будет некому, жалеть – не о чем, потому что все они – только бывший и будущий прах.
Но если Христос воскрес, то иное солнце, иное сердце, иная жизнь, иная смерть. Вместо вечной войны – вечный мир, в котором люди сделают наконец первый шаг к Царству Божию на земле, как на небе.
Если все человечество, как думает Бергсон и думал Данте, есть «движущееся рядом с каждым из нас, и впереди, и позади каждого, великое воинство в стремительном натиске, способном сокрушить все, что стоит на его пути, и опрокинуть многие преграды – может быть, даже смерть», – то пасть духом – значит, для этого воинства, быть пораженным, а не пасть – значит победить. С Дантовых дней началось и до наших дней продолжается падение в человечестве духа. Лучше Данте этого никто не видел и больше, чем он, никто не сделал для того, чтобы павший в человечестве дух восстановить.
Лучше Данте никто не знает, что живым нельзя спастись одним – можно только вместе с умершими – воскресшими, потому что одна круговая порука соединяет мертвых и живых в борьбе с «последним врагом» – Смертью. Если для нас и все живые мертвы, то для Данте и все мертвые живы. Жалкий пистойский воришка, ограбивший церковь, Ванни Фучни,[616]616
Inf. XXX, 61.
[Закрыть] и флорентийский фальшивомонетчик, маэстро Адамо,[617]617
Д. Мережковский. «Тайна Трех».
[Закрыть] так же для него бессмертны, потому что лично-единственны и неповторимы в вечности, как Беатриче и св. Бернард Клервосский. В людях презреннейших, осуждая их на муки ада, утверждает он человеческое достоинство больше, чем мы – в Сократе и Цезаре, думая, что в смерти нет у них преимущества перед животными, – «все идут в одно место».
После двух-трех первых веков христианства весь религиозный опыт святости есть движение от земли к небу, от этого мира к тому. Данте предчувствует новую святость в обратном движении – от неба к земле. Только земную любовь к небу знают святые, а религиозный опыт всего дохристианского человечества – небесная любовь к земле – в христианстве забыт. Данте первый вспомнил эту любовь.
Две души у человека – два сознания: бодрствующее, дневное, поверхностное и ночное, спящее, глубокое. Первое движется, по закону тождества, в логике, в чувственном опыте, и, доведенное до крайности, дает всему строению жизни тот мертвый, «механический» облик, который нам так хорошо знаком; второе – движется в прозрениях, ясновидениях сверхчувственного опыта, и дает всей жизни облик живой, органический, или, как сказали бы древние, – «магический». Чтобы объяснить, или хотя бы только напомнить, что это значит, можно бы указать на такое слабое и грубое подобие, как животное чутье, «инстинкт». Ласточки знают, куда нужно лететь, чтобы попасть в прошлогоднее гнездо, за две тысячи верст; знают муравьи, где надо строить муравейник на берегу реки, чтобы не залило его водой половодья. Знание это, не менее достоверное, чем то, которое мы приобретаем путем силлогизмов и чувственных опытов, кажется нам «чудесным», «магическим». Плохо было бы муравьям, если бы, потеряв животный инстинкт, они построили кочку на берегу реки слишком низко; плохо было бы ласточке, если бы, в полете над морем, она забыла, куда надо лететь, чтобы достигнуть берега: так же плохо и нынешнему человечеству, забывшему, где надо ему строить свой вечный дом, и куда лететь, чтобы достигнуть вечного берега.
Жив человек лишь «чувством прикосновения своего таинственным мирам иным» (Достоевский); если же чувство это глохнет в нем, – он умирает той «второю смертью», от которой нет воскресения.
«Магия» сверхчувственного опыта, в наши дни, всюду убита «механикой», «ночная душа» – «дневной»; только в искусстве она все еще жива; творчество художника все еще движется не по лестнице умственных доводов и чувственных опытов, а внезапными, как бы «чудесными», взлетами, так что в этой «чудесности» гения и заключается его особенность, несоизмеримость с нашей обыденной «механикой». – «Есть ли магия?» – на этот вопрос все еще искусство отвечает: «есть». Все еще души человеческие укрощаются искусством, как дикие звери – Орфеевой музыкой. Даже пауки слушают музыку; даже Ленин что-то любил, или хотел бы любить, в Пушкине.
Данте – новый маг, Орфей: так же укрощает и он души человеческие – хищных зверей – музыкой; так же сходит в ад за Евридикой – душой человека и человечества.
Веточка мимозы найдена на сердце усопшего, в гранитном саркофаге Аменофиса II: нежные листики-перышки «не-тронь-меня» должны были ответить трепетом на трепет воскресающего сердца. Вот что такое вечная, действительная Магия-Религия: одоление закона естества – смерти – иным законом высшим, сверхъестественным, – любовью, воскрешающей мертвых.
Но чтобы это понять, надо больше чем верить, – надо испытать на себе то, о чем говорит единственный на земле Человек, победивший смерть:
Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, – оживет; и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? (Ио. 11, 25–26).
Только ответом на этот вопрос решается все здесь, на земле, сейчас, так же, как решится некогда в вечности.
Древнеегипетское слово seenech имеет два смысла: «ваятель», «художник» и «оживитель», «воскреситель мертвых». Данте в этом смысле величайший художник за две тысячи лет христианства. Творчество Гёте и Шекспира – только искусство; творчество Данте больше чем искусство, и даже больше чем жизнь, это источник жизни – религия. Дантово искусство величайшее, потому что религиознейшее из всех искусств.
Что сделал Данте в Святой Поэме? Подошел так, как никто из художников слова – к вечному делу религии – воскресению мертвых.
IV. ЧЕТЫРЕ МАГИИ
Данте в Святой Поэме соединяет и устремляет к одной цели – воскресению мертвых – четыре искусства, четыре магии. Первая, более вещественная, осязаемая, – ваяние, – в «Аду»; вторая, более духовная, зримая, – живопись, – в «Чистилище»; третья, самая духовная, слышимая, – музыка, – в «Раю»; и наконец, четвертая, включающая в себя все три остальные, – магия зодчества, – во всей «Комедии».
В древнем египетском зодчестве – такое величие и такая простота, как только в созданиях природы. Почти невероятно, что замысел, подобный пирамиде Хеопса, мог быть исполнен.[618]618
Eduard Meyer.
[Закрыть]
– «Это сон исполинского величия, осуществленный только раз на земле, неповторяемый».[619]619
A. Moret.
[Закрыть] В усыпальнице Хеопса, несмотря на тысячелетия и на землетрясения, колебавшие громаду пирамиды, ни один камень ни на волосок не сдвинулся. Тысячепудовые глыбы гранита сплочены так, что нельзя между ними просунуть иголку, и отполированные до зеркальной гладкости грани их подобны граням совершенного кристалла. Это самое вечное из всего, что создано людьми на земле. Можно бы сказать почти то же и о Дантовом зодчестве в «Комедии».
«Мудрому свойственно упорядочивать все. Sapientis est ordinare» – это в высшей степени римское слово св. Фомы Аквината объясняет многое в Данте.[620]620
Thomas Aqu., Eth. I, 1.
[Закрыть] Та же воля к порядку у Юлия Цезаря – в строении государства, у Фомы Аквинского – в строении Церкви, и у Данте в зодчестве загробного мира.
Десять – число для Данте совершенное – умноженный символ Трех в Одном: трижды Три и Один – Десять. Вот почему строение трех загробных миров – Ада, Чистилища, Рая – десятерично: десять воронкообразно-нисходящих кругов Ада; десять восходящих уступов Чистилища; десять вращающихся звездных сфер – «колес» Рая. Вот почему и всех песен «Комедии» десятеро-десять – сто; в первой части – тридцать три и одна, а в двух остальных – тридцать три ровно. И каждая песнь состоит из трехстиший, в которых повторяется одно созвучие трижды.
Людям, не посвященным в «магию» чисел, кажется математика чем-то для всех очарований убийственным, антимагическим. Но св. Августин знает, что «красота пленяет числом», pulchra numero placent (De ordine), «пленяет» – «чародействует»; тайная магия Числа в красоте становится явною. Так же, как маг Орфей – Пифагор, геометр, считает и поет, считает и молится, потому что в числах – не только земная, но и небесная музыка – «музыка сфер». «Страшный бог Любви» для Данте – величайший Маг и Геометр вместе: «Я – как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от всех точек окружности, а ты – не так».
Камни складываются в зодчестве по тем же числовым законам, как звуки – в музыке. Зодчество – воплощенная музыка, а музыка – одухотворенное зодчество.
Вместе с математикой Данте вводит в «Комедию» весь круг тогдашних знаний: механику, физику, астрономию, этику, политику, историю, и устремляет их все к одной цели – к воскрешению мертвых.
«Истинное величие являет человек не в одной из двух противоположных крайностей, а в их соединении и в наполнении того, что между ними», – учит Паскаль.[621]621
Pascal. Penseés.
[Закрыть] Данте и в этом, как в стольких других особенностях гения, совпадает с Гёте: оба они соединяют «две противоположные крайности» – математическую точность познания с пророческим ясновидением. Но Данте в этом шире, чем Гёте. Гёте соединяет их только в созерцании, а Данте в созерцании так же, как в действии.
Необходимость, механика, – в разуме; магия, чудо, – в любви. Магия зодчества для самого Данте, строителя «Комедии», есть первая, а для читателя – последняя из четырех на него действующих магий; первая для него – магия ваяния. Та с наибольшею силою действует в общем строении «Комедии», а эта – в аду.
Цвет Ада единственный – «красный», от раскаленных докрасна железных стен и башен подземного города, Дитэ, или точнее – темно, почти черно-красный, как запекшаяся кровь.
«Черно-красный», персовый цвет, perso, есть смешение черного с красным, но с преобладанием черного.[624]624
Conv. 1, 20.
[Закрыть]
Черным по красному писаны все картины Дантова Ада так же, как все рисунки этрусских глин. Здесь опять духовно-физическое родство Данте с Этрурией.
Облики бесов и грешников на кроваво-красном зареве Ада, как из черного камня изваяны.
Ангел, посланный с неба, похожий на крылатого этрусского бога, пролитая сквозь «жирный воздух» ада, «отстраняет его от лица, – махая часто левою рукой».[625]625
Inf. IX, 82.
[Закрыть] Этим одним движением здесь выражено то, что делает призрачное в сновидениях вещественным. Зрительное ощущение усиливается и сгущается так, что становится осязательным: дымную черную тьму, остаток Ада в Чистилище, Данте осязает на лице своем, как «шершавый мех».[626]626
Purg. XVI, 1.
[Закрыть]
Бес христианского ада, кентавр Хирон, как будто вышедший тоже из ада этрусского, вглядывается с удивлением в Данте, живого среди мертвых.
Мысль отвлеченнейшая – отличие того мира от этого – здесь не мыслится, а чувствуется осязательно; метафизика становится механикой, призрачное в Аду делается вещественным; и даже, по закону сновидений, так что чем призрачней, тем вещественней.
Графа Угодино, гложущего череп врага своего, архиепископа Руджиеро, Данте спрашивает, зачем он это делает.
В этом одном внешнем движении: «вытер уста», – сосредоточен весь внутренний ужас Угодиновой трагедии так, что он остается в душе неизгладимо, как воспоминание бреда.
Знали древние египтяне, знали этруски, – знает и Данте, что тот мир не страшно далек, как это кажется нам, а страшно близок, – вот здесь, сейчас, рядом с нами – в нас самих. В символах-знаменьях, соединяющих два мира, как перекинутые между ними мосты, – самое близкое, простое, земное, здешнее, прикасается к самому дальнему, неземному, нездешнему: «Все, что у вас, есть и у нас»; там все, как здесь, и совсем, совсем иначе, но так же несомненно-действительно или еще действительней. Это в обеих магиях – ваяния и живописи – одинаково; в Аду, в Чистилище и даже в Раю, но в Аду больше всего, потому что здешний мир всего подобнее Аду.
В третьем круге Ада ростовщики, под огненным дождем, закрывают лица руками, то от горячего дыма, то от раскаленной земли, —
Тени в Аду, завидев Ангела, прыгают в воду Стикса, как лягушки в лужу, завидев змею.[630]630
Inf. IX, 76.
[Закрыть]
Тени в Чистилище, встречаясь, целуются радостно и быстро, на ходу, как это делают муравьи, прикасаясь усиками к усикам, «быть может, для того, чтоб рассказать, куда идут и с чем».[631]631
Purg. XXVI, 34.
[Закрыть]
Души блаженных в Раю летают и кружатся, как вороны, в начале дня, когда бьют крыльями, чтоб от ночного холода согреться, и, улетев, одни не возвращаются, а другие, вернувшись, кружатся, все на одном и том же месте.[632]632
Par. XXI, 34.
[Закрыть]
Так смиреннейшая тварь – псы, лягушки, муравьи, вороны – вовлекается Данте в величайшее, богочеловеческое дело – воскрешение мертвых. Если оно произойдет действительно, мертвое будет оживать целыми слоями, пластами вещества, – звездным, растительным, животным: вот почему только такая бесконечная, в глубину вещества идущая, как у Данте, любовь ко всей земной твари может, побеждая силу смерти, воскресить всю тварь в Царстве Божьем на земле, как на небе.
В то же дело воскрешения вовлекает Данте, вместе с животными, и людей смиреннейших. Тени, безмолвно проходящие в аду, вглядываются в Данте и Вергилия так, «как вечером, под новою луною, встречающиеся на дороге прохожие вглядываются друг в друга; и все они, прищурившись, острят свой взор», —
В то же дело воскрешения вовлекает Данте и неодушевленные предметы, смиреннейшие. В небе Юпитера, где созерцают лицо Неизреченного высшие духи, один из них вертится, как ударяемый бичом играющего ребенка волчок:
Чувство неземного нездешнего не ослабляется, а усиливается земною четкостью, наглядностью образов. Более земных, родных, простых и убедительных образов нет нигде, кроме Евангельских притч.
Что, казалось бы, может быть общего между свиным хлевом и загробною вечностью? А вот, оказывается, есть.
Где-то в одном из самых темных и смрадных углов ада, —
Здесь еще, в аду земном, люди грызутся злее диких зверей; так же будут грызться и там, в аду подземном, в вечности. Страшен львиный гнев, страшна лютость волчья; но насколько страшнее дьявольски-человеческая злость этих двух, друг за другом бегающих с пронзительным, поросячьим визгом кусающихся, «голых и бледных теней»! Данте недаром вспоминает, по поводу этой свиной грызни, о великих всемирно-исторических войнах. Хлев откроют – объявят войну, и два великих народа, кинувшись друг на друга, будут грызться, как две выпущенные из хлева свиньи.
Тот, кто понял, как следует, это Дантово, два мира соединяющее знамение-символ, сколько раз, думая о земных делах, вспомнит ужас его неземной!
«Огненная змейка жалит мучимого грешника туда, откуда берется наша первая пища», – в пупок и, упав к ногам человека, лежит на земле, простертая. Пристально смотрит на нее ужаленный и молчит – «только зевает, как в лихорадочном ознобе или дремоте». Смотрит человек на змею, а змея – на человека. Пасть у нее дымится дымком зеленоватым, а у него – рана. Эти два дыма смешиваются, и двойное чудо совершается в них: превращение змеи в человека, и человека – в змею. Самое страшное здесь то, что это им обоим, хотя и по-разному, но одинаково нравится: хочет животное быть человеком – восстать из праха, возвыситься, а человек хочет быть животным – пасть во прах, унизиться. «Два естества их друг друга соответствуют так, что змея разделяет хвост на две ноги, а человек соединяет их в змеиный хвост». И каждое дальнейшее, согласное, совпадающее, «соответственное» изменение этих двух постепенно, как будто необходимо-естественно, превращающихся тел (в этой-то естественной необходимости главный ужас) изображено с такою живостью, как бы внутреннего, в этих двух телах переживаемого опыта, что нам, точно уже не читающим о том, а видящим – осязающим то, что в них происходит, начинает казаться, что и с нашим собственным телом может произойти или где-то, когда-то происходило нечто подобное. Мы начинаем вдруг чувствовать в нашем собственном теле жалкую, как бы зародышевую, бескостность, мягкость, лепкость – страшно-уступчивую, на все формы готовую глину в руках ваятеля.[636]636
Inf. XXV, 79.
[Закрыть]
Скажет ли изделие сделавшему его: зачем ты меня сделал таким?
Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для употребления почетного, а другой – для низкого (Рим. 9, 20–21), —
зверя изваять, или Ангела?
Так и в этом символе двух превращающихся тел земная действительность просвечивает сквозь неземную, механика – сквозь магию.
То, что можно бы назвать волею к ужасу, у Данте идет из тех же первозданных глубин существа его, как у св. Августина: «Я ужасаю других, потому что сам ужасаюсь, territus terreo».[637]637
Augustin. Sermo, 40.
[Закрыть]
Если человек уже и здесь, на земле, кажется самому себе, по страшному слову Паскаля, «непонятным чудовищем», то тем более он может оказаться им в вечности.
«Мертвых душ» певцы – оба, Данте и Гоголь. Мог бы и тот сказать людям, как этот: «Замирает от ужаса душа моя при одном только предслышании загробного величия тех духовных высших творений Бога, пред которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь, весь умирающий состав мой, чуя исполинские возростания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая, какие страшилища от них подымутся».,[638]638
Pascal. Penseés, 420.
[Закрыть][639]639
«Избр. места из переписки с друзьями».
[Закрыть]
Таковы две воскрешающие Дантовы магии – ваяния и живописи. Обе действуют во всей «Комедии», но первая – с наибольшей силою в «Аду», а вторая – в «Чистилище».
Только что Данте выходит из Ада, как очи и сердце ему услаждает разлитый по небу «нежнейший цвет восточного сапфира».[640]640
Purg. I, 13.
[Закрыть] Не только видит он его глазами, но и всем телом чувствует; эту синеву чистейшую пьет, как умирающий от жажды – студеную воду. Радуге лучей, которыми утренняя звезда переливается на розовом небе, как исполинский алмаз, и радуге цветов, на изумрудно-зеленеющих лугах у подножия Святой горы Очищения, радуется, как только что прозревший слепой.
Если у живописи два начала – рисунок и краска, то первое начало – во всей «Комедии», а второе – в «Чистилище». Кажется, именно здесь родилась вся живопись итальянского Возрождения, от опаловых, утренних сумерек Джиотто до янтарных, вечерних, – Джиорджионе.
Первая магия ваяния действует с наибольшею силою в «Аду»; вторая – живописи – в «Чистилище»; третья – музыки – в «Раю».
«В юности Данте больше всего услаждался музыкой, и всем лучшим певцам и музыкантам тех дней был другом», – вспоминает Боккачио.[641]641
Boccaccio. Vita (Solerti, p. 37).
[Закрыть]
Может быть, в самом раннем детстве, еще до встречи с восьмилетней Биче Портинари, вслушиваясь в звуки флорентийских колоколов, Данте уже предчувствовал то, из чего родится его любовь и такая песнь любви, какой никогда еще не слышал мир, – Святая Поэма.
Как в башенных часах, зовущих нас к молитве,
В час утренний, когда невеста Божья
Возлюбленного Жениха встречает, —
Вращаются колеса, и звенят
Колокола столь сладостно: «динь-динь»,
Что сердце от любви, в блаженстве, тает, —
Так звездные колеса надо мной
С такой сладчайшей музыкой вращались,
Что можно б выразить ее лишь там,
Где радость наша сделается вечной.[642]642
Par. X, 139.
[Закрыть]
Главная, «магическая», воскрешающая сила древнеегипетских жрецов-заклинателей есть «верный голос», makronon. Та же сила у Данте: в самом порядке и звуке слов его заключена тайная магия: стоит переставить только одно слово или даже один слог, чтобы «верный голос» сделался неверным, и все очарование рассеялось, исчезла вся магия музыки.[643]643
J. Symonds. Dante (1891), p. 216.
[Закрыть]