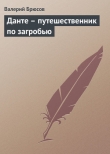Текст книги "Данте"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
II. ДРЕВНЕЕ ПЛАМЯ
Темные башни Флоренции еще темнее, на светлом золоте утра. Самая темная изо всех та, что возвышается над маленькой площадью Сан-Мартино-дель-Весково, в двух шагах от дверей дома Алигьери, – четырехугольная, тяжелая, мрачная, точно тюремная, башня дэлла Кастанья.[72]72
Passerini, p. 11, 50; Prieur, p. 47.
[Закрыть] Каждое утро, на восходе солнца, тянется черная, длинная тень от нее по тесной улочке Санта Маргерита, соединяющей дом, где живет девятилетний мальчик Данте, сын бедного бесславного менялы сера Герардо, – с домом восьмилетней девочки, Биче, дочери вельможи, купца и тоже менялы, но славного и богатого, Фолько Портинари. Сто шагов от дома к дому, или, на языке пифагорейских – дантовских чисел: девяносто девять – трижды тридцать три. Врежется в живую душу Данте это число, мертвое для всех и никому непонятное, – Три, – как в живое тело, в живое сердце, врезается нож.
В черной от башни тени, на белую площадь утренним солнцем откинутой, плачет маленький мальчик от земного сиротства, как от неземной обиды; и вдруг перестает плакать, когда в щели, между камнями башни, под лучом солнца, вспыхивает красный весенний цветок, точно живое алое пламя, или капля живой крови. Глядя на него, все чего-то ждет, или что-то вспоминает, и не может вспомнить. Вдруг вспомнил: «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova, – не только для него, но и для всего мира, – Новая Любовь, Новая Весна.
15 мая 1275 года, произошло событие, величайшее в жизни Данте, и одно из величайших в жизни всего человечества.
«Девять раз (девять – трижды Три: это главное, что он поймет уже потом, через девять лет, и что врежется в сердце его, как огненный меч Серафима) – девять раз, от моего рождения, Небо Света возвращалось почти к той же самой точке своего круговращения, – когда явилась мне впервые… облеченная в одежду смиренного и благородного цвета, как бы крови, опоясанная и венчанная так, как подобало юнейшему возрасту ее, – Лучезарная Дама души моей, называвшаяся многими, не знавшими настоящего имени ее, – Беатриче».[73]73
V. N. II.
[Закрыть]
Вспыхнул под лучом солнца, в щели камней, красный весенний цветок, как живое пламя или капля живой крови: вот чего он ждал, что хотел и не мог вспомнить.
«… И я сказал: вот бог, сильнейший меня; он приходит, чтобы мною овладеть».[74]74
V. N. II
[Закрыть] Этого не мог бы сказать, ни даже подумать, девятилетний мальчик, но мог почувствовать великую, божественную силу мира – Любовь.
Эта «Лучезарная Дама», gloriosa donna, – восьмилетняя девочка, Биче Портинари, – для тех, кто не знает ее настоящего, неизреченного имени. Но девятилетний мальчик, Данте Алигьери, узнал – вспомнил Ее, а может быть, и Она его узнала. Вспомнили – узнали оба то, что было и будет в вечности.
В этой первой их встрече, земной, произошло то же, что произойдет и в последней, небесной: та же будет на Ней и тогда «одежда алая, как живое пламя»,[75]75
Purg. XXX, 33.
[Закрыть] – живая кровь (что в земном теле – кровь, то в небесном – пламя); так же узнает он Ее и тогда:
И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать
Душа моя, в блаженстве, перед Нею,
Я, прежде, чем Ее мои глаза
Увидели, – уже по тайной силе,
Что исходила от Нее, – узнал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к Ней, древняя, как мир.
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда ее увидел в первый раз;
И, обратясь к Вергилию, с таким же
Доверием, с каким дитя, в испуге
Или в печали, к матери бежит, —
Я так сказал ему: «Я весь дрожу,
Вся кровь моя оледенела в жилах;
Я древнюю любовь мою узнал».[76]76
Purg. XXX 34.
[Закрыть]
Нет никакого сомнения, что Данте, говоря о себе устами Беатриче:
связывает эти две встречи с Нею, – первую, земную, в «Новой жизни», и последнюю, небесную, в «Комедии»: это будет на небе, потому что было на земле; будет всегда и для всех, в вечности, потому что было для него однажды, во времени, – в такую-то минуту, в такой-то час, такого-то дня: 15 мая 1275 года от Р. X., 10-го – от рождения Данте.
Как это ни удивительно и ни мало вероятно для нас, нет сомнения, что девятилетний мальчик, Данте, был, в самом деле, влюблен в восьмилетнюю девочку. Биче.
К девятилетнему мальчику пришла, в самом деле, восьмилетняя девочка, «с тем огнем», в котором он «всегда будет гореть». Первый ожог этого огня он почувствовал не только в душе, но и в теле, как чувствует его пораженный молнией.
«Что за лицо у бога Любви?» – спрашивает Платон и отвечает: «молниеносное», opsis astrapousa. To же лицо и у Ангела, явившегося женам у гроба воскресшего Господа: «было лицо его, как молния» (Мт. 28, 3).
Данте мог бы сказать, уже в день той первой встречи с Нею, как скажет
потом, через сорок лет:
Я древнюю любовь мою узнал.
Между этими двумя встречами, земной и небесной, вся его жизнь – песнь Беатриче:
Это глубоко и верно понял Боккачио: «С того дня, образ ее… уже никогда, во всю жизнь не отступал от него».[81]81
Boccaccio (Solerti, p. 17).
[Закрыть]
Может быть, главное для Данте блаженство в этой первой встрече – то, что кончилось вдруг его земное сиротство – неземная обида, и что снова нашел он потерянную мать. Девятилетний мальчик любит восьмилетнюю девочку, «Лучезарную Даму души своей», как Сестру – Невесту – Мать, одну в Трех. Сердце его обожгла – и след ожога навсегда в нем останется – молния Трех.
III. ДВА ВМЕСТО ТРЕХ
Данте родился под созвездием Близнецов. Два Близнеца были на небе, два согласно-противоположных Двойника; те же Два будут и на земле в душе самого Данте: Вера и Знание; и душа его между ними разделится надвое.
О, чудное созвездье Близнецов,
О, Свет могучий, весь мой дар, я знаю,
Каков бы ни был он, я принял от тебя…
Под знаменьем твоим я родился
И в первый раз вдохнул тосканский воздух.
Потом, когда вступил я в звездные колеса
Здесь, в высоте вращающихся сфер, —
Твоя назначена была мне область.
Тебя же, ныне, воздыхая снова,
Душа моя благоговейно молит:
Подай мне силу кончить трудный путь![82]82
Par. XXII, 112.
[Закрыть]
Надо будет Данте пройти до конца, под знаком Двух, не только на земле, но и на небе, весь «трудный путь» разделения, чтобы достигнуть соединения под знаком Трех.
Мудрым звездочетам тех дней было известно, что рожденные под звездным знаком Близнецов предназначены к великому знанию.
предскажет и Брунетто Латини, учитель, ученику своему, Данте, вероятно, потому, что манит и самого Данте слава не великого поэта, а великого ученого: не Гомера, новых песен творца, а Улисса, открывателя новых земель или «никем, никогда еще не испытанных истин», по чудному слову Данте;[84]84
Mon. I, 1.
[Закрыть] слава не тех, кто чувствует и говорит, а тех, кто знает и делает. Так редка эта слава, и так необычайна, что он и сейчас, через семь веков, все еще ее не достиг.
Кажется, Данте был несправедлив к отцу. Сделаться великим ученым он не мог бы, если бы для этого не было заложено в нем основания с раннего детства и юности. Школьное учение, в те дни, когда, по свидетельству Боккачио, «науки были совершенно покинуты», стоило немалых денег.[85]85
Scherillo, p. 499.
[Закрыть] Если же верно свидетельство Бруни, что Данте, «с раннего детства был воспитан в свободных науках»,[86]86
L. Bruni (Solerti, p. 99).
[Закрыть] то это могло быть лишь потому, что сер Алигьеро, хотя и «меняла-торгаш», подобно всем флорентийцам, – денег не жалел на учение сына: значит, любил его и хотел ему добра. И если мы, чужие люди, через семь веков, можем ему за это многое простить, то сын – тем более. Но Данте отцу не простил:
он вообще не умел или не знал, что умеет прощать.
Первыми книгами, в слабых, детских руках его, были, вероятно, тяжеловесные рукописные учебники Доната и Присциллиана: «Основание искусства грамматики»,[87]87
Scherillo, p. 450.
[Закрыть] а первыми учителями – иноки францисканской обители Санта-Кроче, находившейся в ближайшем соседстве с домами Алигьери: здесь была одна из двух главных во Флоренции детских школ;[88]88
G. Sahadori, p. 14.
[Закрыть] другая была в доминиканской обители Санта-Мария-Новелла.
В школе Санта-Кроче, вероятно, и посвящен был отрок Данте в премудрость семи наук схоластической «Тройни и Четверни», Тривии и Квадривии: в ту входили грамматика, риторика и диалектика; в эту – арифметика, геометрия, музыка и астрономия.[89]89
Conv. II, 13.
[Закрыть] Большая часть этих наук была лишь варварским полуневежеством, кладбищем древнеэллинских знаний, высохшим колодцем, камнем вместо хлеба. Хлеб нашел Данте не во многих мертвых книгах, а в единственной живой. «Будучи отроком, он уже влюбился в Священное Писание», – вспоминает один из надежнейших, потому что ближайших ко времени Данте, истолкователей «Комедии».[90]90
F. Buti, ed Gianini, 2, 735.
[Закрыть] Так же, как в маленькую девочку Биче, «влюбился» он и в великую, древнюю Книгу. «Данте, говорят, был в ранней юности послушником в братстве св. Франциска, но потом оставил его», – вспоминает другой, позднейший, истолкователь.[91]91
Landino, 16, 106.
[Закрыть] Раньше семнадцати лет Данте, по уставу Братства, не мог принять пострига; но думать о том мог, конечно, и раньше.
Я был тогда веревкой опоясан
И думал ею изловить Пантеру
С пятнистой шкурой, —
(сладострастную Похоть), – вспоминает сам Данте, в Аду, может быть, о той веревке Нищих Братьев, которую носил, или о которой мечтал, с ранней юности.[92]92
Inf. XVI, 106.
[Закрыть]
Судя по тому, что впоследствии он должен был всему переучиваться, в школе он учился плохо. Кажется, главная его наука была в вещих снах наяву, в «ясновидениях». – «Многое я уже тогда видел как бы во сне».[93]93
Conv. II, 12.
[Закрыть] – «Данте… видел все», – по чудному слову фр. Саккетти.[94]94
F. Sacchetti. Novella 114: Dante che tutto vedea.
[Закрыть] Истинная наука есть «не узнавание, а воспоминание, anamnêsis», – это слово Платона лучше всех людей, кроме святых, понял бы Данте; узнает – вспоминает он, только в самую глухую ночь, когда
душу еще не рожденной, но уже зачатой музы Данте. – «Я уже тогда сам научился говорить стихами», – вспомнит он об этих пророческих снах. Учится в них говорить «сладкие речи любви».[96]96
V. N. III. – M. Barbi, p. 13.
[Закрыть]
Первый светский учитель Данте, не в школе, а в жизни, – самый ранний гуманист, Брунетто Латини, консул в цехе судей и нотариев, государственный канцлер Флорентийской Коммуны, сначала посланник, а потом один из шести верховных сановников, Приоров; «великий философ и оратор», по мнению тогдашних людей, а по нашему, – ничтожный сочинитель двух огромных и скучнейших «Сокровищ», Tesoro – одного на французском языке, другого – на итальянском, – в которых солома хочет казаться золотом.[97]97
M. Paleologue. Dante (1909), p. 225 – Scherillo, p. 144.
[Закрыть] «Он первый очистил наших флорентийцев от коры невежества и научил их хорошо говорить и управлять Республикой, по законам политики», – славит его летописец тех дней Джиованни Виллани, только с одной оговоркой: «Слишком был он мирским человеком».[98]98
G.Villani, Cron. VIII, 10.
[Закрыть]
Немножечко мирскими
Прослыли мы в те дни, —
признается и сам Брунетто.[99]99
Scherillo, p. 134.
[Закрыть] Что это значит, объяснит он, покаявшись на старости лет, когда и черт становится монахом:
Больше всего оскорблял тем пороком, о котором скажет Ариосто:
Слишком усердно подражал Брунетто великим образцам языческой древности; слишком нравились ему отроки с девической прелестью лиц, каких много было тогда во Флоренции, каким был и Данте, судя по Джиоттову образу над алтарем в часовне Барджелло (лет в пятнадцать, когда, вероятно, зазнал Данте сера Брунетто, эта девическая, почти ангельская, прелесть Дантова лица могла быть еще пленительней, чем в позднейшие годы, когда писана с него икона-портрет Джиотто).
«Вот связался черт с младенцем!» – посмеивались, должно быть, знавшие вкусы Брунетто над удивительной дружбой великого сановника с маленьким школьником. Думал ли старый греховодник сделать Данте для себя тем же, чем, в Платоновом «Пире», хочет быть Алкивиад для Сократа? Если и думал, то мальчик этого не знал; не узнает, или не захочет знать, и взрослый человек. Но о смертном грехе своего любимого учителя Данте знал так несомненно, что ни искреннее, кажется, хотя и позднее, раскаяние грешника, ни сыновне-почтительная любовь к учителю не помешают ему осудить его на седьмой круг ада, где он его и увидит в сонме вечно бегающих, под огненно-серным дождем, содомитов.[102]102
Tesoretto V, 2849. – Scherillo, p. 141.
[Закрыть]
Когда ко мне он руки протянул,
Я обожженное лицо его увидел, —
жалкое, коричнево-красное, маленькое, черепку обожженному подобное, личико увидел, и тотчас же узнал:
В этом удивленном возгласе слышится только бесконечная жалость, а за нею, может быть, и странная легкость, с какой ученик прощает смертный грех учителю, или даже совсем о нем забывает.
Два бессмертья: одно – на небе, то, которому учат иноки Санта-Кроче; другое – на земле, то, которому учит сер Брунетто, «мирской человек». Надо будет отроку Данте сделать выбор между этими двумя бессмертьями, – двумя путями, – вслед за св. Франциском Ассизским, или за «божественным Вергилием».
Если же он выбора не сделает, то, прежде, чем это скажет, уже почувствует: «есть в душе моей разделение», – между двумя Близнецами, двумя Двойниками, – Знанием и Верой.[105]105
Conv. II, 6.
[Закрыть]
Но это «разделение души» на две половины, земную и небесную, – только внизу, а наверху – соединяющий небо и землю чистейший образ Ее, Беатриче, надо всей его жизнью, ровным светом горящий, как тихое пламя – вечная тихая молния Трех.
«С этого дня (первой с нею встречи)… бог Любви воцарился в душе моей так… что я вынужден был исполнять все его желания. Много раз повелевал он мне увидеть этого юнейшего Ангела. Вот почему, в детстве, я часто искал ее увидеть, и видел».[106]106
V. N. II.
[Закрыть]
Может быть, не только видел, но и говорил с нею, в той длинной, черной тени на белую площадь от башни делла Кастанья, утренним солнцем, откинутой. «С раннего детства ты был уж Ее», – напоминает ему бог Любви, может быть, об этих детских свиданьях.[107]107
V. N. XII.
[Закрыть] О них, может быть, вспомнит и сам Данте:
И уж наверное, вспомнит о них Беатриче в страшном суде над ним, павшим так низко, что ничем нельзя будет спасти его, кроме чуда:
Знал ли двенадцатилетний мальчик, Данте, что с ним делают, или что с ним делается, когда 9 февраля 1277 года (это первая из немногих точек в жизни его, освещенная полным светом истории) заключен был у нотариуса письменный договор между сером Алигьеро и его ближайшим соседом, Манетто Донати, о будущем браке Данте с дочерью Манетто, Джеммой? Данте знал ее давно, может быть, раньше, чем Биче Портинари, потому что они жили почти под одною кровлей, в двух соседних домах, разделенных только небольшим двором, виделись постоянно и, может быть, играли или беседовали на той же солнечно-белой площади, в той же черной тени от башни, где встречался он и с Биче. Но в день помолвки, глядя на эту знакомую, может быть, миловидную, но почему-то вдруг ему опостылевшую, чужую, скучную девочку, не вспомнил ли он ту, другую, единственно ему родную и желанную?
Очень вероятно, что сер Алигьеро, замышляя этот брак, по обычным, в те дни, семейно-политическим и денежным расчетам, желал добра сыну: думал, что ему полезно будет войти в род Донати, хотя и не более древний и знатный, чем род Алигьери, но ничем не запятнанный, как этот, – увы, по его же собственной, сера Алигьеро, вине; думал, может быть, что и тщательно, в брачном условии, оговоренное невестино приданое, хотя и скаредное, – 200 малых золотых флоринов, – тоже на улице не валяется и может пригодиться ему, сыну полуразоренного менялы.
Так совершились две помолвки Данте: первая, с Биче Портинари, земная и небесная вместе, и вторая, с Джеммой Донати, – только земная. «Сладкий и страшный бог Любви» присутствовал на той, а на этой – «маленький бесенок, с насморком», – и тогда уже мальчику Данте, может быть, по отцу, знакомый, ненавистный «меняло-торгашеский» дух.
Две помолвки – два брака; но только один из них действителен. Какой же? В церкви ли венчанный? Надо будет Данте сделать выбор между этими двумя браками, а если он его не сделает, то снова почувствует, прежде чем скажет: «Есть в душе моей разделение».
IV. ПОЖИРАЕМОЕ СЕРДЦЕ
В 1283 году, или очень близко к этому году, произошло в жизни восемнадцатилетнего юноши Данте три великих события: два роковых, одно – роковое и благодатное вместе. Первое – смерть отца. Глядя в мертвое лицо его, понял ли Данте свою вину перед ним – презрение, молчание о тех, кто «никогда не жил»:
Понял ли вину и его, этого несчастного менялы, ничтожного потомка великих предков, единственную перед сыном, – его рождение? Понял ли, простил ли вину эту, или, не поняв до конца, молча взглянул и прошел; только ниже еще опустились, может быть, горько, точно с бесконечною брезгливостью к миру и людям, опущенные углы рта?
Мимо второго события, в том же году, он уже не мог бы пройти молча: Биче Портинари вышла, или, вернее, выдана была замуж (девушки тогда не выходили, а выдавались замуж) за мессера Симоне де Барди, из вельможного рода богатейших флорентийских менял, чьи торговые дома рассеяны были по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, а может быть, и до Великого Могола в полусказочной Тартарии.[111]111
I del Lungo. Beatrice (1891), p. 13, 58, 67 – E. Lamma. Questioni dantesche (1902), p. 68; 73.
[Закрыть] Судя по тому, что мессер Симоне женился на Биче, овдовев от первой жены, и что вторая жена его, семнадцатилетняя девочка, оказалась мачехой скверного мальчишки-пасынка, из которого вышел потом большой негодяй, муж монны Биче был человеком уже немолодым.[112]112
R. Davidsohn, p. 347.
[Закрыть]
«Многие почитали отца ее тем, чем он в действительности был, – человеком добрейшим», – скажет Данте об отце Беатриче.[113]113
V. N. XXII.
[Закрыть] За год до смерти завещает он большую часть своего огромного богатства, нажитого тоже в меняльном деле (участь юного Данте жить среди менял), не пяти сыновьям и шести дочерям, а великолепной, им построенной, первой во Флоренции, больнице для бедных, при церкви Санта-Мария-Нова.[114]114
del Zungo, p. 3.
[Закрыть] Там он будет и похоронен, вместе со старой любимой служанкой, монной Тэссой (Tessa), посвятившей себя уходу за больными, – может быть, Беатричиной няней. Простое, сильное и доброе лицо ее можно видеть в изваянии на уцелевшем доныне надгробном памятнике.[115]115
A. Bassermann. Dantes Spuren in Italien (Ital. Ubs.), p. 34.
[Закрыть]
Очень вероятно, что сер Фолько Портинари, выдавая дочь за сера Симоне де Барди, так же хотел ей добра, как отец Данте – сыну, совершая помолвку его с Джеммой Донати. Может быть, брак Беатриче задуман был по таким же семейно-политическим и денежным расчетам, как и брак Данте: знатность к знатности, деньги к деньгам. Очень вероятно, что выдаваемая замуж, семнадцатилетняя Биче знала не многим больше, что с нею делают, или что с ней делается, чем помолвленный двенадцатилетний Данте. Но теперь он уже это знал и за себя, и за нее. Только что покинула она дом Портинари, соседний с домом Алигьери, для великолепного дворца-крепости де Барди, с толстыми, точно тюремными, стенами и зубчатыми башнями, в далеком квартале за Арно, у моста Рубаконте, – страшно опустело для Данте старое гнездо Алигьери, да и вся Флоренция, – весь мир.[116]116
del lungo, 65.
[Закрыть] Сколько бы ни затыкал ушей, не мог он не слышать нового ее, чужого имени: «монна Биче де Барди»; сколько бы ни закрывал глаз, не мог не видеть, как входит невеста в брачный покой жениха; и как бы ни хотел умереть или сойти с ума, чтобы не думать, все-таки думал о том, что было с нею, когда она туда вошла.
Третье событие, в том же году, – роковое и благодатное вместе.
«Ровно через девять лет… после первого явления той благороднейшей, gentilissima… она явилась мне снова, в одежде белейшего цвета, между двумя благородными дамами старшего возраста… и, проходя по улице, обратила глаза свои в ту сторону, где я стоял, в великом страхе; и с той несказанною милостью, за которую ныне чтут ее в мире ином, поклонилась мне так, что я, казалось, достиг предела блаженства… То было… в час дня девятый… И в первый раз ее слова коснулись слуха моего так сладостно, что, вне себя, я бежал от людей в уединенную келью мою и начал думать об этой Любезнейшей. И, в мыслях этих, нашел на меня тишайший сон, и посетило меня чудесное видение: как бы огнецветное облако и, внутри его, образ Владыки с лицом для меня ужасным; но сам в себе казался он радостным… И понял я из многого, что он говорил, только одно: „Я – твой владыка. Ego dominus tuus“. Девушка спала на руках его, вся обнаженная, только в прозрачной ткани цвета крови… И в одной руке держал он что-то, горевшее пламенем, и сказал мне так: „Vide cor tuum. Вот сердце твое!“ И, подождав немного, разбудил спящую… и принудил ее вкусить от того, что пламенело в руке его. И она вкушала в сомнении, dubitosamente. Вскоре же после того радость его обратилась в плач… и, подняв на руках девушку, вознесся он с нею на небо. И, почувствовав такую скорбь, что легкий сон мой вынести ее не мог… я проснулся. И тотчас же… вспомнил, что час, когда явилось мне видение… был первый из девяти последних ночных часов».[117]117
V. N. III.
[Закрыть]
Старую народную сказку о сердце любовника, пожираемом возлюбленной, повторяют многие провансальские певцы-трубадуры тех дней. Данте, хорошо их знавший, мог узнать от них и эту сказку. Но по тому, как он ее рассказывает, чувствуется, что это для него больше, чем сказка. Может быть, он так долго и пристально думал о ней, что сказочное сделалось для него действительным, в страшном и чудном видении, вещем сне наяву. Чудно и страшно то, что Данте видит, в первый и последний раз, в этом сне, наготу Беатриче: «девушка спала на руках бога Любви, вся обнаженная». Любящий видит наготу возлюбленной только в том соединении любви, когда «они уже не двое, но одна плоть» (Мт. 19, 6). Видели наготу Беатриче только два человека: Симон де Барди и Данте Алигьери, муж и возлюбленный; тот – наяву, этот – во сне. Но что действительнее – явь того или сон этого, – люди не знают; знает только «сладкий и страшный бог Любви».
Что значит для Данте нагота Беатриче, мог бы понять Ботичелли. Лучше ослепнуть, чем грешными глазами увидеть наготу чистейшую Той, что смутилась от слова Ангела: «Радуйся, Благодатная»; лучше сойти с ума, чем помыслить об этой наготе, – знает Ботичелли так же хорошо, как Данте. Но прежде чем сойти с ума и едва не сжечь свою Новорожденную Венеру на костре Саванароллы, он все-таки увидел в ее земной наготе – неземную. Слишком одинаковы детски-испуганные и заплаканные очи только что родившейся Венеры и только что родившей Богоматери, чтобы не узнать одну в двух: плачет, страшится та, может быть, оттого, что родилась, а эта, – оттого, что родила. Та, в одежде, – эта; эта, обнаженная, – та.
Чудно и страшно, что Данте видит наготу Беатриче; но еще страшнее, чудеснее, что бог Любви принуждает ее пожирать сердце возлюбленного; что чистейшая любовь этой «Женщины-Ангела», donna angelicata, подобна сладострастию паучихи, пожирающей самца своего.
Что это значит, Данте не может понять и мучается так, что едва не сходит с ума.
Ты злым недугом одержим и бредишь;
Ступай к врачу, —
остерегает его, узнав об этом, тезка его, Данте да Майяно, в грубых, но неглупых, стихах, потому что и доныне, можно сказать, единственный нелицемерный суд мира сего над любовью Данте к Беатриче – этот: «Ты злым недугом одержим, ступай к врачу».[118]118
Rime 4.
[Закрыть]
Близость «злого недуга» и сам Данте, кажется, чувствует, в эти дни. «После моего видения… я так похудел и ослабел, что друзьям было тяжело смотреть на меня».[119]119
V. N. IV.
[Закрыть] – «И слышал я, как многие говорили обо мне: видите, как этою Дамою разрушено тело его!»[120]120
V. N. V.
[Закрыть]
Лучше всего видно по этому, что вещий сон о пожираемом сердце для Данте – не старая, милая сказка, а страшная новая действительность – дело жизни и смерти.
Но очень вероятно, что были и такие минуты, когда «злой недуг» затихал, и Данте смешивал действительность с вымыслом, «сладкие речи» – с горьким делом любви; играл, или хотел играть, как школьник, с тем, с чем не должно играть. Может быть, в одну из таких минут, и решился он открыть свое видение многим, прославленным в те дни певцам-трубадурам. «Так как я сам тогда уже научился говорить стихами, то решил написать сонет об этом видении, посвященный всем верным слугам (бога) Любви». С детски-простодушным доверием, по тогдашнему любовно-школьному обычаю, разослал он им этот сонет, которым и начинается вся его поэзия:
Кажется, впрочем, и здесь Данте не только играет, но делает, или хочет сделать что-то нужное для себя и для других, – ищет у людей помощи и хочет им помочь, в общем с ними, «злом недуге» любви; может быть, открывает он людям, невольно, эту заповеднейшую тайну любви своей, уже предчувствуя, что она имеет какой-то новый, людям неведомый, роковой или благодатный смысл не только для него одного, но и для всего человечества. Как бы то ни было, очень знаменательно, что, открывая тайну свою, Данте, хотя и признается, что «внезапное явление бога Любви было для него ужасно», все-таки утаивает самое ужасное или блаженное в этом явлении – наготу Беатриче.[122]122
V. N. III.
[Закрыть]
«Многие по-разному ответили мне на этот сонет… Но истинный смысл того сна не был тогда понят никем; ныне же он ясен и для самых простых людей». Нет, и ныне все еще темен: вот уже семь веков люди ломают голову над этой загадкой Данте – вечной загадкой любви; и сейчас она темнее, чем когда-либо.
«Был среди ответивших и тот, кого я называю первым из друзей моих… И то, что он ответил мне, было как бы началом нашей дружбы».[123]123
V. N. III.
[Закрыть] Этот первый друг его, Гвидо Кавальканти – лучший флорентийский поэт тех дней, – «прекрасный юноша, благородный рыцарь, любезный и отважный, но гордый и нелюдимый, весь погруженный в науку», – вспоминает о нем летописец, Дино Кампаньи. – «Может быть, никого, во Флоренции, не было тогда ему равного», – вспомнит о нем и веселый рассказчик, Франко Саккетти.[124]124
D. Compagni, Cron. I – F. Sacchetti. Novella 68.
[Закрыть]
Кажется, Данте заразился от Кавальканти, а может быть, и от других, усердно им, в те дни, изучаемых провансальских любовных певцов-трубадуров, болезнью века – ученым школярством, схоластикой любви.[125]125
F. Torraca, Nuovi studi danteschi (1921), p. 514 – H. Hauevette, p. 96.
[Закрыть] Юные дамы на провансальских «Судах Любви», corte d'amore, философствуют с ученой «любезностью», ссылаясь на Аристотеля, Платона, Аверрона, Ависенну и Боэция, не хуже старых ученых схоластиков.[126]126
M. Barbi, p. 191.
[Закрыть]
«Чтобы философствовать, нужно любить», – скажет Данте;[127]127
Conv. IlI, 13.
[Закрыть] но мог бы сказать и наоборот: «Чтобы любить, надо философствовать»; так он и скажет действительно: «Надо, чтобы философские доводы внушили мне любовь».[128]128
Par. XXVI, 25.
[Закрыть]
Истинная любовь не плачет, не смеется, —
учит трубадур, Гвидо Орланди, тоже ученый схоластик любви. Мог бы, или хотел бы с этим согласиться и Данте.[129]129
R. de Gourmont, Dante, Beatrice et la poesie amoureuse (1922), p. 47.
[Закрыть] Все, в «Новой жизни», как будто философски доказано, измышлено, измерено, исчислено; все правильно, как в геометрии. Сам бог или демон Любви – Геометр; вместо факела, в руке его, – циркуль. – «Юношу увидел я… в белых одеждах, сидевшего рядом со мной, на моей постели, и смотревшего на меня задумчиво… И он сказал мне: „Я – как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от всех точек окружности, а ты – не так“. И я спросил его: „Зачем ты говоришь… так непонятно?“» [130]130
V. N. XII.
[Закрыть] Или, может быть, напротив, – слишком понятно, отвлеченно-холодно.
Но все это – как будто, а на самом деле вовсе не так. Холодно – извне, а внутри – огненно. Меряет божественный Геометр круг любви – круг вечности – циркулем, а сам «горько плачет».[131]131
V. N. XII.
[Закрыть] Плачущая «геометрия» любви, – в нежности своей почти страшная, такая же вся трепетно-живая, страстная и заплаканная, как Августинова «Исповедь».[132]132
J. Symonds. Dante (1891), p. 47.
[Закрыть] Более точной записи того, что говорит Любовь сердцу человеческому, не было никогда и, вероятно, не будет.
Пальцы у него в чернилах, как у школяра-схоластика, но когда пишут в стихах «стройными длинными и тонкими», на него самого похожими буквами, «сладкие речи любви», то дрожат от волнения.[134]134
L. Bruni (Solerti, p. 104).
[Закрыть] Сухо шелестят страницы пыльных, старых книг, но подымает их вещий из открытого окна, душисто-влажный, как поцелуй любви, весенний ветер. Эта юная утренняя, клейкими листочками пахнущая, «схоластика любви» – совсем не такая, какой будет потом и какой она кажется нам. Дышит сквозь нее вся прелесть и нежность, все благоухание ранней флорентийской весны, Primavera, или розово-серая туманность, жемчужность летнего утра, – та же грусть о недолговечности всех радостей земных, как в детски-испуганных, заплаканных глазах Весны Ботичелли.
Очень простой и печальный смысл «Новой жизни» можно бы выразить двумя словами: нельзя любить; здесь, на земле, в теле земном, человеку любить нельзя; нет любви, – есть похоть, в браке или в блуде, а то, что люди называют «любовью», – только напрасное ожидание, неутолимая память о том, что где-то, когда-то была любовь, и робкая надежда, что будет снова. Нет любви на земле, – есть только тень ее, но такая прекрасная, что кто ее однажды увидел, готов отдать за нее весь мир. Вот почему, в книге этой, – такая грусть и такое блаженство.
Вот как вспоминает летописец тех дней о флорентийских празднествах «Владыки Любви», signor Amore, в том же году, когда явился он впервые восемнадцатилетнему отроку Данте. «В 1283 году от Рождества Христа, в городе Флоренции, бывшем тогда в великом спокойствии, мире и благоденствии, благодаря торговле своей и ремеслам… в месяце июне, в Иванов день… многие благородные дамы и рыцари, все в белых одеждах… шествуя по улицам, с трубами и многими другими музыкальными орудиями… чествовали, в играх, весельях, плясках и празднествах, того, чье имя: Любовь. И продолжалось то празднество около двух месяцев, и было благороднейшим и знаменитейшим из всех, какие бывали когда-либо во Флоренции. Прибыли же на него и из чужих земель многие благородные люди и игрецы-скоморохи, и приняты были с великим почетом и ласкою».[135]135
G. Villani, Cron. VII, 88.
[Закрыть]
Вcя Флоренция, в эти дни, – город влюбленных юношей и девушек, мальчиков и девочек, таких же, как Данте и Биче.
Чтобы понять, что тогда совершалось, надо вспомнить: скоро зашевелится вся земля окрестных долин и холмов от восстающих из нее мертвецов древних богов или демонов. Первым вышел бог Любви, «Владыка с ужасным лицом», и явился Данте, первому.[136]136
V. N. III.
[Закрыть] Самое ужасное в этом лице – смешение бога с демоном и сходство его то с Беатриче, то с самим Данте: это как бы чередующийся двойник обоих.