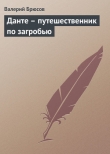Текст книги "Данте"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Чувство внутреннего бессилия, измены и лжи перед самим собою, – вот что для Данте самое тяжкое в бедности. Благословляет бедность в других, а когда дело доходит до него самого, проклинает ее и запирает от нее двери, как от смерти. В мыслях, «древняя Волчица» есть, для него, проклятая Собственность, Богатство; а в жизни, – Бедность. Одно говорит, а делает другое; думает по-одному, а живет по-другому. И если чувствует, – что очень вероятно, – это противоречие, то не может не испытывать тягчайшей муки грешной бедности – самопрезрения.
Судя по тогдашним нравам нищих поэтов, Данте, может быть не слишком усердствует, когда, стараясь отблагодарить своих покровителей за бывшие подачки и расщедрить на будущие, славит в «Чистилище» кошелек великолепного маркиза Маласпина, более щедрый для других, чем для него;[395]395
Purg. VIII, 118.
[Закрыть] или когда, в «Раю», прапрадед Качьягвидо обнадеживает его насчет неслыханной щедрости герцога Веронского:
Данте мог презирать такие клеветы врагов своих, как бранный сонет, в котором один из тогдашних плохих стихотворцев кидает его, за «низкую лесть», в его же собственный Ад, в зловонную «яму льстецов»;[397]397
Zingarelli, p. 670.
[Закрыть] но бывали, вероятно, минуты, когда он и самому себе казался немногим лучше «льстеца», «приживальщика», «прихлебателя».
Слишком хорошо знал он цену своим благодетелям, чтобы каждый выкинутый ими кусок не останавливался у него поперек горла, и чтобы не глотал он его с горчайшими слезами стыда.
Стыд заглушив, он руку протянул,
Но каждая в нем жилка трепетала.
Низко кланяется, гнет спину, «выпрашивая хлеб свой по крохам»,[398]398
Par. VI, 141.
[Закрыть] – и вдруг возмущается: «Много есть государей такой ослиной породы, что они приказывают противоположное тому, чего хотят, или хотят, чтобы их без приказаний слушались… Это не люди, а звери».[399]399
Conv. I, 2.
[Закрыть] – «О, низкие и презренные, грабящие вдов и сирот, чтобы задавать пиры… носить великолепные одежды и строить дворцы… думаете ли вы, что это щедрость? Нет, это все равно что красть покров с алтаря и, сделав из него скатерть, приглашать к столу гостей… думая, что те ничего о вашем воровстве не знают».[400]400
Conv. IV, 27.
[Закрыть]
«Властвовать над людьми должен тот, кто их всех превосходит умом», – вспоминая эти слова Аристотеля, Данте думает, конечно, о себе.[402]402
Mon. I, 3: «Intelectu scilicet vigentes aliis naturaliter principari».
[Закрыть]
Кажется, именно в бедности, узнав, по собственному опыту, за что восстают бедные на богатых: «тощий» народ на «жирный», Данте почувствовал, один из первых, грозную возможность того, что мы называем «социальной революцией», «проблемой социального неравенства».
Против человеческой низости было у него страшное оружие – обличительное слово, которым выжигал он на лице ее, как железом, докрасна раскаленным на огне ада, или как брызнутой в лицо серной кислотой, – неизгладимое клеймо. Но оружие это двуострое: оно обращается иногда и на него самого, «Данте, муж, во всем остальном, превосходный, только одним врожденным недостатком был в тягость всем, – сообщает поздний, XVI века, свидетель, передавая более раннее, может быть, от современников Данте идущее, предание или воспоминание. – Часто предавался он яростному гневу до безумия и, не думая о том, сколь великим опасностям подвергают себя оскорбители сильных мира сего, слишком свободным языком своим оскорблял их безмерно».[403]403
G. Paranti, p. 151 (Foclietta, Clarorum Ligurum elogia, p. 254).
[Закрыть]
Кажется, сам Данте чувствовал в себе этот «врожденный недостаток» и, в спокойные минуты, боролся с ним:
Слишком хорошо знает он, что неосторожная правда, в устах нищего, – для него голодная смерть, или то, что произошло с ним, – если верить тому же позднему, по вероятному свидетельству, – в 1311 году, в Генуе, где слуги вельможи Бранка д'Ориа (Branca d'Oria), оскорбленного стихами Данте, подстерегши его на улице, избили кулаками или палками.[405]405
Ср. пр. 41.
[Закрыть] Все равно, было это или не было: это могло быть. И Данте знал, что могло, что множество глупцов и негодяев вздохнуло бы с облегчением, узнав, что человек, у которого всегда было наготове каленое железо и серная кислота для их бесстыдных лбов, умер или убит, как собака.
Люди довольно легко прощают своим ближним преступления, подлости, даже глупости (их прощают, пожалуй, всего труднее) – под одним условием: будь похож на всех. Но горе тому, кем условие это нарушено и кто ни на кого не похож. Люди заклюют его, как гуси попавшего на птичий двор умирающего лебедя или как петухи – раненого орла. Данте, среди людей, такой заклеванный лебедь или орел. Жалко и страшно видеть, как летят белые, окровавленные перья лебедя под гогочущими клювами гусей; или черные, орлиные, – под петушиными клювами. Данте, живому, люди не могли простить – и все еще не могут простить – бессмертному, того, что он так не похож на них; что он для них такое не страшное и даже не смешное, а только скучное чудовище.
Может быть, он и сам не знал иногда, чудо ли он или чудовище; но бывали и такие минуты, когда он вдруг видел во всех муках изгнания своего, нищеты и позора – чудо Божественного Промысла; и слышал тот же таинственно зовущий голос, который услышит, проходя через огненную реку Чистилища:
Здесь нет иных путей, как через пламя…
Между тобой и Беатриче – только эта
Стена огня. Войди же в него, не бойся!
Вот Уже глаза, ее глаза я вижу!
Может быть, Данте чувствовал, в такие минуты, свою бесконечно растущую в муках силу.
Что дает ему эту силу, он и сам еще не знает; но чувствует, что победит ею все.
Когда вспоминает он о другом нищем изгнаннике, то думает и о себе:
Купит грядущую славу только настоящим позором – это он узнает из беседы в Раю с великим прапрадедом своим, Качьягвидо:
«…Боюсь, что, если буду
Я боязливым другом правды в песнях,
То потеряю славу в тех веках,
Которым наше время
Казаться будет древним». – Воссиял
Прапрадед мой, как солнце, и в ответ
Сказал мне так: «Чья совесть почернела,
Тот режущую силу слов твоих
Почувствует; но презирая ложь,
Скажи бесстрашно людям все, что знаешь…
…Твои слова
Сначала будут горьки, но потом
Для многих сделаются хлебом жизни,
И песнь твоя, как буря, поколеблет
Вершины высочайших гор,
Что будет славой для тебя немалой».[409]409
Par. XVII, 127.
[Закрыть]
Песнь о Трех Дамах, сложенная, вероятно, в первые годы изгнания, лучше всего выражает то, что Данте чувствовал в такие минуты. Жесткую, сухую, геральдическую живопись родословных щитов напоминает эта аллегория. Трудно живому чувству пробиться сквозь нее, но чем труднее, тем живее и трогательнее это чувство, когда оно наконец пробивается.
К богу Любви, живущему в сердце поэта, приходят Три Дамы (и здесь, как везде, всегда, число для Данте святейшее – Три): Умеренность, Щедрость, Праведность. Temperanza, Largezza, Drittura. Может быть, первая – Святая Бедность, Прекрасная Дама, св. Франциску известная; вторая – святая Собственность, ему неизвестная; а третья – неизвестнейшая и прекраснейшая, соединяющая красоту первой и второй в высшей гармонии, – будущая Праведность. «Ждем, по обетованию Его, нового неба и новой земли, где обитает Правда» (II Петр. 3, 13). Или, говоря на языке «Калабрийского аббата Иоахима, одаренного духом пророческим»:[410]410
Rime 104.
[Закрыть] святая Щедрость – в Отце, святая Бедность – в Сыне, а третья – Безымянная, людям еще неизвестная, святость – в Духе. Если так, то и это видение Данте относится все к тому же вечному для него вопросу о том, что Евангелие называет так глубоко «Умножением – Разделением хлебов», а мы так плоско – «социальной революцией», «проблемой социального неравенства».
Три Дамы к сердцу моему пришли…
Как к дому друга, зная,
Что в нем живет Любовь…
И на руку одна из них склонила, плача,
Лицо свое, как сломанная роза…
И жалкую увидев наготу
Сквозь дыры нищенских одежд, Любовь
Ее спросила: «Кто ты, и о чем
Так горько плачешь?»
«Мы, нищие, бездомные, босые,
Пришли к тебе, – ответила она. —
Я – самая несчастная их трех;
Я – Праведность, сестра твоя родная…»
Ответ Любви был вздохами замедлен,
Потом, очами, полными надежды,
Приветствуя изгнанниц безутешных,
Она схватила в руки два копья
И так сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь! Вот оружье наше;
От ветхости заржавело оно.
Умеренность, и Щедрость, и другая
От нашей крови, – нищенствуя, в мире
Скитаются. Но, если это – зло,
То пусть о нем рожденные во зле,
Под властью рока, люди плачут, —
Не мы, чей род – от вечного гранита.
Пусть презренны мы ныне и гонимы, —
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья!»
И, слушая тех царственных изгнанниц,
Как плакали они и утешались,
В божественной беседе, я впервые
Изгнание мое благословил.
Пусть жалкий суд людей иль сила рока
Цвет белый черным делает для мира, —
Пасть с добрыми в бою хвалы достойно.[411]411
Vulg. Eloqu. I, 17.
[Закрыть]
Два сокровища находит нищий Данте в изгнании; первое – итальянский «народный язык», vulgare eloquium. В Церкви и в государстве все говорили тогда на чужом и мертвом латинском языке, а родной и живой, итальянский, – презирали, как «низкий» и «варварский», Данте первый понял, что будущее – за народным языком и усыновил этого пасынка, обогатил нищего, венчал раба на царство. Если тело народной души – язык, то можно сказать, что Данте дал тело душе итальянского народа, как бы снова создал его, родил; и знал величие того, что делает: «больше всех царей и сильных мира сего будет тот, кто овладеет… царственным народным языком».[412]412
Passerini, p. 206.
[Закрыть]
Второе сокровище нищего Данте – «Божественная комедия». Начал он писать ее, вероятно, еще во Флоренции, между 1300-м и 1302 годом, но потом, в изгнании, вынужден был оставить начатый труд.[413]413
Boccaccio. Vita (Solerti, p. 52).
[Закрыть] Через пять лет, в 1307 году, по свидетельству Боккачио, флорентийские друзья Данте прислали ему рукопись первых семи песен «Ада», найденную ими случайно в сундуке с домашней рухлядью. «Я думал, что рукопись моя погибла вместе с остальным разграбленным моим имуществом, – сказал будто бы Данте. Но так как Богу было угодно, чтобы она уцелела и вернулась ко мне, я сделаю все, что могу, чтобы продолжить и кончить мой труд».[414]414
Passerini, p. 199.
[Закрыть]
С этого дня «Святая Поэма», sacra poema, сделалась верной спутницей его на всех путях изгнания.
В явно подложном «письме брата Илария» о встрече с Данте в горной обители Санта-Кроче дэль Корво есть одно подлинное свидетельство: рукопись «Комедии» всегда была при нем, в его дорожной суме.[415]415
«Fuss'io pur lui! ch'a tal fortuna nato, / Per l'aspro esilio suo, con la virtute, / Dare' del mondo il piu felice stato».
[Закрыть] Всякий лихой человек (а таких было тогда, на больших дорогах, множество) мог его убить и ограбить безнаказанно, по приговору Флорентийской Коммуны; а сделав это, мог, в досаде, что ничем не удалось поживиться от нищего, – развеять по ветру или втоптать в грязь найденные листки «Комедии». Думая об этом, Данте испытывал, вероятно, то же, что тогда, когда слуги оскорбленного вельможи «ослиной породы» били его, на улице, палками. Но, может быть, он чувствовал, что такой позор человеческий нужен ему, чтобы поэма его, «Комедия» (он сам дал ей это имя) могла сделаться «Божественной», как назовут ее люди.
Муки изгнания и нищеты были нужны ему, чтобы узнать не только грешную слабость свою, в настоящем, но и святую силу, в будущем; или хотя бы сделать первый шаг к этой новой святости, неведомой св. Франциску Ассизскому и никому из святых.
Когда говорил Данте бог Любви:
Наш род – от вечного гранита,
Noi, che semo dell'eterna rocca, —
и когда благословлял он изгнание свое, – он знал, что «ему позавидуют некогда лучшие люди в мире».
О если б я был им!
С такою силой духа,
Как у него, – за горькое изгнанье,
За все его бесчисленные муки,
Я отдал бы счастливейший удел!
скажет великий о величайшем, Микель Анжело – о Данте.[416]416
Purg. XXVII, 142.
[Закрыть]
Вот почему тебя я надо всеми
Короною и митрою венчаю, —
скажет Виргинии, на вершине «святой горы Очищения»: Данте будет увенчан короною, выше всех царей, и митрою – выше всех пап – это он знал наверное. Вот каким сокровищем владел он, в нищете, и какою славою – в позоре.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное. (Мт. 5, 10).
Всех изгнанных за правду, бездомных и нищих скитальцев, всех презренных людьми и отверженных, всех настоящего Града не имеющих и грядущего Града ищущих вечный покровитель – Данте-Изгнанник.
XV. ДАНТЕ И КЕСАРЬ
В 1308 году избран был в императоры Священной Римской Империи, под именем Генриха VII, маленький германский владетельный граф, Генрих Люксембургский. В следующем году послы его, прибыв в Авиньон, ко двору папы Климента V, возвестили ему, что государь их желает принять корону Кесаря из рук Его Святейшества, в Риме. Папа согласился на это и объявил нового императора в торжественной энциклике Exultat in gloria[417]417
Passerini, p. 245.
[Закрыть] избранником Божиим, посланным для того, чтобы установить мир всего мира.[418]418
Ih., p. 223.
[Закрыть]
«Генрих был человек великого сердца… мудрый, благочестивый… и праведный; был доблестный воин», – вспоминает летописец, Дж. Виллани,[419]419
G. Villiani. Cron. Vili, 101.
[Закрыть] – «Богу Всемогущему угодно было пришествие Генриха в Италию для того, чтобы совершилась в ней казнь всех тиранов… и чтобы самовластие их было навсегда уничтожено», – вспоминает и другой летописец, Дино Кампаньи.[420]420
D. Compagni Cron. III, 53.
[Закрыть] Вот почему, по свидетельству Виллани, «не только западные, но и восточные христиане, и даже неверные следили за походом Генриха с таким вниманием, что можно сказать: не было в те дни события, равного этому».[421]421
G. Villani. Cron. IX, 53.
[Закрыть]
Мир, затаив дыхание, ждал от нового императора, «посланника Божия», торжества человеческой совести там, где она всегда бывает поругана больше всего – в делах государственных. «Скажет праведник: есть Бог, судящий на земле» (Пс. 57, 12), – на это надеялись от Генриха все лучшие люди; но, может быть, никто не надеялся так, как Данте.
На этот вопрос его как будто отвечал ему мститель Божий, император Генрих: «Сейчас увидишь».
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко… ибо видели очи мои спасение Твое (Лк. 2, 29–30), —
мог бы сказать Данте, вместе с другом своим, поэтом Чино да Пистойя.[423]423
E. G. Parodi. L'ideale politico di Dante (1921), p. 106.
[Закрыть]
В эти дни Данте испытывал, может быть, чувство, подобное тому, какое испытает, выйдя из Ада, «чтоб вновь увидеть звезды».[424]424
Inf. XXXIV, 139.
[Закрыть]
В 1311 году, в самом начале похода, пишет он такое же торжественное послание «ко всем государям земли», как двадцать лет назад, по смерти Беатриче. Но то было вестью великой скорби, а это – великой радости.
«Всем государям Италии… Данте Алагерий, флорентийский невинный изгнанник… Ныне солнце восходит над миром… Ныне все алчущие и жаждущие правды насытятся… Радуйся же, Италия несчастная… ибо жених твой грядет… Генрих, Божественный Август и Кесарь… Слезы твои осуши… близок твой избавитель».[426]426
Ep. V.
[Закрыть]
Может быть казалось Данте, что в эти дни готово исполниться услышанное им в видении пророчество бога Любви тем трем Прекрасным Дамам, таким же, как он, нищим и презренным людьми, вечным изгнанницам:
Любовь сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь: вот оружье наше…
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья!»
Слишком настрадавшиеся люди легко обманываются ложными надеждами: так обманулся и Данте надеждой на Генриха; принял мечту за действительность, облака – за горы, марево воды – за настоящую воду.
Генрих и Данте близки друг другу хотя и очень глубокою, но не последнею близостью. Та же у обоих «прямота», drittura, по слову Данте, – как бы одна, идущая от души человеческой к миру и к Богу, геометрически прямая линия правды, противоположная всем кривым линиям лжи. Оба – «люди доброй воли», – те, о ком Ангелы пели над колыбелью Спасителя:
Мир на земле, в людях доброй воли.
Pax in hominibus bonae voluntatis.
Оба – высокие жертвы человеческой низости. Главная же близость их, может быть, в том, что оба – люди не своего времени. Но здесь начинается и то, что их разделяет: Данте – человек далекого будущего, а Генрих – близкого прошлого; тот родился на тридцать-сорок веков раньше, а этот – на три-четрые века позже, чем следует. Римская Священная Империя Генриха отделена от Монархии Данте тем же, чем прошлое отделено от будущего, и непохороненный покойник – от нерожденного младенца.
Генрих, «человек великого сердца», почти святой, отдает жизнь свою за обреченное дело, потому что, после Фридриха II Барбароссы, самая идея Священной Римской Империи почти погасла в умах. В 1264 году, за год до рождения Данте, когда «белокурый красавец» Манфред Гогенштауфен пал в бою под Беневентом, сражаясь с королем Карлом Анжуйским, – Священная Римская Империя кончилась.[427]427
Purg III, 106 – L. Prieur, p. 175.
[Закрыть] Мир шел, может быть, роковым для него и пагубным, но исторически неизбежным, путем, от всемирного бытия к народному, или, как мы говорим, «национальному», – от насильственного единства к свободному множеству и разделению народов.
Если Генрих – еще не Дон Кихот, то уже один из последних рыцарей и первых романтиков. Вечный спутник их, демон отвлеченности, искажает все его дела, или поражает их бесплодием. С лучшими намерениями делает он зло: желая восстановить порядок в занятых им областях Италии, только увеличивает хаос; сеет мир и пожинает войну.
Осенью 1310 года, спустившись с Альп в Ломбардию, с маленьким пятитысячным войском, новый император, в победоносном шествии, идет из города в город, «всюду устанавливая мир, как Ангел Божий», – вспоминает Дино Кампаньи.[428]428
Scartazzini, p. 390.
[Закрыть] – В день Богоявления, 6 января 1311 года, Генрих венчается в Милане железной короной ломбардских королей.
Данте видел Генриха, вероятно, в январе 1311 года, в Милане, вскоре после венчания. Царственного не было ничего в наружности этого сорокалетнего человека, небольшого роста, с голым черепом, с тихим, простым и печальным лицом. Легкая косина одного глаза придавала ему иногда, как это часто бывает при косине, выражение беспокойное и тягостное, почти зловещее; точно искажавший все дела его, насмешливый «демон отвлеченности» исказил и лицо его: «прямое сердце – косое око».[429]429
Passerini, p. 224 (D. Compagni).
[Закрыть]
Данте, по обычаю всех допущенных пред лицом императора, стоя на коленях и низко опустив лицо к ступеням трона, обнял и поцеловал ноги «Святейшего Августа». Дважды целовал он ноги человеку: в первый раз тому, кого больше всех ненавидел, – папе Бонифацию VIII; во второй – тому, кого, после Беатриче, больше всех любил, – императору Генриху; двум носителям высших властей, небесной и земной.
Кажется, в письме Данте к императору, писанном в том же году, месяца через два, есть намек на то, что он чувствовал при этом целовании: «Видел я и слышал тебя, Всемилостивейший… и обнимал ноги твои и уста мои исполнили свой долг. И возрадовался дух мой, и сказал я себе: „Вот Агнец Божий, взявший на себя грех мира“».[430]430
Ep. VII.
[Закрыть]
Лестью и кощунством могли бы казаться эти слова в устах всякого человека, кроме Данте, потому что никто не способен был меньше, чем он, к лести и кощунству. Что же они значат? Кажется, он хочет и не может выразить в них то, что тогда почувствовал в Генрихе, увидев, как бы в мгновенном прозрении, всю его грядущую судьбу – не золотым венцом венчаться в победе, а терновым – в страдании; быть обреченной на заклание жертвой – одним из многих агнцев Божиих, идущих за Единственным. И это увидев, он полюбил его еще больше, потому что в его судьбе узнал свою.
Данте узнал Генриха, но тот не узнал его, самого близкого и нужного ему человека, единственного в мире, который понял его и полюбил.
Слишком чист был сердцем Генрих для такого нечистого дела, как политика. В самом начале похода делает он роковую ошибку. Множество изгнанников, большей частью Гибеллинов, приверженцев императорской власти, изгнанных ее врагами. Гвельфами, и собравшихся из всех городов Верхней Италии, ищет в нем опоры и защиты, но не находит: он объявляет торжественно, что не хочет знать ни Гибеллинов, ни Гвельфов, потому что пришел в Италию не для вражды, а для мира. Но этого не поняли ни те, ни другие. Вместо того чтоб их примирить, он только ожесточил их друг против друга и восстановил против себя; Гвельфы считают его Гибеллином, а Гибеллины – Гвельфом. Стоя между двух огней, он топчет их оба, но не гасит; старую болезнь итальянских междуусобий загоняет внутрь, но не лечит; делается пастухом волчьего стада, не предвидя, что волки съедят пастуха.
После первой ошибки делает вторую, большую: насильственно возвращает Гибеллинов-изгнанников в те города, откуда они были изгнаны. Но, только что вернувшись на родину и чувствуя себя победителями, мстят они врагам своим, Гвельфам, так же беспощадно изгоняя их, как сами были ими некогда изгнаны.[431]431
Zingarelli, p. 70.
[Закрыть] И тотчас же по всей Верхней Италии вспыхивают бунты против императора. Две сильнейших крепости, Кремона и Брешия, запирают перед ним ворота. В медленных осадах проходят месяцы, и Генрих, в этой истощающей и бесславной Ломбардской войне, увязает, как в болоте.[432]432
Fraticelli, p. 183.
[Закрыть] А между тем злейший и опаснейший враг его, Флоренция, вооружается, приобретает союзников и подкупами, не жалея денег, разжигает все новые бунты.
В эти дни Данте прибыл в Тоскану, к источникам Арно, может быть, для того, чтобы ближе быть к Флоренции, куда надеялся, со дня на день, вернуться. Видя опасность, грозящую Генриху, он остерегает его письмом. Смысл этого темнейшего, писанного на плохом латинском языке и школьною ученостью загроможденного послания таков: «Что ты медлишь в Ломбардии? Или не знаешь, что корень зла не там, а здесь, в Тоскане? Имя его – Флоренция. Вот ехидна, пожирающая внутренности матери своей, Италии. Только раздавив ее, победишь, – спасешь себя и нас».[433]433
Ep. VII.
[Закрыть]
Это послание написано 16 апреля 1311 года, а за две недели до него, 31 марта, – другое: «Данте Алагерий, флорентиец, изгнанный невинно, – флорентийцам негоднейшим, живущим на родине… Как же вы, преступая все законы Божеские и человеческие, не страшитесь вечной погибели?.. Или вы еще надеетесь на жалкие стены ваши и рвы?.. Но к чему они послужат вам… когда налетит на вас ужасный… все моря и земли облетающий, Орел?.. Город ваш будет опустошен мечом и огнем… ваши невинные дети искупят грех отцов своих… И если не обманывает меня подтверждаемое многими знаками предвидение, то, после того как большинство из вас падет от меча… немногие, оставшиеся в живых, изгнанники… увидят отечество свое, преданное в руки чужеземцев».[434]434
Ep. VI.
[Закрыть]
«Рога нашего ни перед кем не опустим», – этими гордыми словами могла бы ответить Флоренция самому гордому из сынов своих, Данте, так же, как отвечала всем своим тогдашним врагам.[435]435
Passerini, p. 253.
[Закрыть] Главную силу в поединке с Генрихом дает ей то, что против старого, уже никому не нужного и никого не чарующего знамени всемирности подымает она нужное и всех чарующее знамя отечества. «Помните, братья, что Германец (Генрих) хочет нас погубить, – пишут флорентийцы в воззвании к своим ломбардским союзникам, восставшим на императора. – Помните, какое чуждое нам по языку и крови, ненавистное племя ведет он с собой на Италию, и каково нам будет жить под игом этих варваров! Укрепите же сердца ваши и руки на защиту самого дорогого, что есть у нас в мире, – свободы!»[436]436
Там же.
[Закрыть]
Вот в чем сила Флоренции – в восстании против чужеземного ига за свободу отечества. Люди слышат: «Римская Священная Империя», – и сердца их остаются холодными; слышат: «Отечество», – и сердца их горят. «Долой чужеземцев! Fuori lo straniero!» – этот клич, которому суждено было сделаться голосом веков и народов – началом всемирной войны, – впервые прозвучал тогда, в Милане. Понял ли Данте страшный смысл его и если понял, то повторил ли бы его, даже ради спасения отечества?
Близкое прошлое – за Генрихом, далекое будущее – за Данте, а ближайшее настоящее – за Флоренцией. Те оба реют где-то в облаках, а эта твердо стоит на земле; у тех – мечта, а у этой – действительность. И сколько веков пройдет, прежде чем люди поймут, что Данте был все-таки прав, и что воля его ко всемирности выше, чем воля врагов его к отечеству! Сила настоящего, в борьбе с бывшим и будущим, так велика, что в те дни, когда шла борьба, сам Данте мог усомниться в своей правоте.
Вот что скажет, через двести лет, о тех самых «флорентийцах негоднейших», sceleratissimi, которых Данте так презирал, почти такой же среди них одинокий, так же ими непонятый и презренный, как он, великий флорентиец, Макиавелли: «Кажется, ни в чем не видно столь ясно величие нашего города, как в тех междуусобиях, divisione (cittá partita, по горькому слову Данте), которые могли бы разрушить всякий другой великий и могущественный город, но в которых величие нашего – только росло. Сила духа и доблесть, и любовь к отечеству были у граждан его таковы, что и малое число их, уцелевшее в тех междуусобиях, сделало больше для его величия, чем все его постигшие бедствия могли сделать для его погибели».[437]437
Machiaveli. Istorie fiorentine. Proemio.
[Закрыть]
Если в малой тяжбе Данте с Флоренцией прав не он, а Макиавелли, то, в великой тяжбе прошлого с будущим, кто из них прав, – этого, и через семь веков после Данте, никто еще не знает.
Вылезши наконец не без больших потерь из болота Ломбардской войны, Генрих все же идет не на Флоренцию, куда зовет его Данте, а в Рим, где, по вековому преданию, должно было венчаться императору Священной Римской Империи. 7 мая 1312 года вступает он в Рим, занятый войсками второго, после Флоренции, злейшего врага своего, Роберта Анжуйского, короля Неаполя.
Кровью залили уличные бои развалины Вечного Города, Базилика св. Петра, где надо было венчаться Генриху, занята была, так же как весь Ватикан, войсками Роберта. Папы не было в Риме. В жалком и постыдном Авиньонском плену у французов сам француз, «гасконец», il guasco, как назовет его презрительно Данте, все еще мечтает он о земном владычестве пап и, боясь за его последний клочок. Римскую область, – как бы не отнял ее император, – подло и глупо изменяет им же только что заманенному в Италию Генриху; делает с ним то же, что разбойник – с заманенной жертвой: режет его в западне; войско Роберта в папских руках, – разбойничий нож.
Кардиналы отказываются, конечно не без ведома папы, венчать Генриха, под тем предлогом, что сделать этого нельзя нигде, кроме базилики Петра. Но римский народ, верный до конца императору (все простые люди из народа, такие же «прямые» сердцем, как он сам, будут верны ему до конца), почти насильно принуждает кардиналов к венчанию. Папский легат, тоже изменник, тайный друг и пособник Роберта, венчает Генриха в Латеранском Соборе, 29 июня, в день Петра и Павла.[438]438
Zingarelli p. 74 – Passerini, p. 258.
[Закрыть] Нехотя и не там, где надо, изменниками, слугами папы-изменника, венчан, как бы накриво, накосо, Генрих Косой: так посмеялся над ним и этот вечный спутник его, насмешливый демон.
Уличные бои возобновились после венчания с новою силою. Чтобы избавить от них несчастный город, Генрих вышел из него и только теперь наконец двинулся туда, где был «корень зла» и куда звал его Данте, – на Флоренцию. 19 сентября подошел он к самым воротам ее, так что осажденные ждали, с часу на час, что он войдет в город, и думали, что пришел их конец. Множество флорентийских изгнанников, тоже с часу на час ожидавших возвращения на родину, сбежалось к императору. Но среди них не было Данте.[439]439
Zingarelli, p. 75 – C. Balbi. Vita di Dante (1857), p. 345.
[Закрыть] «К родине своей питал он такую сыновнюю любовь, что, когда император, выступив против Флоренции, расположился лагерем у самых ворот ее, Данте не захотел быть там… хотя и сам убеждал Генриха начать эту войну», – вспоминает Леонардо Бруни.[440]440
L. Bruni (Solerti, p. 103).
[Закрыть] Кару Божию звал Данте на преступную Флоренцию, а когда уже готова была обрушиться кара, не захотел ее видеть: духу у него не хватало радоваться бедствиям родины. Это значит: явно ненавидел и проклинал ее, а тайно любил; было в душе его «разделение» и в этом, как во многом другом.
Только случай спас Флоренцию: вдруг подоспевшая, из Романьи, Тосканы и Умбрии, помощь союзников принудила Генриха отступить и начать правильную, надолго затянувшуюся осаду города. Когда же наступила зима, то смертность от холода, голода и повальных болезней увеличилась в императорском войске так, что Генрих вынужден был, сняв осаду, 6 января уйти на зимние квартиры в соседнее с Флоренцией местечко, Поджибонси (Poggibonsi).[441]441
Passerini, p. 259 – Balbi, p. 344.
[Закрыть]
Следующий, 1213 год, был для императора тягчайшим из трех тяжких годов Итальянского похода. Теперь уже все могли видеть в Генрихе то, что первый увидел в нем Данте, – обреченную на заклание жертву.
Если мера человека узнается лучше всего в страданиях, то прав Данте, не называя Генриха иначе как «духом высокий Arrigo», l'alto Arrigo. Душу свою он отдаст за чужой несчастный народ, который поступит с ним так же, как злое и глупое дитя, «если бы, умирая от голода, оно оттолкнуло кормилицу».[442]442
Par. XXX, 140.
[Закрыть]
Всеми покинутый, в чужой полувражеской стране, где самый воздух напоен предательством, как воздух Мареммы – болотной лихорадкой, Генрих видит, как войско его с каждым днем уменьшается, тает, от постоянных, тоже предательских засад и нападений полувоенных, полуразбойничьих шаек, бывших для этого доблестного, но изнеможенного войска тем же, что ядовитые жала бесчисленных мух – для издыхающего льва. Гнусно изменяют Генриху все, но гнуснее всех – папа, – сначала тайно, а потом и явно, когда императора Священной Римской Империи, им же провозглашенного, в недавней энциклике, «посланником Божиим», – вдруг испугавшись в нем соперника земному владычеству пап и как бы сойдя с ума от этого страха, – он отлучает от Церкви. Видеть, как пастырь Христов сделался волком, всем верующим было страшно, но страшнее всех Генриху, потому что он больше всех верил ему и на него надеялся.[443]443
Passerini, p. 245; 260.
[Закрыть]
Ко всем этим испытаниям внешним присоединилось и внутреннее – потеря нежно любимой жены и брата: оба умерли, все в том же несчастном походе, так что скорбь его растравлялась терзающим сомненьем: имел ли он право жертвовать чужому, неблагодарному народу не только собой, но и теми, кого больше всего на свете любил?[444]444
Pierre Gauthier, p. 232.
[Закрыть] Мука этого сомненья, может быть, облегчалась для него только тем, что смерть и ему самому уже смотрела в глаза: медленный, но жестокий и неисцелимый недуг подтачивал силы его, как медленный яд. Бывали дни, когда изможденное, прозрачно-бледное, точно восковое лицо его напоминало лицо покойника.
Но чем тяжелее был крест, тем он мужественнее нес его; духом не падал, а возвышался и креп. «Мы родились от вечного гранита», – мог бы сказать и он, как Данте.