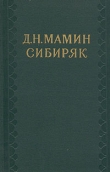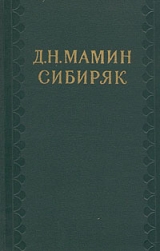
Текст книги "Том 1. Рассказы и очерки 1881-1884"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
– Зачем нам остановляться?
– Как зачем: ведь ночью не поплывешь здесь…
– Ничего, бог поможет, проплывем.
– Да ведь темно будет?
– По приметам сбежим… На камни будем глядеть.
Бурлаки никогда не говорят, что барка плывет, а непременно «бежит»; горы они называют камнями. Поблагодарив за угощенье, Окиня ушел на свою скамеечку, а вместо себя послал Минеича. На бедняка было страшно смотреть: это был скелет, обтянутый кожей. Все на нем было смочено до последней нитки. Худое, изможденное лицо смотрело таким страдальческим, губы посинели, кожа получила мертвенно-серый цвет. Тощая, жилистая шея была вытянута, пальцы на руках судорожно скорчились и даже почти почернели. Мне показалось, что Минеич замерзал.
– Минеич у нас завсегда в худых душах, – шутил Прошка (на заводах выражение «в худых душах» равносильно нашему «при смерти»). – Ты которую путину ломаешь, Минеич?
«Сломать путину» – значит сплыть на барке.
– Пятый раз плыву, – отвечал служащий, принимая дрожащими руками стакан чаю.
– Вы раньше в Тагиле служили?
– Да, служил… Лет двадцать послужил, а потом отказали от службы.
– Что же, у вас семья есть?
– Как же, и жена и дети. Целых пятеро… Да, четыре девочки и один мальчик.
Минеич с жадностью глотал горячий чай. Его бесстрастный, взгляд оживился, и он только вздрагивал, когда струйка холодной воды пробегала у него по спине.
– Неужели вы никакой другой службы себе не нашли? – спрашивал я.
– Был несколько лет учителем, потом штегерем… Везде отказывают.
– Все водочка нашего брата в малодушие производит, – резонировал Прошка, когда Минеич уплелся на палубу.
– Когда же бурлаки спать будут? – спрашивал я.
– По сменам спать будут. Вот приткнемся где-нибудь к огрудку или набежим на таш, тогда спи, сколько влезет. Или вот когда из камней бежим, за Камасиным места открытые пойдут, ветер как ударит – и стоишь дён пять в другой раз. В камнях и успеваем поскорее выбежать…
II
Берега, мимо которых плыла наша барка, представляли великолепнейшую панораму гор и высоких скал; река прорыла между ними глубокое русло, обнажив каменные стены. В некоторых местах над рекой нависали массивные скалы сажен в сорок вышины; даже холодело на сердце, когда барка приближалась к этим каменным стенам, обдававшим холодом и сыростью. Сама вода как-то стихала в таких местах и катилась темной молчаливой струей. Малейший звук, капли воды, которые падали с поносных, топот бурлацких ног – все это глухо отдавалось здесь, как в склепе. Когда поносные начинали бухать в воде и вспененные волны грядой разбивались о каменные громады, звуки, отражаясь от скал, перемешивались и с глухим ревом неслись вниз по реке, где едва виднелся узкий клочок неба, точно горы были рассечены ударом сабли. Горы были покрыты диким дремучим лесом. Ели и пихты, как рать великанов, заполнили все кругом на сотни верст, только их готические вершины выскакивали из этой сплошной темно-зеленой массы и придавали ландшафту строгий, угрюмый характер. Вглядываясь в эту траурную зелень, глаз отыскивал и здесь оригинальную могучую красоту: свет и тени, резкие контуры и темные цвета складывались здесь в удивительную картину. Местами горы поднимались выше, лес редел, являлись обнаженные горные породы, где только редкие деревья лепились по трещинам и уступам, как солдаты, бравшие штурмом неприступную крепость. Вон в одном месте стройная, как девушка, молоденькая ель бойко взбежала на самый верх, но здесь точно ее встретили залпом, и она, как смертельно раненная, повисла на страшной высоте. Можно различить даже узловатые корни, которыми молодое деревцо ухватилось за острые камни, и кажется, что это судорожно сжатые руки вросли в тощую, почву. В другом месте на выступе скалы укрепилось десятка полтора елей; они точно остановились здесь отдохнуть и с гордостью смотрят на товарищей, которые поднимаются к ним снизу. Вот раненое деревцо подхвачено руками товарищей; вот лежит несколько убитых; вот отступающий неприятель… Право, глядя на эти причудливые группы красивых елей, невольно олицетворяешь их, тем более, что эти деревья действительно ведут вечную борьбу за существование, за каждый вершок земли, за каждый луч света, за каждый глоток воздуха – между собой, со скалами, с бушующей внизу водой, с бурями, непогодами и глубокими северными снегами. Кое-где сверкает золотой листвой осина, подойдут к самой реке несколько скромных березок, высоко поднимется лиственница с широко распростертыми ветвями, встанут в сторонке несколько сосен и рябин – и опять ели заполоняют все кругом. Это их царство.
Некоторые скалы тянутся версты две, точно плывешь по узкой извилистой улице какого-то мудреного средневекового города.
На нижней части этих скал можно ясно видеть высоту весенней воды, которая поднимается иногда аршин на семь выше обыкновенного горизонта. Под некоторыми камнями, где течение реки суживается или река делает крутой поворот, вода поднимается еще выше, точно собирая все силы против своего главного врага. Теперь на мягком известняке можно видеть только грязные полосы.
Форма этих скал самая разнообразная, и можно только, удивляться, как еще держатся некоторые массы камней, – они уж наклонились и, кажется, готовы ринуться в реку, которая сосет их. В некоторых местах так и кажется, что эти скалы не игра слепого случая, а результат работы разумных существ: вот правильно заложенная стена, вот фундамент какого-то здания, угол дома, легкая башенка, смело поднятый свод… Иллюзия настолько сильна, что глаз различает даже отдельные кирпичи, из которых возведены эти дворцы, башни и стены. На вершине некоторых скал лепится несколько почерневших и покосившихся крестов.
– Это что за кресты? – спрашиваю я у Рыбакова.
– А когда весной барка убьется под камнем и кто из бурлаков утонет, – вот и поставят крест на камне, – объясняет колосс.
Бурлаки под такими крестами снимают шапки и набожно крестятся. Ведутся разговоры, какая барка убилась здесь, почему, кто был сплавщиком, сколько утонуло бурлаков. Вспоминают разные случаи и приключения из собственной жизни. Лица оживляются, слышатся вздохи, иногда смех, потому что du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas [35]35
От возвышенного до смешного – один шаг (франц.).
[Закрыть].
– Когда я еще в учениках плавал, – рассказывает Окиня, встряхивая волосами, – чуть не потонул было. Ей-богу… Грех и смех! Барку гнал Гордей да под Молоковым ее и убил. Сила не взяла… А в те поры вода страсть какая высокая была. Весна вышла дружная, так все и поплыло. Ну, как мы наскочили на бойца, народ ошалел: кто котомку тащит из-под палубы, кто в лодку, кто за бревно, кто за доску… Каша кашей, а барка, как купчиха, так и села в воду. А я еще от дедушки слыхал, што в лодку этаким делом ни-ни: зря друг дружку перетопят. Снял сапоги, выбрал досточку потолще и жду… А вода под Молоковым, известно, как в котле, кипит; убитую барку так дохлой кобылой по струе и несет. Страсть господня!.. Дело впервой, испужался до смерти… А тут еще народ в воде валандается, крик, стон… Плывет, плывет по реке бурлачек, захлестнет его валом – только и видел… Одни пузырьки по воде пойдут. А на барке с нами плыла одна баба. Она еще сватьей мне приходится… Ну, известно, бабье дело: совсем из ума вышибло, бегает по палубе, как овечка… Ах, думаю, пропадет, дура. «Сватья, кричу, держись за доску!» А она и слов уж не понимает, осатанела. Ну, я ее столкнул в реку, сотворил молитву да и сам за ней… А мою бабу, как редьку, так и повертывает в реке. Доплыл к ней, сунул ей доску: держись, мол. Сватья ухватилась, а доска нас двоих не держит. Что будешь делать? Сватью столкнуть с доски жаль, а самому утонуть неохота, да еще сапоги у меня в руках-то, тоже жаль своему доброму попущаться. Все-таки пожалел бабенку, ослобонил ей доску, а сам сапоги в зубы да к берегу. Только этак аршина с два отплыл, оглянулся, а сватья со страху доску мою выпустила и опять редькой по реке-то… Ну, тогда в силе был, воротился, схватил ее за зипун и волоку к берегу… А сапоги все в зубах держу… жаль. Только моя баба как сгребется за меня, прямо за ногу: впилася в ногу, как щука, и шабаш… Не могу ее отцепить, и кончено. Ну, думаю, пришел мой конец: так ко дну и тянет, до берега еще далеко, а сватья меня не пущает. Опять сотворил молитву… Тут меня и просветил господь: как с сапогами-то да со сватьей нырну – она хлебнула воды и отпустила меня. Слава тебе, господи! Вынырнул; а сватья тонет уж, только ручка из воды выставляется. Я все-таки за ней… А сапоги все в зубах. Подплыл, схватил за волосы да на берег. И сватью выволок и сапоги соблюл. Откачали мы ее на берегу, я ей и говорю: «А ведь ты меня, такая-сякая, чуть не утопила…» «Ничего, говорит, не помню!» «Моли, мол, бога, что ты мне сватьей приходишься, а то не стал бы я нырять за тобой, как меделянский пес…» Наших в те поры человек шестнадцать утонуло.
– Со страхов, обыкновенно, друг друга и топят, – говорил Гаврилыч. – Мы этак же как-то плыли, а перед нами барка и убейся… Ну, народ, обыкновенно, в воде тонет. Глядим, двое прямо к бойцу же и плывут. Один было схватился рукой за веточку – уцепился, висит. А мы на них к бойцу так стрелой и пластаем, взарез… Уж близко было, сняли бы беспременно, а другой-то подплыл да его за ногу. Ну, оба в воду, сердяги… Так и потонули ни за грош… Я так полагаю, – прибавил Гаврилыч после небольшой паузы, – что это блазнит человеку, когда он тонет… Может, ему нечистая сила глаза отводит: кажется, поди, что плывет к мелкому берегу, а тут вдруг головой о камень.
– А вот спросите, как Прошка барку убил под Горчаком – камнем, – говорил Мамко. – Я тогда с ним плыл… Тоже напримались страсти-то. Барку вверх дном выворотило.
– Прошь, а Прошь, расскажи, – упрашивали бурлаки.
– Отвяжитесь, черти… Ну, убил так убил, – отвечал Прошка, помешивая что-то деревянной ложкой в чугунном котелке, очень искусно пристроенном у самого огонька. – Вам какая забота?..
– Тогда с тобой служащий плыл? – спрашивал Окиня.
– Плыл. Какой-то уткинский.
– Ты его и утопил?
– Нет, он-то остался цел, а жена и четверо детишек тово…
– Захлестнуло валом?
– Не то штобы захлестнуло, а вроде как от своей глупости… Барку-то как бздануло о боец – батюшки мои светы: светопреставление! Она, как лошадь, на дыбы… Ей-богу! Доски это летят, чугун, палубы, поносные, люди… А вода так и мелет, так и мелет. На верхней палубе была маленькая казенка пригорожена, ребятишки у служащего в ней и сидели. Сам-то с женой стоял на палубе вместе со мной… Как это барка сорвалась к бойцу, жена-то у служащего в казенку, за детишками, а четверых где зараз вытащишь. В одну секунду барка моя на дыбы, мы с нее горохом так и посыпались в воду, а потом барка этак плечом, плечом да и выворотилась вверх дном. Да не оказия ли: пятнадцать тыщев пудов чугуна было, точно вот кто схватил ее рукой да и переворотил!..
– Этакая силища у этой воды, братцы!..
– Бедовое дело, когда река играет…
– Ну, вылезли мы на берег, – продолжал Прошка, подбрасывая в огонь несколько поленьев: кто где!.. Как тараканы расползлись или вроде, если кошку за хвост в реку… служащий тоже выплыл, а барка вверх дном, пустая мимо нас плывет. Ни жены, ни детей… Как ударится, сердяга, о земь – тут и ума решился. Так в Пермь, в сумасшедшую больницу, и свезли.
– Да что ему за неволя была с караваном плыть?
– Да так сказывал, что трахтом до Перми надо было заплатить рублей двадцать, а тут даром довезут.
– Вот те и даром!.. А!
– Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие… Покорыстовался, а господь и нашел, – резонирует Гаврилыч.
– Ну, так, Гаврилыч, нельзя, – возражает Окиня. – Мало ли народу по реке плавает: может, грешный-то выплывет, а святой человек потонет. Это уж не в наказание, а так, произволение божеское.
– Нет, Окиня, ежели кто грешный человек, – беспременно утонет. Взять собаку теперь…
– Ну, это другое дело, – решает Окиня. – Дай мне тыщу рублей, я и то не поплыву с собакой…
– По какой причине не поплывешь? – приставал Гаврилыч. – По той причине, что собака – все одно что черт… Нечисть и погань, одно слово. А грешный человек хуже пса…
– А если грешный человек покается, Гаврилыч? – спрашивает Минеич, прищуривая глаз.
– Да когда он успеет покаяться-то? Тут один секунд, и шабаш: только пузырьки…
– Ну, а если так: грешный человек видит, что барка на бойца бежит, он сотворит про себя молитву и раскается. Тогда как?
– Это ты, Минеич, правду сказываешь, – согласился Окиня. – Поэтому я пса никогда не возьму на барку… Пес разве может раскаяться? Может, в нем черт сидит, а он к тебе идет и этак хвостиком виляет.
– Вот тоже если свистеть на барке… – нерешительно замечает кто-то.
– Свистеть – это совсем другое дело, – говорит Окиня. – От свисту ветер поднимается… Уж это верно! Ты, Минеич, хоть и был учителем, а этого не понимаешь… Верно тебе говорю.
– Да не может быть, – протестовал Минеич в качестве образованного человека.
– Этак-то вот по межени плыли мы в позапрошлом году с приказчиком одним, – рассказывает Окиня, болтая ногами. – Он вот так же: пустяки, говорит, старухи, говорит, наврали… Ходит этак по барке да посвистывает. Ну, думаю, свисти, только штобы после не плакать. Выбежали это мы из камней, пониже Камасина, и принял нас ветер, и принял, и принял… Две недели выстояли у берега. «Ну, говорю приказчику после, будешь еще свистеть?»
Бурлаки хохочут. Минеич служит мишенью для шуток и острот. Когда он пытается объяснить причины происхождения ветра, вся палуба помирает со смеху, и он смолкает. Дождь продолжает идти, точно сверху сыплется мельчайшая водяная пыль. На передней палубе бурлаки приуныли. Только солдат и неугомонный Васька грызутся между собой.
– Молчи, кислая шерсть! – говорит Васька.
– А ты расскажи, как кислоту воровал? – спрашивает солдат.
Васька прославился тем, что однажды забрался на пристани в амбар и украл «кислоту». Он думал, что в бутылке водка или спирт. На беду, он еще упал дорогой, и ему жестоко обожгло все ноги. Вылежал в больнице месяца три, и теперь, как ни в чем не бывало, только посмеивается. Это обстоятельство сблизило Ваську с Рыбаковым, у которого он «в подрушных», как говорят бурлаки.
– Эх, соколы ясные, синички-сестрички! – весело покрикивает Окиня на приунывших бурлаков. – Не весь голову, не печалуй хозяина!
Но эти возгласы плохо ободряют продрогших, полузамерзших бурлаков. Вечер приближается, всем хочется согреться и соснуть. Бабы суетятся около огня и воюют с Прошкой из-за дров и из-за котелка. Прошка, из любви к искусству, ругается с ними напропалую. Бурлаков занимает эта сцена.
– Лушенька, голубушка, котелком-то его по башке окрести!.. – советует Окиня. – Ну, еще разок…
Сплавщику очень хотелось бежать целую ночь, но бурлаки начали роптать и, наконец, совсем взбунтовались.
– Издохнуть, что ли, нам? – заворчал даже Рыбаков, который вообще был скуп на слова.
– А черт ли вам не велел одежу брать с собой?.. – ругается Окиня на палубе. – Нанимаются, а дошло дело – на попятный двор.
– По ночам мы не нанимались плыть, – возражает старик с передней палубы.
– Верно, верно! – слышатся голоса. – Хвататься, Окиня, пора… Собирай снасть, ребя… Кто на берег?
Плыть на берег со снастью, то есть с канатом, вызвались Васька и Афонька. Они сели в косную, куда сложили им канат, и отвалили к берегу.
– Тут за мыском сичас кедрик стоит! – кричал Окиня, бегая по палубе. – А около кедрика пень, вот за него и закидывай снасть… Налево нос-от.
Хватка, то есть привал барки к берегу, – даже осенью «в камнях» довольно замысловатая вещь, потому что течение здесь довольно сильное и нужно много ловкости и уменья, чтобы остановить барку. Про хватку весной и говорить нечего. Тогда сплошь и рядом рвется снасть или перегорает огниво, то есть деревянный столб на корме барки, на который наматывается снасть. Дело в том, что когда конец снасти укреплен на берегу за дерево, нельзя закрепить снасть на огниве мертвой петлей, потому что или снасть порвется, или вырвет огниво. Чтобы предупредить это, начинают травить снасть, то есть обернутую вокруг огнива снасть понемногу выпускают, и барка останавливается постепенно. Нужно видеть, какая сила развивается здесь от трения снасти об огниво: часто огниво загорается, и снасть его перерезывает. Если канат лопнет, концами может убить несколько человек, чему и бывали примеры.
Я с любопытством следил за всеми подробностями происходившей хватки. Косная быстро неслась к берегу. Прошка стоял на корме и разматывал снасть. Вот Афонька и Васька причалили к берегу, выскочили из лодки и вдвоем едва поволокли по траве тяжелый канат.
– Готово! – донеслось с берега.
Прошка ждал только этого слова и быстро навернул снасть на огниво. Барка вздрогнула, и канат натянулся, как струна.
– Трави снасть-то, трави! – орал Окиня. – Корму поддоржи…
Прошка спустил немного снасть, огниво задымилось. Барка, точно живая, сделала еще несколько усилий, но, сознавая их бесполезность, тихо, кормой подошла к берегу.
– Шабаш! – скомандовал Окиня; все сняли шапки и перекрестились.
III
Прошка был против того, чтобы «хвататься», потому что бурлаки пойдут непременно на берег, – чего стоит украсть полупудовую штыку. Когда бросали сходню, он стоял у борта и осматривал каждого, кто шел на берег. Скоро на берегу запылало несколько костров, около которых собрались кучки бурлаков. На барке остались: Гаврилыч, Минеич, старичок с передней палубы и сестра Рыбакова. Она варила теперь ужин и вообще играла роль хозяйки. Странное дело, даже на барке, среди этого отчаянного сборища и подонков общества, одно присутствие женщины вносило с собой теплый семейный характер и сейчас сглаживало те резкости, которые прежде всего бросались в глаза. Даже Прошка – и тот перестал ругаться, а сидя в тюках меди рядом с Окиней, терпеливо ждал варева. Впрочем, он зорко следил за берегом, и малейший шорох заставлял его вскакивать.
– Ведь и народец только, – ругался Прошка, – с живого кожу сдерут!..
– Ты, смотри, не сдери с кого, – спокойно заметила сестра Рыбакова; она держала себя очень степенно и плыла с исключительной целью «заробить» четыре целковых, то есть проплыть на барке, может быть, недели две да пройти обратно пешком верст триста.
– А ведь ты точно, Прошь, – говорил Окиня, подмигивая, – ежели тебе в лапы попасть, обломаешь…
– Освежую, как есть, – соглашался Прошка, скаля зубы.
Незамысловатое варево скоро было готово, и вся компания разделила его по-братски. Здесь все были равны и ели в каком-то благоговейном молчании, осторожно отламывая кусочки хлеба, чтобы не уронить ни одной крошки, и старательно облизывали свои ложки. Глядя на этот ужин, кажется, мертвый захотел бы есть, так все выходило аппетитно. Варево состояло из разваренной поземины пополам с просом. Когда котелок был пуст, все усердно помолились на восток и поблагодарили хозяйку, которая одинаково ответила всем: «Свое кушали».
Окиня ушел спать в балаган к Прошке, Гаврилыч свернулся клубочком тут же у огонька, на медных штыках, подостлав под себя рогожку и сверху закрывшись старым зипуном. Прошка бродил по палубам и от нечего делать вполголоса ругал кого-то: ему приходилось не спать целую ночь и караулить металл.
– Уж не знаю, идти на берег или соснуть здесь, у огонька? – размышлял Минеич, улыбаясь рассеянной, доброй улыбкой; он успел высохнуть около огня и согрелся варевом.
– А ты постой, – отозвалась сестра Рыбакова, мывшая в реке котелок и ложки. – У тебя на кафтане-то больно дыра велика… Сними, так я зашью.
– Будь такая добренькая, Савишна, – просил Минеич, снимая свою хламиду.
Савишна прибрала ложки и котелок, принесла из-под палубы свою котомку и добыла оттуда клубок ниток с иголкой и несколько лоскутков старого сукна и холста. Она широко растянула сюртук Минеича против огня и только покачала головой. Можно было подумать, что Минеич только что вышел из какого-то сражения, где его рубили саблями, кололи пиками и шальные пули рвали на клочья его одежду.
– Решето решетом, – проговорила Савишна, затрудняясь выбором зиявших перед ней дыр.
– Да, поизносился малость, – соглашался Минеич, с удивлением рассматривая свое одеяние.
Без сюртука, в старой, донельзя заношенной рубашке и коротких холщовых штанинах, Минеич имел самый жалкий вид: ввалившаяся грудь, тоненькие ручки и ножки, сгорбленная спина и вытянутая тонкая шея являлись во всей своей непривлекательной видимости. Когда Савишна, наконец, выбрала самую опасную, по ее мнению, дыру и присела с иглой к огоньку, Минеич сел около нее на корточки и, подперев свою птичью головку высохшей рукой, с тупой покорностью совсем беспомощного человека внимательно следил за ее работой.
– Уж только эти и мужики: ничего-то у них толку нет, – думала вслух Савишна, быстро работая иглой. – Ведь вот прибежим, Минеич, в город, получишь ты целковых пять, – ну, и заведи себе одежонку.
– А назад, Савишна, с чем пойду? Ведь триста верст пешком.
– Ну, оставь целковый
– Дома жена, ребятишки… Им тоже надо.
– Так ты и принес домой жене денег… – покачивая головой, не в укор проговорила Савишна. – Ведь все до последнего грошика пропьешь в городе-то…
Минеич только поник головой, подавленный величием тех нужд и слабостей, из которых была соткана вся его мудреная жизнь.
– Все пропью… – глухим голосом проговорил, наконец, Минеич, махнув рукой.
– Я бы все до единого закрыла эти кабаки, – говорила тихим голосом Савишна. – Ну, чего ты придешь домой-то без грошика? А там жена голодом сидит, детишки… Эх ты, горе лыковое!
– Знаю, сам все знаю!.. – глухо проговорил Минеич, ударив себя кулаком в сухую грудь. – И жаль ведь мне их…
– С горя и выпьешь?
– Да, выпью, а потом приду домой, взгляну на эту свою бедность, – так вот точно кто ножом полыхнет по сердцу. Жена примется меня корить, а я ее тиранить… Ей-богу! Зверь зверем… Ребятишки кто к соседям, кто под лавку, а я ее тираню… Возьму да еще на колени возле себя на всю ночь поставлю или веревкой свяжу ей назад руки да ноги к рукам притяну… так она и лежит другой раз целые сутки.
– Зачем же вы так делаете? – спросил я, возмущенный этим равнодушным повествованием о собственных мерзостях.
– Да как вам сказать… Я и сам не знаю, зачем ее тираню, а так… кажется, вот взял бы нож да на мелкие части всю ее и разрезал… Безответная она у меня какая-то, а меня это еще пуще бесит, потому как я все-таки муж, и хочется мне, чтобы она у меня на коленях прощенья просила. Ежели соседи кто заступятся, я еще хуже делаюсь, потому жена ведь моя… значит, я в своем праве.
– Ишь, какой Аника-воин, – равнодушно проговорила Савишна, не поднимая глаз от своей работы.
Меня поразило ее безучастное отношение к этим гадостям.
Я внимательно смотрел на тирана: кажется, пальцем его ткнуть, так и душа вон, а между тем это ужас целой семьи, ее страх и трепет. Мне пришли на память те богословские и юридические тонкости, которыми опутан союз мужчины и женщины. Ведь этот же самый Минеич и не подумал бы тиранить свою безответную жену, если бы не сознавал себя вправе делать с ней что угодно; и вдобавок, если бы она ушла от него, он, по праву мужа, мог вытребовать ее по этапу и воздать ей сторицей. Удивительное дело!
– Ну, вот тебе и заплата, – говорила Савишна, возвращая Минеичу его сюртук. – Носи на здоровье…
– Спасибо, Савишна, – благодарил Минеич, влезая в свою систему дыр. – А ведь я раз совсем нагишом пришел было со сплаву, – добродушно прибавил он, любуясь пришитой синей заплатой. – Ей-богу!
– Как не прийти нагишом: в кабаках кожу свою готовы пропить, – сквозь сон говорила Савишна, калачиком свертываясь около огонька напротив похрапывавшего Гаврилыча.
– Как же это вы ухитрились? – спрашивал я, раскуривая папиросу.
– Да самое простое дело… В Перми деньги все пропили с бурлаками, а ведь дорогой, с устатку, тоже выпить хочется; ну, дойдешь до деревни, что-нибудь и заложишь, а потом в одном кабаке и рубаху со штанами пропил. Ей-богу!.. Так нагишом и пошел. Добрел до первой деревни, мужики в поле, а бабы как увидали меня – бежать. Я вошел в избу, захватил какие-то лохмотья и ушел. Все-таки хоть и дыра на дыре, а не нагишом. Ох-хо-хо!.. Господи батюшка, прости ты наши великие согрешения!..
– Чистые псы эти мужики в другой раз, – отозвалась Савишна, подняв голову. – Только и заботы, чтобы глотку налить винищем, а наша сестра колотится хуже всякой лошади двужильной, да ее же еще тиранят. Теперь взять мое дело: зароблю четыре целковых, один целковый проем в передний путь, а другой в обратный… значит, на руках останется всего два целковых. А одежа, а обутки – ведь носится все…
– Разве у вас на пристани нет другой работы? – спрашивал я.
– Да какая, голубчик, бабе работа, особливо при бедности? Тут хоть свою голову прокормишь да на обутки заробишь, а дома что – дома и этого не заробишь. Теперь взять хоть пряжу… В день напрядешь, ну, пасма четыре али пять, а за пасмо получишь по грошу, значит, две копейки на день придется. А ведь надо встать в четыре часа утром-то да до поздней ночи, не сходя с места, робить. А лен-то чего-нибудь стоит? Вот какая наша работа, голубчик. Зимним делом, когда уже совсем деваться некуда, ну, торчишь день-деньской за прялкой… В зиму-то цельную хоть на одежонку сколотишься, а поить, кормить кто станет? Ладно, у кого мужья хорошие, а наша сестра-бобылка много слез напринимается… Да еще бога благодаришь, что хоть и с пустым брюхом ляжешь спать, зато ты не бита, ребятишки с холоду да с голоду не колеют около тебя. Мудреная наша бабья жисть, барин…
– Тоже всякие из вас есть, – говорит Минеич, выставляя голову из-под своих дыр. – Другие… хе-хе!..
– Чего другие? Ой, Минеич, Минеич, грешно так говорить!.. Вот хоть взять Лушку или Степаньку, – ты думаешь, сладко им живется?.. Нам тяжело достается, а им вдвое супротив нашего… Только ведь по молодости доводят себя до этого, по своей женской глупости и малодушеству…
Дождь немного перестал, но небо было темно, и желтоватые облака неслись над самой землей. Река тихо бурлила, слегка покачивая барку. Огонь освещал спавших да темную фигуру Прошки, который безмолвно сидел на передней палубе. На берегу горело несколько огней, освещавших деревья и темные фигуры бурлаков. Изредка доносились голоса разговаривавших. Где-то в лесу ухал филин. Мне не хотелось спать, и я пошел к ближайшему огню. Могучая, старая ель наклоняла над ним свои лапчатые ветви зеленым шатром. Изредка пламя косматыми языками рвалось вверх и добиралось до самых ветвей, которые слегка трещали и долго светились медленно тлевшими иглами. Вокруг огня в разных позах расположились бурлаки. На первом плане лежали Мамко и Афонька. За ними виднелись фигуры Лушки и Анки – Анка сидела, прислонившись к стволу дерева, а Лушка лежала на брюхе.
– Можно погреться у вашего огонька? – спросил я.
– Известно, можно, – отозвался Афонька.
Я тоже прилег на сухую хвою. Мое появление, видимо, прервало какой-то интересный разговор. Мамко повернул свой бок к огню и наслаждался ощущением теплоты.
– Так что, говоришь, дядя-то? – спрашивал Афонька.
– Дядя-то… А дядя, братец мой, порешил жену-то, – повествовал Мамко. – А сам в скиты ушел, к старцам…После ее в проруби нашли. Страсть глядеть: чересседельник на шее, язык высунула. И как это рука только у человека поднимается на этакое дело! Да вон Васька или Рыбаков… только кажется чего-чего они не придумают, и все на пакость, все надо погалиться над девками! Как-то раз Васька и говорит: «Пойдем, Мамко, в лес с нами». «Пойдем»… Рыбаков был с нами. Приходим в лес, а там девки уж ждут. Водка была с собой, закуска, пряники. Выпили и девкам поднесли. У Васьки своя любезная, а у нас с Рыбаковым свои. Еще выпили, а Васька отчаянный, ежели и тверезый, а пьяный хуже черта. Вот и придумал. «Ходи на четвереньках!» – кричит Васька своей. Мы хохочем… Смех!.. Потом заставил ее на сосну залезть и оттедо лаять по-собачьему. «На кого лаешь?» – спрашивает Васька. «На тебя, Василий Маркыч»… «Слезай!» Он тут и давай колышматить и давай колышматить, а сам приговаривает: «Зачем на хозяина лаешь? Не лай на хозяина!» Уж он ее бил-бил-бил, а потом давай ногами топтать. Насилу мы ее у него отняли. «Проси прощенья у моих дружков!» – кричит Васька. Валяется девка у нас в ногах, а Васька хохочет. После они с Рыбаковым чего с ней сделали: увели тоже в лес, раздели, да голую на муравейник и посадили… Сами водку пьют, а она на муравейнике жарится.
– Ах, псы этакие! – возмущается Афонька, у которого в глазах видно сострадание. – За что же они так девок мучают?
– Да так, для своей потехи… А тут взяли да одной ворота дегтем вымазали, потому что была честная и им не давалась в руки. Так ту отец опять давай колотить. Раздел донага, привязал руки к коромыслу, привязал самое к столбу да хлыстиком и давай изуваживать… так всю кожу до пят и спустил. Терпела она, терпела – да в воду, а после, как ее дохтур стал потрошить, она как есть честная девка оказалась. Так отец-то волосы после рвал на себе…
– Ах, варнаки! – ругался Афонька. – Вот ищо варнаки-то!!.
– Отцу-то каково было, а? Ведь кому ворота взмажут, да тут глаза в деревню показать нельзя. Срам всей родне. А уж девке чтобы после этого замуж – ни в жисть! Кому охота на себя петлю-то надевать: одни дружки-приятели проходу не дадут… В другой раз этот же Васька поймал собаку, с живой кожу содрал да так по улице ее и пустил.
– Они вот еще что-нибудь устроят, – говорил Афонька. – Долго ли штыку стащить.
– Это у Прошки? Ну, нет… Он насквозь каждого человека видит. Бе-едовый, двух жен уходил, теперь третью в гроб вколачивает… Еле живехонька бродит. Вот у него, у лешака, какие безмены-то: как поднесет раза – да тут пять раз другая бабенка помрет.
– Ну, только и народ… – задумчиво говорил Афонька, встряхивая рыжими волосами. – У нас заводские бойки, а ваши пристанские превосходнее… Прямые разбойники!..
– Да тебя как к нам занесло-то?
– Как… Известно, не от ума. Отец у меня мастером на катальной, ну, листовое железо где катают. В выписку, в две недели значит, рублей двадцать заробит. Мастерам житье. Ну, у нас дом и все это прочее – как следует. Богато живем… Утром встанешь, а мать уж всего наварит и настряпает… В достатке живем. Только отец как определил меня на фабрику, мне там и не поглянись. Конечно, глуп человек… Материн сынок. Больно уж тяжело в четыре-то часа вставать да до семи вечера на фабрике робить… Так бы вот не глядели глазоньки! Ну, попробовал было прикинуться, что захворал, мать лекарку привела, а отец смотрел, смотрел да как принялся меня супонью охолаживать – всю боль как рукой сняло. У меня отец, ежели рассердится, делается вроде как твой дядя – што под руку попало, тем и хватит. Ей-богу… Сердце у него больно горячее!.. Ну, походил я этак с полгода на фабрику, а потом и надумал бежать… Да вот второй год теперь и брожу.