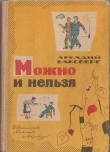Текст книги "Братья Стругацкие"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Соавторы: Геннадий Прашкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
Повесть «Стажеры» называют иногда самым идеологическим произведением Стругацких. Наверное, это все же не так: идеологии в оболочке литературного художества более чем достаточно во многих текстах звездного дуэта как до «Стажеров», так и позже. Дело в другом: «Стажеры» несут наиболее мощный заряд советской идеологии. А вот признаков духовной верности советской «системе» с середины 60-х у Стругацких до крайности мало. И будут они либо своего рода «обманкой», успокоительным средством для издателя, либо получат какую-то дополнительную нагрузку, придающую им двойной смысл, – как, например, история бунтаря Араты из «Трудно быть богом» или откровения главного героя «Хищных вещей века» о язвах общества потребления, где он исполнял разведывательную функцию.
Но до «Стажеров» включительно тексты братьев Стругацких действительно насыщены «коммунарством». Герои этих ранних произведений намертво встроены в социализм, они и не помышляют о каком-либо ином будущем – только общая победа коммунистического строя на всей Земле! И когда им приходится участвовать в «соревновании систем», они делают это со всей убежденностью в своей правоте.
Так, например, в кафе «Твой старина Микки Маус» неподалеку от международного ракетодрома происходит разговор между барменом, защищающим достоинства капиталистической системы, вакуум-сварщиком (пока еще не стажером) Юрием Бородиным и космонавтом Иваном Жилиным из экипажа «Тахмасиба».
Бармен заводит спор: «Эти самые грязные бумажки, о которых вы говорите. В вашей сумасшедшей стране всякий знает, что деньги – это грязь. Но у меня в стране всякий знает, что грязь – это, к сожалению, не деньги. Деньги надо добывать! Для этого летают наши пилоты, для этого вербуются наши рабочие. Я старый человек и, наверное, поэтому никак не могу понять, чем измеряется успех и благополучие у вас. Ведь у вас все вверх ногами. А вот у нас все ясно и понятно. Кто сейчас покоритель Ганимеда капитан Эптон? Директор компании „Минералз Лимитэд“. Кто сейчас знаменитый штурман Сайрус Кэмпбелл? Владелец двух крупнейших ресторанов в Нью-Йорке. Конечно, когда-то их знал весь мир, а теперь они в тени, но зато раньше они были слугами и шли туда, куда их пошлют, а сейчас они сами имеют слуг и посылают их, куда захотят. Я тоже не хочу быть слугой. Я тоже хочу быть хозяином».
Жилин его «срезает»: «Кое-чего вы уже достигли, Джойс. Вы не хотите быть слугой. Теперь вам осталась самая малость – перестать хотеть быть господином».
Бородин опрометчиво говорит: «А по-моему, ужасно скучно всю жизнь простоять за стойкой… Работа должна быть интересной». И, далее, сообщает Жилину: «Жалко его. Ну зачем живет человек? Вот накопит он денег, вернется к себе домой. Ну и что дальше?»
Жилин, понятно, приняв сторону вакуум-сварщика, спрашивает Джойса: «Что вы будете делать, когда разбогатеете?»
Тот контратакует: «Я знаю, какого ответа ждет мальчик. Поэтому спрошу я. Мальчик вырастет и станет взрослым мужчиной. Всю жизнь он будет заниматься своей… как это вы говорите… интересной работой. Но вот он состарится и не сможет больше работать. Чем он тогда будет заниматься, этот мальчик?»
Бородин пытается придумать адекватный ответ, но выходит все какая-то ерунда, и сводится она главным образом к тому, что он как-то и не задумывался над этим; ему нравится идея умереть до того, как исчезнет возможность работать.
Из поражения делает победу Жилин: «Хотя мой союзник по молодости лет не сказал ничего умного, но, заметьте, он предпочитает умереть, чем жить вашей старостью. Ему просто никогда в голову не приходило, что он будет делать, когда состарится. А вы, Джойс, об этом думаете всю жизнь. И всю жизнь готовитесь к старости. Так-то, старина Джойс… Вот в этом и разница… И разница, по-моему, не в вашу пользу».
А еще в «Стажерах» будет сцена на Бамберге, где капиталистическое руководство шахты эксплуатирует рабочих в опасных и вредных условиях, фактически гробит их здоровье… Будут и другие детали, помельче. Но суть везде одна: коммунизм побеждает, советские люди побеждают.
До времен позднего Хрущева, надо полагать, у авторов не возникало сомнений, что грядущие века могут далеко развести два принципиально разных идеала будущего: первый – предначертанный стране и миру советским руководством, и второй, живущий в интеллигентской среде. Стругацкие довольно долго видели не два, а именно один идеал. В сущности, они унаследовали этот идеал, даже некий багаж идеалов от отца – особенно Аркадий Натанович. В 1982 году, когда от «коммунарства» в текстах Стругацких не останется даже воспоминаний, когда они вдоволь напробуются жестокого давления со стороны «системы», Аркадий Натанович все-таки скажет: «Я сын своего отца, своего времени, своего народа. Никогда не сомневался в правильности коммунистических идей, хотя я и не член партии. Я впитал их с детства. Позднее, во время учебы и самостоятельно, я познакомился с другими философскими системами. Ни одна из них не удовлетворяет меня так, как коммунизм. Ну и, кроме того, я основываюсь на собственном восприятии жизни. В нашем обществе, несмотря на некоторые недостатки, я вижу то здоровое, святое, если хотите, что делает человека человеком. У нас считается неприличным не работать. А ведь коммунизм – это занятие для всех голов и для всех рук. Коммунизм не представляется мне розовым бытом и самоуспокоенностью. Его будут сотрясать проблемы, которые человек будет решать».
Подобные высказывания не предназначены только для того, чтобы обмануть «систему».
Тут нужна искренняя убежденность: внутри, на самом дне окружающей действительности, какой бы она ни выглядела, лежит драгоценное жемчужное зерно. Пусть грязь закрывает его многослойными напластованиями, пусть ее сияния почти не видно, пусть исказили ее форму царапины, нанесенные в суровые времена, пусть. Зато там, на уровне глубинной сути, сохраняется верная идея… Не случайно осенью 1991 года, уже после августовских событий, в печальной беседе с одним из авторов этой книги – Г. Прашкевичем – Аркадий Натанович скажет: «И все-таки… И все-таки более красивой идеи, чем коммунизм, люди пока не придумали…»
В советской культуре постоянно вступали в схватку два начала – имперские ценности и революционная романтика. Порядок, сила, единство, надежность, прочность, государственничество бились насмерть с летучим бродильным веществом странствий, индивидуализма и творческой динамики, с разрушительным пламенем, наполненным мечтами о будущем созидании. В середине 30-х «пролетарский интернационализм» сменился «советским патриотизмом», и тогда, через большую кровь и большое разочарование, свершилась первая ломка революционной романтики, уступившей имперству позиции. При Хрущеве произошел частичный реванш. Но только частичный, а потому вскоре сменившийся частичной же реставрацией. На закате СССР первое и второе придут в состояние усталого клинча…
Так вот, Аркадий Натанович в какой-то степени принадлежал полю именно тех самых революционеров-романтиков. Пафос развития – любой ценой, лишь бы не застрять, лишь бы не стоять на месте, лишь бы развиваться! – наполняет многие его высказывания. Потрясения? Хаос? Пусть! Человек найдет способ решить проблемы. «Я сын своего отца!» А отец братьев Стругацких был в числе прямых творцов революции, ее последовательных и сознательных сторонников. Натан Залманович неизменно оказывался на переднем краю революционного действия: в продотрядах, на фронтах Гражданской, в политотделах зерносовхозов 30-х годов. Ему находилось место везде, где требовались срочные и самые радикальные меры. Те самые, что сопровождаются словами «по законам революционного времени». Искал ли Натан Залманович выгоды лично для себя? Известные нам источники не дают тому подтверждений. «Был честнейшим и скромнейшим человеком» – по словам младшего сына. Видимо, следует говорить именно о его убежденности, «идейности». Образованный человек способен пройти через всё это, если уверен, что действует ради торжества истинных и чистых принципов, если он видит в себе одного из хирургов, врачующих огромное больное тело, делая многочисленные ампутации.
«Он был ортодоксальным коммунистом, – писал об отце Борис Натанович, – никогда не колебался, никогда не участвовал ни в каких оппозициях, верил партии безгранично и выполнял ее приказы, как солдат. Но каким-то образом ухитрился при этом сохранить широкий образ мыслей, когда речь шла о литературе, живописи, о культуре вообще».
Натан Залманович, как и многие, жестоко пострадал при Сталине. Именно, как многие. Более того, на протяжении последних лет жизни он не имел возможности восстановить прежнее свое, более высокое, более комфортное положение. Вселило ли это в умы его сыновей, ну, скажем, нелюбовь к советской власти, к принципам устройства жизни в СССР? Вовсе нет. Скорее надежду на исправление. Сталин умер, «оттепель» выглядела как долгожданное излечение от жестокой болезни. Или, иначе, как избавление от той «порчи» верных идей, которая произошла при Сталине.
Борис Натанович относился к «коммунарству» значительно прохладнее, чем его старший брат. Видеть в нем революционного романтика нет никаких оснований. И отца, по собственному признанию Бориса Натановича, он почти не помнит, зная его главным образом по рассказам мамы и брата. Тем не менее и он также говорит о «красивой и сильной идее» в одном своем интервью (1994): «Мир, в котором человек не знает ничего нужнее, полезнее и слаще творческого труда. Мир, где свобода каждого есть условие свободы всех остальных и ограничена только свободой остальных. Мир, где никто не делает другому ничего такого, чего не хотел бы, чтобы сделали ему. Мир, где воспитание человеческого детеныша перестало быть редкостным искусством и сделалось наукой… Разумеется, ничего светлее, справедливее и привлекательнее такого мира пока еще не придумано. Беда здесь в том, что само слово „коммунизм“ безнадежно дискредитировано. Черт знает какие глупости (и мерзости) подразумеваются сегодня под термином „коммунистическое будущее“. Жестокая, тупая диктатура. Скрученная в бараний рог культура. Пивопровод „Жигули – Москва“… Красивую и сильную идею залили кровью и облепили дерьмом…»
Позднее, в 2000 году, Борис Натанович еще более откровенно рассказывал о долгом процессе «эрозии убеждений», завершившемся лишь после чешских событий 1968 года. Первой его «идиотскую убежденность» в правильности советского строя поколебала, по словам самого Бориса Натановича, жена старшего брата – Елена Ильинична. «Лена всё знала, всё понимала с самых ранних лет, во всем прекрасно разбиралась, всему знала цену… Я помню бешеные споры, которые у нас с ней происходили, с криками, с произнесением сильных слов и чуть ли не дракой… Ленка кричала, что все они (большевики то есть, Молотовы эти твои, Кагановичи, Ворошиловы) кровавые бандиты, а я кричал, что все они великие люди, народные герои… А потом наступил Двадцатый съезд, и мне было официально объявлено, что да, действительно, большая часть этих великих людей – все-таки именно кровавые бандиты. И это был, конечно, первый страшный удар по моему самосознанию. Да и венгерские события были в том же самом году и тоже оказали свое воздействие…»
«Веру в социализм и коммунизм, – сообщает он, – мы сохраняли еще на протяжении многих лет (после венгерского мятежа. – Д. В., Г. П.). Мы довольно быстро – примерно к Двадцать второму съезду партии – поняли, что имеем дело с бандой жлобов и негодяев во главе страны. Но вера в правоту дела социализма и коммунизма сохранялась у нас очень долго. „Оттепель“ способствовала сохранению этой веры – нам казалось, что наконец наступило такое время, когда можно говорить правду, и многие уже говорят правду, и ничего им за это не бывает, страна становится честной, чистой».
В «Стажерах» есть один характерный эпизод, показывающий, насколько прочной была вера авторов в светлое будущее. Начальник физической лаборатории «Эйномия» Костя, он же духовный лидер пестрой братии неистовых исследователей, спокойно поучает большую власть – Юрковского: «Ну вот скажите мне серьезно: зачем вы приехали сюда? Ни спросить вы ничего толком не можете, ни посоветовать, я уж не говорю, чтобы помочь. Ну, скажем, я в порядке вежливости поведу вас по лабораториям, и мы станем ходить как два лунатика и уступать друг другу дорогу перед люками. И мы будем вежливо молчать, потому что вы не знаете, как спросить, а я не знаю, как ответить».
Генеральный инспектор пеняет на перенаселенность станции. На это Костя отвечает: «Люди же хотят работать!.. Что же, ждать, пока МУКС закончит постройку новой станции? Нет, планетолог Юрковский рассудил бы совсем иначе. Он не стал бы мне выговаривать за перенаселенность. И не стал бы требовать, чтобы я ему все объяснял… Нет, планетолог Юрковский сказал бы: „Костя, мне нужно, чтобы вы экспериментально обосновали мою новую роскошную идею. Давайте займемся, Костя!“ Тогда я уступил бы вам свою койку, а сам бы занял аварийный лифт, и мы бы с вами работали до тех пор, пока бы все не стало ясно, как весеннее утро! А вы приезжаете собирать жалобы. Какие жалобы могут быть у человека, имеющего интересную работу?»
Выходит, в новое время не столько власть использует «настоящих людей», сколько «настоящие люди» (то есть творческая интеллигенция) прививают власти нравственные принципы и приоритеты практической деятельности.
Этого очень хотелось. Но мечта явью не стала.
На протяжении всех первых лет совместного творчества Аркадий Натанович, несомненно, занимал в писательском тандеме преобладающее положение. И его надежды, и его разочарование в слабеющей «оттепели», надо полагать, сыграли очень важную роль. Двадцатые годы с их идейным наполнением уже не могли вернуться. Никак не могли. Пока хоть какая-то надежда жила, он со всей страстью работал внутри «системы», на благо «системы», бешеной своей энергией увлекая брата. А вот когда «система» обманула его ожидания, – встал к ней в оппозицию.
Таков смысл быстрого дрейфа братьев Стругацких от «Стажеров» до «Попытки к бегству» и «Трудно быть богом». Собственно, этот дрейф очень точно повторяет умственное движение огромной части советской интеллигенции – от мечтаний «оттепели» к досаде на «похолодание»[6]6
Треть века спустя в романе «Поиск предназначения», насыщенном автобиографическими мотивами, Борис Натанович устами главного героя скажет об интеллигенции тех времен и отчасти о себе с братом: «Шатающийся басок Галича обжигал их совесть так, что дух перехватывало. Надо было идти на площадь. И бессмысленно было – идти на площадь. Не только и не просто страшно – бессмысленно! Они готовы были пострадать, принять муку ради облегчения совести своей, но – во имя пользы дела, а не во имя гордой фразы или красивого жеста… В сущности, они по воспитанию своему и в самой своей основе были – большевики. Комиссары в пыльных шлемах. Рыцари святого дела. Они только перестали понимать – какого именно».
[Закрыть].
Главным врагом побеждающего коммунизма – а по сути, революционного романтизма – Стругацкие видели мещанство. К этой теме авторы возвращаются на страницах повести неоднократно. Пикируют на нее с разных углов, нещадно бомбя противника. Мещанство – последний щит рушащегося капитализма, гниль и пакость. Его носители и, тем более, идеологи поданы в «Стажерах» именно как нравственные уроды.
Вот разглагольствует Маша – бывшая жена Дауге и сестра Юрковского: «Дурацкое время… Люди совершенно разучились жить. Работа, работа, работа… Весь смысл жизни в работе. Все время чего-то ищут. Все время что-то строят. Зачем? Я понимаю, это нужно было раньше, когда всего не хватало. Когда была эта экономическая борьба. Когда еще нужно было доказывать, что мы можем не хуже, а лучше, чем они. Доказали. А борьба осталась. Какая-то глухая, неявная…» Женщина чувствует противостояние коммунизма и Традиции, оборачивающееся у Стругацких борьбой с мещанством.
Она, Маша, осаждает Дауге: «Ты знаешь, недавно я познакомилась с одним школьным учителем. Он учит детей страшным вещам. Он учит их, что работать гораздо интереснее, чем развлекаться. И они верят ему. Ты понимаешь? Ведь это же страшно! Я говорила с его учениками. Мне показалось, что они презирают меня. За что? За то, что я хочу прожить свою единственную жизнь так, как мне хочется?»
Дауге мысленно спорит с Машей: «Где тебе понять, как неделями, месяцами с отчаянием бьешься в глухую стену, исписываешь горы бумаги, исхаживаешь десятки километров по кабинету или по пустыне, и кажется, что решения нет и что ты безмозглый слепой червяк, и ты уже не веришь, что так было неоднократно, а потом наступает этот чудесный миг, когда открываешь наконец калитку в стене, и еще одна глухая стена позади, и ты снова бог, и Вселенная снова у тебя на ладони».
Но вслух Дауге отвечает коротко: «Они тоже хотят прожить жизнь так, как им хочется. Но вам хочется разного».
Инженер бамбергской шахты Сэмюэль Хиггинс – фигура более сложная. Он выдвинут авторами на роль персонажа, подводящего под мещанство философскую базу. С его точки зрения, человек по натуре – скотинка. «Дайте ему полную кормушку, не хуже, чем у соседа, дайте ему набить брюшко и дайте ему раз в день посмеяться над каким-нибудь нехитрым представлением… зачем ему большее?»
С удивительной точностью братья Стругацкие передали в 60-х годах прошлого века состояние значительной части нашего общества годов 90-х, да и нынешних, несомненно. Вот комиссар МУКСа на Бамберге Бэла Барабаш возражает Хиггинсу: многое, мол, зависит от воспитания. «Вы вдалбливали им, что есть бог, есть дом и есть бизнес, и больше нет ничего на свете. Так вы и делаете людей скотами». Настоящий же человек начинается с убеждения в том, что «самое главное в жизни – это дружба и знание».
В середине 60-х советская интеллигенция на это и уповала: дружба, творчество (поиск нового знания) да еще, пожалуй, любовь. Ныне звучат другие слова – дом, бизнес, наконец, вернувшийся Бог. И противоречия между этими понятиями и дружбой, любовью, жаждой познания не обнаруживается. Или, вернее, не обнаруживается большего противоречия, нежели то, которое было в советское время. В сущности, речь идет совсем не о соревновании систем, нет. Как минимум не совсем о соревновании систем. Речь идет о двух мировоззрениях. Одно требует постоянного движения, другое – упорядоченного покоя. Стругацкие 60-х решительно стояли на стороне первого. И решительно видели в сторонниках второго своих неприятелей. Эта позиция вызывает естественный вопрос: разве не может быть благотворным чередование покоя, накопления сил, с периодами бешеного развития?
Но это уже более сложная и совсем не романтическая схема.
Беседа Хиггинса и Барабаша происходит в XXI веке, то есть во времена, когда капитализм умирает: для Хиггинса он уже труп. Инженер предупреждает комиссара: «Это опасный труп. А вы еще открыли границы. И пока открыты границы, мещанство во всех видах будет течь через эти границы. Как бы вам не захлебнуться в нем».
В ответ Бэла Барабаш высказывается так, как мог бы высказаться, наверное, Бэла Кун: «Не для коммунизма, а для всего человечества опасно мещанство… Мещанин – это все-таки тоже человек, и ему всегда хочется большего. Но, поскольку он в то же время и скотина, это стремление к большему по необходимости принимает самые чудовищные формы. Например, жажда власти. Жажда поклонения. Жажда популярности. Когда двое таких вот сталкиваются, они рвут друг друга, как собаки. А когда двое таких сговариваются, они рвут в клочья окружающих. И начинаются веселенькие штучки вроде фашизма, сегрегации, геноцида. И прежде всего поэтому мы ведем борьбу против мещанства. И скоро вы вынуждены будете начать такую войну просто для того, чтобы не задохнуться в собственном навозе».
Что из этого следует?
Авторы уверены: мещанство, бюргерская тихая и обеспеченная жизнь, лишенная динамического идеала, – вещь, которая иной раз достойна пули.
А уж для его последствий одной пули будет мало…
18В повести «Дни Кракена» та же борьба с мещанством передана не через «сократические диалоги», когда одна из сторон заведомо права и, следовательно, заведомо должна победить, а через «игру» персонажей. Конечно, главный герой время от времени знакомит читателя со своими «мыслями по поводу», но это неизбежно: повествование ведется от первого лица. Лобовым высказываниям отдан весьма незначительный объем, их почти не замечаешь. Результат: те же идеи, что и в «Стажерах», поданы теперь эффектно, красиво, без метания громов и постановочных дискуссий. Получилось на порядок сложнее и на порядок сильнее.
«Дни Кракена» строятся на противостоянии двух героев.
Центральный персонаж – Андрей Головин. Он прозрачен, легок, светел, как солнечный день. Это какой-то июльский человек, наполненный теплом и витальной энергией. Над черновиком «Дней Кракена» работал Аркадий Натанович, и в центральном персонаже просматриваются черты его характера, детали его биографии.
Это очень обаятельная личность, «агитирующая» за родной для Стругацких этический идеал без громких слов, без лозунгов, без пафосных сцен – одним своим поведением. Профессиональный переводчик с японского, он уже достиг высокого статуса в своей профессии. Ему позволено самостоятельно выбирать тексты для работы. И он занимается самым сложным, самым интересным, самым талантливым, – пусть эти произведения на порядок более трудны, чем обычная «текучка». Высокая трудоемкость отнюдь не предполагает повышенной оплаты. Само погружение в стихию перевода, само творчество доставляет главному герою ни с чем не сравнимое наслаждение… да и полное нравственное удовлетворение.
«Я – чернорабочий мировой культуры».
«Я, будучи убежденным коммунистом, не мыслю жизни без работы».
В личной жизни ведущий персонаж – личность, раскрепостившаяся, сбросившая путы жесткой морали, какой бы она ни была – советской ли, традиционной ли. Героя ведет чувство, он ошибается, исправляет ошибки, но никому не позволяет отнять хоть малую часть своей свободы. В одном из планов работы над сюжетом повести ясно указано: сущность «крайних представлений», то есть твердых принципов морали, – мещанская.
Юля Марецкая – активистка и общественница, кажется, влюбленная в Андрея, но ему не нужная. Она-то как раз выполняет функцию столпа морали. В повести она подана стеснительной молодой женщиной, не сумевшей «отделаться от некоторых ублюдочных принципов, которые ей внушили еще в школе». Но если кто-то шел против ее убеждений, Марецкая могла доставить ему неприятности – из педагогических соображений. И стеснительность ей ничуть не мешала. Ее реплики словно отлиты из бронзы: «Ты не имеешь права. Как твой товарищ и как член партбюро я предупреждаю тебя, это выглядит некрасиво». Или: «Мы сейчас ведем… борьбу за моральную чистоту, стараемся не оставить без внимания ни одного случая нарушения норм коммунистической морали – и вот пожалуйста, коммунистка, член бюро подозревается в… распущенности». А Головин отвечает ей: «И очень жаль, что мы не любовники, а то бы я постарался доказать тебе, что счастье не в печати от загса».
Право требовать от другого человека соблюдения собственных принципов, если они совпадают с принципами общественной нравственности, в повести торпедируется. Устами главного героя авторская позиция высказана совершенно однозначно: «Принципиальность становится последней ступенью к уверенности в собственной непогрешимости. А что может быть ужаснее в человеке, да еще в неумном человеке, нежели абсолютная и непоколебимая уверенность в собственной правоте при любых обстоятельствах и в любую минуту!»
Подобная позиция была близка огромной части тогдашней интеллигенции, тяготившейся негласными этическими табу прежнего периода, несколько, правда, «размоченными» во время войны, но еще властно руководившими жизнью советского общества. За кормой остался период пуританства и ригоризма, воспринимавшихся позднее как часть «сталинских цепей». Этический идеал интеллигенции требовал максимально возможной свободы для личности. А значит – не только свободы политической, творческой, но и свободы в отношениях между людьми. Предполагалось, что личность будущего, рождающаяся в настоящем, сумеет определить для себя меру ответственности за свои поступки и возьмет на себя эту ответственность добровольно. Иначе говоря, без принуждения со стороны общества, или, как тогда говорили, «общественности».
«Мещанство» в толковании братьев Стругацких расширялось, поглощая Традицию в большом и малом. Возрождение традиционных устоев, сменившее «сексуальную революцию» первых постреволюционных лет с ее «стаканом воды», органично вписалось в эпоху Империи, в советское имперство. Артистка, обнимающая на киноэкране супруга и нежно обращаюшаяся к нему со словами: «Муж мой, кровинка моя…», а потом отвергающая его ради социального служения, стала тогда воплощением этики долга, самоограничения, четких нравственных ориентиров[7]7
Реплику эту произнесла в фильме «Член правительства» актриса Вера Марецкая. Имя ее гремело в 40–50-х. Так что у героини повести «Дни Кракена» – «говорящая» фамилия. Она ассоциировалась со звездой советского кино, четыре раза награждавшейся Сталинской премией между 1942 и 1951 годами. В той же кинокартине «Член правительства» она произнесла слова, ставшие крылатыми: «И вот стою я перед вами, простая русская баба…»
[Закрыть]. Она была понятна для многомиллионных народных масс. А вот если бы та же артистка с той же лаской прижималась к чужому мужу… ох, далеко не весь зал сочувствовал бы ее «непростой судьбе».
Интеллигенция стремилась к иному. Она чувствовала стеснение от негласного права социума судить личность «за моральное разложение». Она отвергала прерогативы какого-либо «общественника» пенять «разложенцу» от имени всеобщей нормы. А значит, ждала размягчения нормы. Или, лучше того – желала сама диктовать норму, позволявшую значительно большую степень индивидуальной свободы в семье, дружбе, любви. Стругацкие, играя в команде интеллигенции, мощно били тараном в ворота Традиции, стремились расшатать, разрушить ее как «мещанство».
Гигантский разумный спрут, привезенный в Институт беспозвоночных и поселенный в бассейне посреди Москвы, обеспечивал повести элемент фантастики. Кракен обладал способностью влиять на сознание и эмоции людей. Но авторы наделили его еще одной функцией. Он представлял собою… лик мещанства[8]8
Изначально Аркадий Натанович скептически относился к идее воспринимать Кракена как символ мещанства. В частности, он писал брату: «Только в увеличивающейся полноте эмоционального восприятия мира – источник непрерывно растущего интереса к жизни… Кракен – воплощение идеала физика. Сугубейший рационалист. Вот откуда вся трагедия. Если Кракены существуют, если их миллионы в толще вод – это страшная угроза для людей… как громадный соблазн отрешиться от эмоциональной стороны жизни…» И, далее: «…отличительной чертой Homo Sapiens’a является способность воспринимать прекрасное, наслаждаться воздействием мира не на разум, а на чувства». Но впоследствии Кракен все-таки подтянется к символу мещанства. В дневнике Аркадия Натановича появится запись: «…Мы выработали концепцию Кракена – фактор омещанивания, элемент, в присутствии которого люди становятся животными. Показать непосредственную связь – мещанство – культ личности».
[Закрыть]. Эффектная Марецкая умела больно куснуть при случае, а вот «мегатойтис», безобразный вонючий монстр, убийца, был все-таки и прежде всего – разумом, эволюционировавшим весьма долго, доросшим до высочайших пределов рациональности, но так и не выработавшим навыков созидательного труда, радости духовных запросов. Разум вне труда, вне творчества, вне духа – нечто ужасное и вредное. «Апофеоз эгоизма и индивидуализма» – как выразился Аркадий Натанович.
«Мегатойтис» (он же «архитойтис») в ранних сюжетных планах повести ассоциируется с «императором», то есть – верховной властью. Головин, увидев спрута, испытал странное чувство: «Чудище в бассейне было невероятно чужим. Ни мы, ни наши собаки не имели с ним ничего общего. Оно было чужое, насквозь чужое. Даже в его запахе не было ничего знакомого, пусть хотя бы и враждебного. Это было нелепо, что оно могло чего-то требовать от нас через разделявшую нас пропасть. А еще более нелепо было давать ему хотя бы незначительную частичку от нашего мира. И вдобавок низко радоваться, что оно приняло дань».
Итак, мещанин – всегда чужак. Даже если этот мещанин выступает в облике «хорошенькой девушки», как та же Марецкая, он все равно – из другого мира. Он не смеет требовать чего-то от интеллигента. А интеллигенту нелепо уступать ему «хотя бы незначительную частичку от нашего мира». Спруты могут быть могущественными и опасными, как опасны агрессивные чужаки-мещане, особенно если злой мещанин получает в свои руки всю мощь верховной власти (император, канцлер… генеральный секретарь).
И если доходит до открытого противостояния, то наш интеллигент имеет право… да что там право! – он обязан уничтожить источник мещанства.
Вот Андрей Головин и убивает Кракена, после того как тот, «беседуя» с человеком, внушил ему мысль: «Мещанство, ограниченность, отсутствие стремлений всегда восторжествуют… все усилия так называемых мыслящих интеллигентных людей в конечном счете служат лишь для мещан».
Интеллигент убивает императора. Какая точная метафора!
И пусть это всего лишь беспозвоночный император-спрут, не важно.
Эзопов язык советской эпохи был внятен для современников. И тут между строк читалось: если надо убить – убей!
Стругацкий-старший четко выразил главную идею повести в письме младшему (11. Х. 1962): «…доведение до необходимости сделать практические выводы из своего мнения в ленивых застольных спорах».
А Борис Натанович сообщает о работе над текстом следующее:
«Вариант повести под названием „Дни Кракена“ писался АН в одиночку в начале 1963 года, был примерно в те же времена рассмотрен обоими соавторами, принят как первый черновик и отложен на неопределенный срок. Работа не пошла. Насколько я помню, нас остановили два соображения. Во-первых, общая и очевидная „непроходимость“: то, что мы собирались писать в повести дальше, не годилось ни для „Молодой гвардии“, ни, тем более, для „Детгиза“, а писать в стол мы тогда не умели – во всяком случае, не были еще готовы. А во-вторых, вещь показалась нам слишком уж „бытовой“, мы побоялись впасть в так называемый „блэпингтонизм-блэпскизм“… Позже мы не раз возвращались к этой повести, но, видимо, время ее прошло окончательно, мы так и не взялись за нее и только беспощадно растаскивали ее по кускам, следуя жестокому принципу литературной целесообразности: „Всё, годное к утилизации, должно быть своевременно утилизировано“».
Судя по переписке между братьями, Аркадий Натанович составил первый план повести еще в мае 1962 года. Идея ему нравилась. Он перебирал подходы к ней, дополнял сюжетные заготовки все новыми деталями. Думал над повестью, по его собственным словам, «денно и нощно». Словом, всерьез увлекся. Но Борис Натанович, очевидно, был прав, говоря о полной «непроходимости» сюжета. Лишь 80-е, застав Стругацких мэтрами советской НФ, позволят им писать в подобной манере. Двумя десятилетиями раньше у них вряд ли бы взяли для печати философскую фантастику, насыщенную аллегориями и сложными рядами символов.
Кроме того, Аркадий Натанович желал разыграть в повести «смачный нетривиальный конфликт между людьми», отвечающий двум условиям. Во-первых, чтобы он «не был возможен нигде, кроме СССР». Во-вторых, «чтобы такой конфликт не был возможен никогда раньше пятьдесят пятого года».
Яснее не скажешь.
Конфликт – получился.
Результат: фрагмент повести и конспект ненаписанных глав увидели свет лишь несколько лет назад.