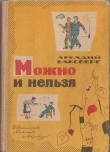Текст книги "Братья Стругацкие"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Соавторы: Геннадий Прашкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
В марте 1973 года Стругацкий-младший возглавил литературный семинар, действующий в Санкт-Петербурге по сей день. «Семинар этот затеял Евгений Павлович Брандис, один из авторитетов секции научно-фантастической и научно-художественной литературы при Ленинградском отделении Союза писателей РСФСР, – вспоминал Б. Н. Стругацкий (письмо от 8. Х.2010). – Первым руководителем стал в 1972 году всеобщий наш любимец Илья Иосифович Варшавский, и работал он в этом качестве до тех пор, пока смертельно не заболел, где-то год с небольшим. Брандис предложил мне его сменить, и я согласился, потому что мне нравилось тогда возиться с молодыми и казалось, что от этой затеи может быть какой-то прок.
Конечно, я и тогда понимал, вслед за О. Бендером, что если блондин в четвертом ряду играет хорошо, а брюнет во втором – хуже, то этого факта не отменит никакая дебютная идея. Но мне казалось тогда (да и сегодня кажется), что брюнета можно-таки научить отличать плохое от хорошего, хотя писать хорошо научить его решительно нельзя (если бог не дал ему соответствующего таланта). Этим мы все и занимались, и это было интересно. Не знаю, было ли это (кому-нибудь) полезно, но интересно было многим».
В апреле 1974-го Стругацкий-старший едет (уже в третий раз) в Душанбе для работы над сценарием фильма «Семейные дела Гаюровых». Каково название, такова и судьба. Картина эта вышла на экраны в 1975 году, но событием не стала.
Зато за сценарии платили. И неплохо. Борис Натанович (11.II.2011): «…в конце концов, не так уж много времени всё это занимало и совсем не много души. Думаю, что о каких-то „потерях“ из-за сценариев говорить не стоит. Когда приходило время и решительно нас „требовал к священной жертве Аполлон“, мы посылали к чертям все сценарии на свете и брались за настоящее дело».
К тому же в серии «Библиотека всемирной литературы» вышел толстенный том рассказов и повестей Акутагавы – с переводами Аркадия Стругацкого и его предисловием.
Жить вроде бы можно…
Удар обрушивается с неожиданной стороны.
Гомеостатическое Мироздание (о котором Стругацкие уже задумывались) не желало отменять давление на писателей. Весной в Ленинграде арестован близкий друг Стругацкого-младшего историк Михаил Хейфец.
«Можно утверждать, – писал Борис Натанович в „Комментариях к пройденному“, – что событийная часть нашей биографии закончилась в 1956 году». Но теперь, именно теперь, на большом удалении от пятидесятых, стало видно: так только казалось. На самом деле, вся основная, так сказать, «событийная часть биографии» братьев Стругацких была выткана многими и многими такими вот невеселыми событиями. Позже, в романе «Поиск предназначения» (написанном уже без помощи брата), Борис Натанович детально описал арест Хейфеца. Герой романа вроде уже «привыкает» к банальностям, к будничности, к повторяемости допросов, в душе он вроде уже посмеивается над сотрудниками Большого дома, но вдруг начинают на тех же допросах всплывать имена и факты, о которых, кроме тебя, вроде никто не должен был знать. Вот и задумаешься: что же на самом деле является основной «событийной стороной» жизни.
10«Когда приходило время… мы посылали к чертям все сценарии на свете…»
В апреле 1973 года, съехавшись в Ленинграде, Стругацкие набрасывают сюжет новой повести. Название: «За миллиард лет до конца света». В одном из первых вариантов: «За миллиард лет до Страшного суда». Заявка подана в журнал «Аврора», в редакции повесть ждут.
Где происходит действие? В Питере, скорее всего.
С кем происходят эти странные, даже невероятные события? Да со звездным астрономом Маляновым Дмитрием Алексеевичем – в ужасе неприбранной квартиры, где на кухонном столике среди хлебных крошек красуется натюрморт из сковородки с засохшими остатками яичницы, недопитого стакана чая и обкусанной горбушки со следами оплавившегося масла.
Что происходит в этой неприбранной квартире в невыразимо жаркий день, вдруг ни с того ни с сего накрывший северный город?
Да чудо происходит. Чудо настоящего научного Открытия.
С большой буквы Открытия, не просто так. «Это надо же – какой паршивый интеграл оказался… Ну, ладно… Пусть это будет константа… От омеги не зависит. Ясно ведь, что не зависит. Из самых общих соображений следует, что не должен зависеть… Малянов представил себе этот шар и как интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то выплыла формула Жуковского. Ни с того ни с сего. Малянов ее выгнал, но она снова появилась. Конформное изображение попробовать, подумал он…»
В «Миллиарде» всё гармонично – переходы от первого лица к третьему, обрывки главок, лаконичность, точность и в то же время чувственность, осязание запаха, цвета, звуков. «Это была легкая („счастливая“) повесть, – писал Борис Натанович одному из авторов этой книги в декабре 2010 года. – Никаких кризисов, никаких заторов, вообще никаких сюжетных затруднений. Легкие роды. И времени потребовалось не много (хотя и не мало, конечно). Начали 23.04.73, закончили (чистовик) 5.12.74. Нормально. А вот что было не совсем обычно, так это скорость формулирования, пусть даже и чернового, но в главном вполне законченного сюжета. В первый же день, еще „пустые“, яловые еще, едва написав для разгона: „Фауст, XX век. Ад-рай пытаются прекратить развитие науки“, после пары часов обсуждения уже записываем: „За миллиард лет до конца света“ („…до Страшного суда“). И дальше идет список „воздействий“ на героев (Диверсанты… Дьявол… Пришельцы… Спруты Спиридоны… Союз 9-ти… Вселенная…). И более того – „нигде же бываемое!“ – в тот же день (видимо, уже вечером) пишется заявка. „Предлагаем вашему вниманию фантастико-приключенческую повесть ‘За миллиард лет до конца света’ (название условное)“. И далее вполне связный пересказ, уже можно сказать, готового сюжета с обещанием: „Рукопись может быть представлена в ноябре – декабре 1973 г.“. Никогда мы – ни до, ни после – не придумывали сюжет с такой скоростью и не писали заявок, пока вещь не готова была хотя бы наполовину. Видимо, уже „в первый день творения“ была эта повесть для нас прозрачна и просматривалась (пусть в самых общих чертах) вся, – провешена была до самой последней, финальной вешки».
11Ай да Малянов! Ай да молодец!
Радоваться бы Открытию, откровенно радоваться.
Но тут-то и начинается тайный ход событий, отрывающий героя от его чудесного Открытия. Телефонные звонки черт знает от кого, затем посыльный из магазина, будто угадавший ход мыслей проголодавшегося Малянова и его не менее проголодавшегося кота. «Он вытирал руки, когда его снова осенило, совсем как вчера. И так же, как вчера, он сначала не поверил. Подожди-ка, подожди… – лихорадочно бормотал он, а ноги уже несли его по коридорчику, по проходному, липнущему к пяткам линолеуму, в густой желтый жар, к столу, к авторучке… Черт, где она? Чернила кончились. Карандаш здесь где-то валялся… И в то же время вторым, а вернее, первым основным планом: функция Гартвига… И всей правой части как не бывало… Полости получаются осесимметричные… А интегральчик-то не ноль! То есть он до такой степени не ноль, мой интегральчик, что величина вовсе существенно положительная… Но картина, ах какая картина получается! Как это я сразу не допер? Ничего, Малянов, ничего, браток, не один ты не допер. Академик вон тоже не допер… В желтом, слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями осесимметричные полости, материя обтекала их, пыталась проникнуть внутрь, но не могла, на границе материя сжималась до неимоверных плотностей, и пузыри начинали светиться. Бог знает что там начиналось… Ничего, и это выясним… С волокнистой структурой разберемся – раз. С дугами Рагозинского – два! А потом – планетарные туманности. Вы, голубчики мои, что себе думали? Что это расширяющиеся сброшенные оболочки? Вот вам – оболочки! В точности наоборот!»
Считай, Открытие поднесено Малянову на блюдечке с голубой каемочкой.
Но тут вдруг появляется какая-то девушка – незнакомая, но вроде бы подруга жены, сама при этом не понимающая, зачем и для чего явилась… потом – следователь, докапывающийся до каких-то странных вещей… потом Вайнгартен – близкий друг Малянова. Вечно он что-то там такое коллекционировал – марки, монеты, почтовые штемпели, но при этом был серьезным ученым и жутко уважал Вечеровского (еще одного героя повести), потому что этот Вечеровский был лауреат, а Валька Вайнгартен до дрожи мечтал стать лауреатом. «Сто раз он рассказывал Малянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку. Сам вид Вечеровского всегда приводил Вайнгартена в восхищение: невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые мокасины и галстук!»
Короче, к Малянову ни с того ни с сего потянулись разные люди.
И не просто потянулись. Они косяком пошли! Они мешают Малянову, они не дают ему работать. При этом они сами здорово сбиты с толку, потому что всей шкурой ощущают какое-то странное давление, какую-то неведомую грозную опасность. И при этом никакой четкой связи между сделанными ими открытиями не просматривается. Губарь, скажем, изобрел что-то связанное с «полезным использованием федингов», а Малявин – свои М-полости, а открытия Вайнгартена лежат далеко в стороне от неведомых никому работ Снегового. Где киевская тетка, а где бузина. Одно ясно: открытия героев (какими бы они ни были) здорово кому-то или чему-то не нравятся! Неведомые, невероятные, непредставимые силы категорически не хотят реализации этих открытий, поэтому в ход идет всё – запугивания, обещания, минутные подачки, женщины, выпивка, перспективы карьерного роста или угроза близким. И никто никому не поможет, никто не объяснит, не посоветует. Просто нужно самому делать выбор. И быстро.
Так, может, действительно к черту послать все эти великие Открытия?
Глухов (еще один несостоявшийся нобелевский лауреат) так и считает: «Чаек-то какой – просто прелесть!.. Месяц, смотрите, какой… Сигаретка… Что еще, на самом деле, человеку надо? По телевизору – многосерийный детектив, очень недурной… Не знаю, не знаю… Вы вот, Дмитрий Алексеевич, что-то там насчет звезд, насчет межзвездного газа… А какое вам, собственно, до этого дело? Если подумать, а? Подглядывание какое-то, а?.. Вот вам и по рукам – не подглядывайте…» И единственного не растерявшегося в этой запутанной ситуации человека – Вечеровского – злит даже не выбор Глухова (в конце концов, каждый делает свой выбор), а то злит, что Глухов, уже выбрав тихий домашний вариант с сигареточкой и чайком, все время оправдывается. И не просто оправдывается, а уговаривает других перейти в его тихий уютный лагерь. Ему стыдно оставаться слабым среди сильных. Ему хочется, для собственного успокоения, чтобы и другие стали, как он, слабыми.
Никогда не писали Стругацкие столь откровенной вещи.
Как ни парадоксально, всё помогало им в этой работе: и издательская бесперспективность, и давление неведомых (и ведомых) сил. Вечеровский у них признается: «Вся деловая жизнь есть последовательная цепь сделок». Но именно Вечеровский, так точно осознающий необходимость подобных сделок, единственный из всех (не будем перечислять причины) делает высший выбор. Он, как другие, вполне мог отойти в сторону, испытав давление, но это не в его характере. И все понимают, что он, в отличие от них, всех, не отступит перед неведомыми (или ведомыми) силами, а просто уедет куда-нибудь в глушь, куда-нибудь на Памир (чтоб не подвергать опасности близких), и будет там возиться с вайнгартеновской ревертазой, с федингами Губаря, с М-полостями, со своей заумной математикой и со всем прочим, а неведомые (или ведомые) силы будут в него лупить шаровыми молниями, насылать привидения, приводить обмороженных альпинистов, в особенности альпинисток, обрушивать лавины, коверкать вокруг него пространство и время, и в конце концов ухайдокают…
Или не ухайдокают.
И тогда он что-то поймет.
И тогда он установит какие-то странные, но важные закономерности появления шаровых молний и нашествий привидений или обмороженных альпинисток. А если не установит, что ж… Пока есть силы, он будет терпеливо корпеть над чужими и своими работами и искать, где, в какой точке пересекаются выводы из теории М-полостей и выводы из количественного анализа культурного влияния США на Японию. «И вполне возможно, что в этой точке он обнаружит ключик к пониманию всей этой зловещей механики, а может быть, и ключик к управлению ею».
Ну а Малянов, отказавшийся от Открытия?
А Малянов что? Он останется дома. Он встретит Бобку и тещу.
И пойдут они потом всей дружной семьей покупать новый книжный шкаф.
Или, скажем, сядет и напишет очередной сценарий о «семейных делах Гаюровых»… а все эти «Пикники», «Улитки» и «Миллиарды»… Да ну их! Пусть ими занимается Вечеровский!
12«Как приходили идеи – вопрос совершенно некорректный, – писал Г. Прашкевичу в декабре 2010 года Стругацкий-младший. – Могу повторить уже говоренное. Приходили и поодиночке, и короткими очередями, и вдруг налетали как поденки на свет – трепещущим облачком. Некоторые – из пальца, другие с потолка, а третьи вообще неизвестно откуда – из житейского сора, не ведая, как водится, стыда. Иногда (редко) – во сне, еще реже выскакивали из нас обоих одновременно (в этих случаях АН, как человек военный, вчера из казармы, имел обыкновение констатировать: „С тобой хорошо говно есть – изо рта выхватываешь“), но, как правило, – из бесконечных обсуждений, из жестоких споров и полезных разногласий. Установить сколько-нибудь уверенно конкретного автора той или иной идеи сейчас совершенно невозможно (как, впрочем, и всегда). Но помню, что снабжение цитируемой поэзией обеспечивал я; зато Аркадий Натанович вытащил несколько отличных строчек из нашего друга Юры Манина (Вечеровского): „Глянуть смерти в лицо сами мы не могли, нам глаза завязали и к ней привели…“»
И в том же письме: «…к стихам я, скорее, отношусь как литературному материалу – для цитирования в прозаических текстах. В этом качестве они иногда не могут быть переоценены (как, скажем, „Сказали мне, что эта дорога…“ в „За миллиард лет до конца света“). Стихи же вообще, как самостоятельная литературная ценность („для чтения и перечитывания“), меня способны заинтересовать редко, я бы сказал, в исключительных случаях: Пушкин, Гумилев, совсем редко – Бродский или Цветаева. Это стихи „для чтения вслух“ самому себе, имея при этом целью испытать то, что у Тынянова названо „восторг пиитический“. Это – жемчужины в необъятной навозной куче так называемой поэзии – „рифмованного спама“. Поэтому сведения мои по этому поводу отрывочны, и обогащать себя в этом плане я отнюдь не стремлюсь – во избежание…»
А жара? А Питер? А кот Калям, вполне равнозначный прочим героям?
«И жара случалась, – писал Борис Натанович. – И Питер был, и Комарово, и слякоть вперемежку с морозами – полтора года работали, всякое бывало (как говаривал старый вояка, сейчас из казармы: и на я-бывало, и на е-бывало). И Калям присутствовал, и захватывал унитаз у тебя перед носом, в самый ответственный момент – этот наш Калям был дьявольски интеллигентен, никаких лотков и песочниц не признавал: только унитаз о натюрель, и потом сварливо требовал, чтобы за ним спустили воду…»
А Вечеровский? Вайнгартен? Губарь? Глухов? Снеговой? Малянов?
«Вечеровского мы сконструировали сразу из двух знакомых ученых… Вайнгартен создан из ребра Лешки Германа – такой же толстый, безмерно талантливый, веселый до свирепости, жизнелюб и Фальстаф… Губарь в значительной степени это Саша Копылов, мой любимый друг, а Глухов – один из друзей Аркадия Натановича, тихий, безобидный человечек с похожей темой диссертации. Малянов, естественно, это я, а Ира – моя Адка, законная и любимейшая женушка. (Писать этих двоих было легко и естественно: по ним только что прошелся каток Гомеостатического Мироздания, принявшего форму молодых энергичных офицеров ГБ, копающих так называемое „дело Эткинда-Хейфеца“.) А что касается Снегового, то он и в самом деле был срисован с Александра Александровича Меерова (был такой писатель-фантаст), который в квартире напротив, правда, не жил, но со мной тесно общался, имел за плечами „ракетный опыт“ (работал в одной шарашке с Валентином Глушко), был огромен во всех своих измерениях, и лицо его, действительно, изуродовано было застарелыми шрамами, оставшимися навсегда после встречи с „адским пламенем“…»
В «Авроре», куда Стругацкие подавали первую заявку на «Миллиард…», повесть не пошла: предложение редактора перенести действие за рубеж, в какую-нибудь капиталистическую страну, авторов совершенно не вдохновило. В конце концов повесть обрела пристань в журнале «Знание – сила».
13«Когда мы писали „За миллиард лет до конца света“, – вспоминал в „Комментариях к пройденному“ Борис Натанович, – то ясно видели перед собою совершенно реальный и жестокий прообраз выдуманного нами Гомеостатического Мироздания, и себя самих видели в подтексте, и старались быть реалистичны и беспощадны – и к себе, и ко всей этой придуманной нами ситуации, из которой выход был, как и в реальности, только один – через потерю, полную или частичную, уважения к самому себе…»
Об этих настроениях хорошо написал близкий друг Аркадия Натановича Стругацкого Мариан Ткачев.
«Поскольку о моей дружбе с АН было, так сказать, широко известно, – меня то и дело спрашивали: правда ли, что АН и БН уезжают? Уже уехали? А самые „осведомленные“ называли даже адреса в Израиле или США. Не случайно ведь на состоявшемся в ту пору в Политехническом музее литературном вечере, посвященном фантастике и детективу, АН, получивший множество записок из зала (попадались и вопросы „щекотливые“), сказал во всеуслышание: „Я пользуюсь случаем. Ведь здесь собралось столько заинтересованных читателей наших с Борисом книг. И заявляю, что русские писатели Аркадий и Борис Стругацкие никогда никуда из своей страны не уедут!“ Зал разразился аплодисментами».
Мариан Ткачев хорошо знал бытовые обстоятельства жизни Стругацких, порой не слишком приятные, а порой и прямо обидные. Дело не только в том, что многое расхолаживало их, когда они брались за работу, – позиция издательств, прежде всего, а вместе с тем недобрые отношения с литературным начальством, выпады со стороны критики. Стругацкие были невероятно популярны даже в «годы тощих коров». Но читательское признание отнюдь не делало из их жизни сплошное «процветание». По словам Ткачева, «…попытка опубликовать в „Комсомольской правде“ фальшивку, под которой стояли подписи АН и БН, скопированные на ксероксе с издательского договора, – это тоже из жизни „процветающих типичных советских писателей“? Или облыжные рецензии на книги Стругацких – симбиозы пасквиля с доносом? Важной составляющей бытия процветающих советских писателей являлись заграничные вояжи: участие в многоразличных форумах, творческие командировки, выезды на отдых и лечение. На имя АН приходили десятки приглашений из разных стран, о каких-то он, возможно, даже не знал. Причем приглашения, как правило, деловые: издания переводов, встречи с коллегами, читателями. Все эти приглашения не были реализованы». Советская писательская иерархия знала множество формальных и неформальных признаков официального признания. Разного рода премии, почетные звания, участие в редакционных советах, выпуск собрания сочинений, отправка за рубеж. Стругацких такими вещами, как правило, обходили. Правда, в середине 60-х Аркадия Натановича еще выпустили в Прагу, но затем – как отрезало. Однажды Стругацкого-старшего, получившего добрую славу не только как писатель-фантаст, но и как переводчик с японского, пригласили в Страну восходящего солнца. Пригласили его, а поехала, к удивлению японцев, целая делегация советских фантастов во главе с В. Д. Захарченко.
Лишь когда началась «перестройка», звездный дуэт выпустили в Великобританию, в Брайтон, на Всемирный конгресс фантастов «Ворлдкон» («The World Science Fiction Convention»). Да и то, по воспоминаниям того же Ткачева, «…один из вождей нашего Союза писателей, придумавший поднять словесное искусство на небывалый уровень с помощью Советов по литературам (и наших, и зарубежных) и, само собою, курировавший это великое начинание, вычеркнул АН из списка Совета по литературам Индокитая, председателем коего меня избрали. „Вы разве не знаете, – грозно вопросил он, – что Стругацкий невыездной?“ В Совет же этот АН согласился войти потому, что, с моей легкой руки, подружился с несколькими вьетнамскими писателями. Он писал об их книгах. Встречи с ними были для АН источником информации о войне во Вьетнаме, информации, которую трудно было получить из газет и телерепортажей. Когда в 1979 году Китай вознамерился дать вьетнамцам „урок“ после ввода вьетнамских войск в Камбоджу, в Москву приехал друг АН, прекрасный прозаик То Хоай. АН, пригласивший То Хоая к себе, велел мне прихватить большую карту Вьетнама. Оба, хозяин и гость, как штабные стратеги, водя по карте указкой, анализировали ситуацию. АН напечатал рецензии на два переведенных у нас соответственно в 1973 и 1980 годах романа То Хоая („Западный край“ и „Затерянный остров“). По второй книге – это была часть исторической трилогии, построенной на древних легендах, – мы с АН вознамерились написать телесценарий и, вскоре после выхода ее в свет, подали заявку на имя председателя Гостелерадио С. Г. Лапина. План был грандиозный: совместный с Вьетнамом сериал – с тропическими и археологическими кунштюками. Но телевизионный наш вождь „не счел“…».