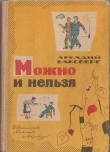Текст книги "Братья Стругацкие"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Соавторы: Геннадий Прашкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
Поклонники творчества Стругацких любят словосочетание «Мир Полдня».
И произносится это с придыханием. «Мир Полдня» – не просто цикл повестей, связанных воедино сквозными героями и общими вехами истории будущего. Произнося слова «Мир Полдня», человек, сердцем приросший к творению Стругацких, одновременно выкликает имя святыни и выдает название сильнейшего наркотика. «Мир Полдня» для многих и многих интеллигентов – синоним рая на земле. По крайней мере, так было полстолетия назад, когда «Мир Полдня» только-только рождался. Так было и в 70-х, когда заразительная сила этого необыкновенного мира достигла апогея. И даже сейчас, когда сгинуло общество, породившее мечту об утопии, напоенной творческим духом, многие ветераны фэндома живут его обаянием. Даже в «нулевых» – в «нулевых»! – время от времени кто-нибудь из старшего поколения образованных людей сообщал миру со страниц журнала или же с сетевой странички: «Я до смерти люблю „Мир Полдня“! Я хочу там жить! Я до сих пор хочу там жить. Это мой идеал».
В 2010 (!) году вышел роман «Се, творю» ученика Стругацких Вячеслава Рыбакова, давно сделавшегося большим самостоятельным писателем. Сюжетные перипетии книги сходятся на корпорации космических исследований «Полдень-22», призванной дать великий шанс современной российской науке. Кто бы сомневался, что Рыбаков протягивает ниточку надежды между современностью и прекрасным фантастическим Полднем XXII века, созданием Стругацких…
Казалось бы, запоздал… Казалось бы, мечта о Полдне в реальность никогда уже не воплотится… Сами творцы этой мечты давно пришли к мысли о нежизнеспособности своего создания, но… устав от серой суеты мира, читатели и сейчас погружаются в чудесную вселенную той мечты…
«Мир Полдня» безотказно срабатывает.
«Мир Полдня» – как огромная чаша, до краев наполненная солнечным светом.
Свет этот – прохладен. Он не столько греет, сколько делает окружающее прозрачным, рациональным, правильным. Весь он – бесконечно длящееся во времени и пространстве творческое усилие по отысканию истины.
Да, ныне «Мир Полдня» уже отцветает, но аромат его до сих пор силен и притягателен.
13В цикл, составляющий «Мир Полдня», входят следующие произведения: сборник «Возвращение (Полдень, XXII век)» – повесть «Возвращение» и целая обойма рассказов;
а также повести:
«Попытка к бегству»;
«Далекая Радуга»;
«Трудно быть богом»;
«Беспокойство» (один из вариантов «Улитки на склоне»);
«Обитаемый остров»;
«Малыш»;
«Парень из преисподней»;
«Жук в муравейнике»;
«Волны гасят ветер».
Борис Натанович видит в сборнике «Возвращение (Полдень, XXII век)» роман и сообщает, что вещь эта была задумана, видимо, в самом начале 1959 года. По его словам, «…работа шла трудно. Изначально будущее сочинение мыслилось авторами как большой утопический роман о третьем тысячелетии, но в то же время и как роман приключенческий, исполненный фантастических событий, то есть отнюдь не как социально-философский трактат». Цензура, кстати, впервые треплет произведение Стругацких всерьез, авторам пришлось понервничать. Судя по их переписке, работа над «Возвращением» шла полным ходом в 1959 году и завершилась в первой половине 1961-го. Летом начинается публикация глав из повести «Возвращение» в журнале «Урал» – под общим названием «Полдень, XXII век».
Годом позже весь сборник вышел отдельной книгой.
Конечно, «Возвращение» представляло собой очень вежливую и очень благожелательную полемику со знаменитым романом И. А. Ефремова «Туманность Андромеды», опубликованным в 1958 году. «Туманность Андромеды», скорее, монография о будущем, нежели роман. Утопия разворачивается в «главах» – о воспитании детей, о космических полетах, об искусстве, об организации науки и научной этике и т. п. – которым придана беллетризованная форма. Там действуют люди будущего, абсолютно немыслимые в реальности XX столетия, там социум немыслимо далеко ушел от советской действительности эпохи Н. С. Хрущева. Ледяная стихия рассудочности наполняет текст «Туманности» и подсвечивает его, как подсвечивает скудную тундру северное сияние.
Борис Натанович ясно очертил круг задач, которые они с братом ставили перед собой, берясь за новую книгу: «Ефремов создал мир, в котором живут и действуют люди специфические, небывалые еще люди, которыми мы все станем (может быть) через множество и множество веков, а значит, и не люди вовсе – модели людей, идеальные схемы, образцы для подражания, в лучшем случае… Ефремов создал классическую утопию – мир, каким он ДОЛЖЕН БЫТЬ… Нам же хотелось совсем другого, мы отнюдь не стремились выходить за пределы художественной литературы, наоборот, нам нравилось писать о людях и о человеческих судьбах, о приключениях человеков в Природе и Обществе. Кроме того, мы были уверены, что уже сегодня, сейчас, здесь, вокруг нас живут и трудятся люди, способные заполнить собой Светлый, Чистый, Интересный Мир, в котором не будет (или почти не будет) никаких „свинцовых мерзостей жизни“… Перед мысленным взором нашим громоздился, сверкая и переливаясь, хрустально чистый, тщательно обеззараженный и восхитительно безопасный мир – мир великолепных зданий, ласковых и мирных пейзажей, роскошных пандусов и спиральных спусков, мир невероятного благополучия и благоустроенности, уютный и грандиозный одновременно, – но мир этот был пуст и неподвижен, словно роскошная декорация перед Спектаклем Века, который все никак не начинается, потому что его некому играть, да и пьеса пока не написана… В конце концов мы поняли, кем надлежит заполнить этот сверкающий, но пустой мир: нашими же современниками, а точнее, лучшими из современников – нашими друзьями и близкими, чистыми, честными, добрыми людьми, превыше всего ценящими творческий труд и радость познания…»
И, далее, очень важно: «Мы… рисовали панораму мира, пейзажи мира, картинки из жизни мира и портреты людей, его населяющих».
10 января 1961 года, в самом разгаре работы, Аркадий Натанович написал брату: «Учти вот что – от „В[озвращения]“ ждут многого, считается, что это первое в литературе (мировой!) произведение об „уютном“ коммунизме… „В[озвращение]“ должно быть мировой книгой».
По способу сюжетного построения сборник[4]4
В дальнейшем он для краткости будет именоваться «Возвращение» – по названию наиболее крупной вещи.
[Закрыть] совершенно не похож на предыдущие работы Стругацких.
У «Страны багровых туч» был сквозной сюжет, пусть и рыхловатый; у повести «Путь на Амальтею» – ярко выраженный приключенческий сюжет, крепкий, линейный, динамичный; а «Возвращение» – груда рассказов, не получивших сквозной сюжетной составляющей. Их объединяют общие герои и единый для всех героев мир. В разных изданиях состав этой «мозаики» еще и отличается: вариант 1967 года значительно объемнее варианта, написанного в 60-м и опубликованного в 62-м.
«Возвращение» разворачивается в двух временах: бурно развивающемся «технологическом» XXI веке и следующем, XXII, когда общество начинает пожинать плоды предшествующего рывка. К XXII веку «конкурирующая» политическая система совершенно исчезнет с лица земли и повсюду воцарится коммунизм. Ведущими персонажами становятся космонавты – участники межзвездной экспедиции на звездолете «Таймыр», вернувшиеся домой к тому времени, когда мир неузнаваемо изменился. Их подвиги, их рискованные приключения, их научный поиск окажутся почти что напрасными. Люди новой цивилизации успели побывать на тех планетах, которые пришлось «штурмовать» звездолетчикам. Техника будущего настолько опередила старую, что десантники XXII века «перегнали» тихоходную экспедицию. Профессиональные навыки космолетчиков абсолютно обесценились, а переучиваться им поздновато. Они знакомятся с потомками, путешествуют по свету, заводят друзей, возлюбленных и всеми силами пытаются приспособиться к новой жизни. Для читателя они играют роль своего рода «проводников» по цивилизации грядущего. Такие же проводники – дети из Аньюдинской школы-интерната да космодесантник Горбовский – персонаж, надолго ставший любимцем Стругацких.
Ни одного мерзавца, корыстолюбца, дурака, лжеца, злодея. Живые, нормальные люди, очень разные по характеру, но никогда не подлые. В большинстве случаев – энтузиасты своего дела, личности, не мыслящие жизни без любимой работы.
Геннадий Комов – прирожденный лидер, волевой, бешено работоспособный человек, превосходный аналитик, быстро схватывающий рассеянную информацию и делающий правильные выводы. Блистательный специалист по ксеноцивилизациям, на неудачах научившийся понимать иной разум.
Леонид Горбовский – звездолетчик и десантник. Сквозь бушующую атмосферу он вытянул в космическое пространство планетолет, чуть не угробленный биологом Сидоровым при посадке на «трудную планету». Человек с огромным чувством ответственности. В будущем Стругацкие именно ему доверят принимать самые важные решения в других повестях – он умеет изо всех вариантов решения выбрать самое доброе, а значит, самое правильное. Еще он умеет высоко ценить человеческую жизнь и презирать «смертоубийственные подвиги». Именно он впоследствии (повесть «Беспокойство») сравнит человечество с двадцатью миллиардами детей, беспечно сидящих на краю пропасти и швыряющих камешки. При всякой возможности он задает вопрос: «Можно, я лягу?» – ибо ненавидит «отвратительные жесткие устройства» – диваны на космических кораблях.
Иван Москвичев, возмечтавший сделать из Венеры Землю. Он «…олицетворял собою нынешнее население Венеры, угнетенное тяжкими природными условиями… Он давал Земле семнадцать процентов энергии, восемьдесят пять процентов редких металлов и жил как собака, то есть месяцами не видел голубого неба и неделями дожидался очереди полежать в оранжерее на травке».
Елена Завадская, член Мирового Совета, «…была категорическим противником тех условий, в которых работал Москвичев и двадцать тысяч его товарищей. Она была также категорическим противником городов на болотах, подземных взрывов и новых могил, над которыми черные ветры будут петь легенды о героях. Короче говоря, она летела на Венеру, чтобы внимательно изучить местные условия и принять необходимые меры к деколонизации Венеры. Миссию же землянина она понимала так, что на чужих планетах нужно ставить автоматические заводы. Москвичев все это знал. Завадская висела над ним, как ножницы парки, угрожая всем его перспективам. Но, кроме того, Завадская была хирургом-эмбриомехаником; она могла работать без кабинета, в любых условиях, по пояс в болоте, а таких хирургов на Земле было еще очень мало. На Венере же они были незаменимы. И Москвичев помалкивал, явно надеясь, что впоследствии все как-нибудь обойдется».
И многие, многие другие – родом из будущего.
«Они обрисованы вполне реалистично, без всякой внешней приподнятости, торжественности, – отозвалась о героях „Возвращения“ Ариадна Громова, писатель-фантаст, в те годы известный. – Говорят герои Стругацких тоже простым, ничуть не возвышенным языком, частенько чертыхаются, еще чаще смеются и острят – у них прекрасно развито чувство юмора».
«Возвращение» не только населило будущее людьми настоящего (в отличие от футуристических гуманоидов Ефремова), оно дало советской интеллигенции мир, в котором хотелось бы жить и работать. Стругацкие очень мало пишут о политическом устройстве, экономике и, разумеется, совсем ничего не пишут о войнах. Мир – един, воевать некому и не с кем, нищета и подавляющее большинство болезней исчезли под натиском научно-технических достижений. Никто не задумывается всерьез о материальном достатке, поскольку все необходимое обитатель Полдня может получить без проблем. Излишества же в этом мире давно вышли из моды.
А вот о чем авторы говорят много и со вкусом, так это высшая ценность новой цивилизации – творческий труд. Люди влюбляются и строят отношения, как было сто, пятьсот, три тысячи лет назад. Но даже любовь в этом мире уступает пальму первенства творчеству. Оно – альфа и омега Полдня. На нем всё сходится и под него всё подстраивается. Весь мир – колоссальный отлаженный механизм, благоустроенная общественная машина – каждым поворотом любой шестеренки, каждым движением маховика, каждым включением тока, бегущего по проводам, обслуживает творческий процесс. И он идет в невероятном темпе, вызывая даже разговоры о «вертикальном прогрессе». Ученые ставят блистательные эксперименты, пытаются победить смерть, инженеры совершенствуют технику, врачи излечивают больных с четырьмя переломами позвоночника, десантники «берут» планету за планетой.
Дети, по большей части, отделены от родителей и отданы на воспитание искусным педагогам в интернаты. В этом Стругацкие, пожалуй, шли за Ефремовым. Родители могут спокойно работать – их отпрысков научат находить смысл жизни в творчестве. Правда, впоследствии писатель «четвертой волны» Эдуард Геворкян, испытавший влияние Аркадия Натановича, возразил Стругацким в рассказе «Прощай, сентябрь!». Отделение от родителей, посчитал он, отсутствие родительской любви помешает детям вырасти полноценными личностями, способными на создание полноценной семьи. Возражение, несомненно, серьезное. Но в годы, когда «Возвращение» только-только появилось на свет, многие советские интеллигенты, утомленные беспросветными тяготами быта, возней с подгузниками и пеленками, искренне восхищались такой вот всеобщей интернатской системой.
14Чем же «Возвращение» вызвало такие восторги?
Конечно, не только обаятельными героями и духом будущего.
Серьезную роль тут сыграл и новый стиль письма звездного дуэта.
В «Возвращении» Стругацкие очень внимательны не только к людям, но и к предметам. Они собирают общую картину из тысячи мелочей, выписанных чрезвычайно тщательно. Они подают вещи с графической четкостью, не жалея деталей. Техника (вплоть до бытовой), транспорт, космические полеты. Полемизируя с Ефремовым, Стругацкие в чем-то оказываются близки к той схеме, которую выработал как раз Иван Антонович: всякой сфере «общественной активности» они посвящают особый фрагмент, с той разницей, что фрагменты эти являются полноценными самостоятельными рассказами. Не напрасно Ариадна Громова писала: «Мир Стругацких вообще отличается пластичностью, предметностью, он гораздо более ощутим, реален, обжит, чем величественная панорама „Туманности Андромеды“…» Такая подробная проработка деталей полностью себя оправдала: на протяжении нескольких десятилетий советские интеллектуалы мыслили будущее примерно в картинках «Полдня», то есть братья Стругацкие создали полотно, в котором надолго увязло массовое сознание образованного класса.
Но за феерический успех «Мира Полдня» Стругацким пришлось заплатить немалую цену: в художественном смысле «Возвращение» уступает «Пути на Амальтею». Не только из-за отсутствия сюжетной целостности: пространство «Полдня» давало вещи целостность иного рода – полнокровную мощь правдоподобной утопии. Просто авторам приходится слишком многое рассказывать и объяснять в ущерб развитию действия, в ущерб рельефности характеров. Рядом с драйвовыми, законченными в сюжетном смысле текстами попадаются фрагменты, выполненные в замедленном темпе, представляющие собой всего лишь отдельную зарисовку. Конечно, в едином ансамбле все они работают, но изъятые из этого единства, немедленно теряют блеск и превращаются в тусклый ком связующего раствора. Поскольку они соседствуют с рассказами, «работающими» самостоятельно, имеющими художественную ценность и социальный смысл вне «ансамбля», коллекция в сборке вызывает неровное ощущение. Сбивающийся ритм – то медленнее, то быстрее – приключенческие эпизоды и объемные научные пояснения, любовная история и картинки сельскохозяйственного производства… Конструкция составлена из слишком разнородных элементов. В этом смысле «Возвращение»-1960 эстетически намного ровнее и гармоничнее, нежели «Возвращение»-1967.
16 июля 1960 года Аркадий Натанович предлагает ввести в «Возвращение» «маленькие рассказики из нынешней жизни – для контраста и настроения – a la Хемингуэй или Дос-Пассос». Предложение было Стругацким-младшим принято, однако результаты этого труда в дело не пошли. Борис Натанович с грустью сообщает: «Особенно жалко мне сейчас тех самых „маленьких рассказиков из нынешней жизни a la Хемингуэй или Дос-Пассос“. Мы называли их – „реминисценции“. Все реминисценции эти были во благовременье написаны – каждая часть повести открывалась своей реминисценцией. Однако в „Детгизе“ их отвергли самым решительным образом, что, впрочем, понятно – они были, пожалуй, слишком уж жестки и натуралистичны. К сожалению, потом они все куда-то пропали, только АН использовал кое-какие из них для „Дьявола среди людей“. На самом деле в „Возвращении“ они были бы на месте: они давали ощущение почти болезненного контраста – словно нарочитые черно-белые кадры в пышноцветном роскошном кинофильме».
Действительно, жаль. Может, усложнение мозаичного рисунка привело бы к появлению новой целостности, объединяющей многоплановое, хронологически разорванное между разными эпохами произведение. Может, пропасть между мрачным настоящим и сверкающим будущим привела бы и груду миниатюр о будущем к большему единству – как намагниченный стержень собирает вокруг себя множество гвоздиков большого и малого размера. Похоже, детгизовское руководство оказало Стругацким медвежью услугу, решив сделать их произведение проще, светлее. Изначально задуманная писателями сложность поднимала всю «мозаику» на более высокий художественный уровень. Что ж, остается лишь пожалеть об утраченной возможности (в «Хромой судьбе» она в какой-то степени реализуется).
Но значит ли, что отказ от текстов «a la Хемингуэй или Дос-Пассос» означал отказ и от «хемингуэевского лаконизма»? Нет, и еще раз нет. Анализ текстов, вошедших в состав «Возвращения», говорит о другом. Среди них нет рассказов, содержащих суровый монументальный «мачизм», да и просто серовато-черную гамму «жестокой реальности», характерную для названных выше писателей. Но техническая сторона писательского стиля Стругацких претерпела не столь уж значительные изменения, если сравнивать с повестью «Путь на Амальтею». Обилие разного рода объяснений Стругацкие компенсировали тем, что «сгрузили» значительную их часть в диалоги. Конечно, в результате появились дидактические диалоги (например, о кибердвойниках и киберсадовниках в миниатюре «Скатерть самобранка», о Великом КРИ в миниатюре «Загадка задней ноги» или о механозародыше в миниатюре «Поражение»), а это, в свою очередь, довело общий объем диалогов на пространстве «Возвращения» до зашкаливающих величин. Зато драйв не был до конца потерян, и до настоящего времени роман-из-рассказов читается легко – даже напоминает бешеную езду на «газике» по сельской дороге: ухабов много, тряска страшная, но скорость почти не снижается.
15Повесть «Стажеры» вышла отдельной книгой в условиях, которые сразу гарантировали ей внимание массового читателя. Это лето 1962 года – и полутора лет не прошло с тех пор, как Юрий Гагарин вышел в космос. Мальчишки бредили космическими полетами, взрослые гордились: мы – первые, а старики плакали: «Не зря мы столько терпели, жили так бедно!» Интеллигенты поговаривали: «Ради этого стоило жить в наше время». Это потом в среде образованных людей родилась печальная шутка: «Мы готовы были простить власти многое, чуть ли не лагеря простить, а уж подавно – голод, уравниловку… но как можно простить после всего этого поражение, понесенное от американцев? Они летали на Луну, а мы – нет!»
Но тогда советская космонавтика торжествовала. И население державы – от западных границ Белоруссии до Чукотки – с восторгом пело неофициальный гимн космонавтов: «У нас еще до старта четырнадцать минут». Отдельные слова этой песни застрянут в головах на десятилетия: «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман проверяет в последний раз маршрут…» Или: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы…»
По словам Бориса Натановича, повесть «Стажеры» они написали «единым духом и за один присест в мае – июне 1961-го». Им легко работалось – по десять-двенадцать страниц черновика в день без перерывов на протяжении месяца. Наверное, отчасти их подстегивало авторское честолюбие: по стране возят Юрия Гагарина, и народ упоенно славит его, их новая вещь должна лечь в «десятку».
Постаревшие герои штурма Венеры и спасения колонии на Амальтее – капитан Быков и штурман Крутиков – совершают инспекционный вояж по Солнечной системе. Они везут большого начальника – генерального инспектора МУКСа[5]5
Международного управления космических сообщений.
[Закрыть] и своего старого друга Юрковского. Другой их старый друг Дауге отставлен от полетов по здоровью и печалится, оставшись на Земле. Зато бортинженер Жилин – новичок во времена «падения в Юпитер» – теперь заматерел, сделался личностью самостоятельной, охочей до умных разговоров, споров и притч. Он приводит на корабль молоденького вакуум-сварщика Бородина, которому позарез надо на Рею. Понятно, Бородин с благодарностью принимает должность стажера.
Экипаж старенького «Тахмасиба» последовательно проходит через целый каскад приключений: помогает разгромить смертоносных марсианских пиявок; получает из первых рук сообщение об открытии на Марсе города, построенного внеземной цивилизацией; наводит порядок в «гнезде капитализма» – на Бамберге; гостит на астероиде Эйномия у физиков, экспериментирующих с гравитацией – «настоящих людей», находящихся в «процессе настоящей работы»; разоблачает директора обсерватории на Дионе – интригана и лицемера; наконец, доставляет Бородина к месту работы, но теряет Юрковского и Крутикова в кольцах Сатурна.
Над всем действием витает дух переходного времени. Одна эра – торжественная, страшная, величественная, требовавшая колоссальных жертв, – заканчивается. Наступает совсем иная – более чистая, более увлеченная, более рациональная и во многом более легкая. Шестеренки хроноса еще скрипят, но ускорение неизбежно, вскоре этот привычный уже скрип сменится ровным рокотом хорошо промасленного металла. Стругацкие очень надеялись на «оттепель», на советскую умную интеллигенцию, на космонавтику, они смотрели в будущее с энтузиазмом. Поэтому «Стажеры» – вещь оптимистическая. Она фиксирует стремительное приближение будущего – совсем другой жизни, иными словами, того самого Полдня XXII века…
По выражению генерального инспектора Юрковского, все действующие лица повести – «стажеры на службе у будущего». Когда гибнут Юрковский и Крутиков, смерть их выглядит как «триумфальная гибель» эпических героев древности. Тяжелое время, наполненное ампирным духом, умирает с ними. Жилин и Бородин, особенно последний, – отличная смена. Новые люди новой эпохи. Их высокие умственные и душевные качества внушают надежду.