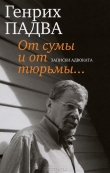Текст книги "Записки адвоката"
Автор книги: Дина Каминская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Первое заседание президиума, на котором стоял вопрос об исключении Золотухина, было сорвано. Подавляющее большинство членов президиума не явились по «болезни».
И вновь собирают партийную группу. Вновь представитель Московского комитета предупреждает членов партии, что каждому из них грозит исключение из партии, если он уклонится от голосования и не подчинится прямой директиве – исключить Золотухина.
Вторично заседание президиума было назначено на 13 июня.
13 июня я пришла к зданию президиума заранее, чтобы еще раз поговорить с каждым из членов президиума. Я помню, как подходили они с опущенной головой, как, разговаривая со мной, никто из них не смотрел мне в глаза. Единственное обещание, которое дали мне все, с кем удалось поговорить, – это поддержать мою просьбу и предоставить мне слово.
Заседания президиума всегда происходят открыто. Каждый адвокат имеет право на них присутствовать, каждый имеет право выступить в прениях. В тот день за длинным Т-образным столом, покрытым зеленым сукном, сидел президиум в полном составе. Не было только Любови Владимировны Соколовой. Апраксин сообщил, что она больна, что у нее тяжелый сердечный приступ. В зале, на местах публики, всего несколько человек. Заседание президиума было специально назначено в дневное время, когда все адвокаты заняты в судах. Помню только двух-трех адвокатов – друзей Бориса и несколько человек из той консультации, которой он заведовал.
За столом президиума незнакомые мне люди – представители Московского комитета коммунистической партии.
Апраксин объявил заседание президиума открытым и сразу обратился к сидящим в зале:
– Товарищи, прошу всех покинуть зал. Наше заседание будет закрытым.
Кто-то встал, чтобы выйти в коридор, но я прошу Апраксина объяснить, чем вызвана столь необычная форма обсуждения дисциплинарного дела Золотухина.
Наверное, Апраксин рассчитывал на то, что все подчинятся его требованию, что никому не придет в голову с ним спорить. Во всяком случае, к ответу он абсолютно не был готов и сказал первое, что пришло на ум:
– Мы обсуждаем позицию защиты по делу, которое слушалось при закрытых дверях.
Думаю, что более неудачно ответить было трудно.
– Вы ошибаетесь, – сказала я. – Дело слушалось при открытых дверях и, как писали об этом наши газеты, в обстановке полной гласности. Кроме того, я участница этого процесса. Если бы в этом деле даже и были секреты, то от меня их скрывать нечего. В отличие от всех членов президиума я с этим делом знакомилась.
Но Апраксин перебивает.
– Я прошу вас немедленно удалиться, – уже кричит он. – Может быть, милицию для вас вызвать?
И я делаю последнюю попытку. Я обращаюсь к членам президиума, я называю их по именам и прошу только об одном: дать мне – участнице процесса – рассказать о речи Золотухина, которую они не слышали.
Ни один из них – из тех, кто несколько минут назад обещал поддержку, – не произнес ни слова, ни один не поднял головы, не посмотрел на меня. И только Борис Золотухин, повернувшись, сказал:
– Пожалуйста, уйди. Ты же видишь, что здесь происходит.
И я ушла. Я не знаю, сколько прошло времени, пока мы стояли в коридоре около дверей в этот зал. Я даже не помню, разговаривали ли мы о чем-нибудь. Наверное, заседание длилось довольно долго. Было предложено выступить каждому. Никому не было дано права уклониться.
Потом эти же самые люди наперебой рассказывали мне о том, что происходило за закрытыми дверями. Каждый хотел сказать, что он выступал более сдержанно, чем другие. Я знаю, что был один член президиума, который возражал против исключения Бориса. Владимир Петров мотивировал это тем, что, поскольку Золотухину предъявлены политические обвинения, решение вопроса о его пребывании в коллегии сейчас преждевременно. Еще не исчерпаны все возможности пересмотра его дела в вышестоящих партийных инстанциях. Когда на голосовании было поставлено предложение об исключении Золотухина, Петров воздержался. Он остался членом партии, и никаких неприятностей у него не было.
Все, кто рассказывал о выступлениях, единогласно называли имя того, кто наиболее решительно и гневно осуждал Бориса, чьи обвинения шли дальше, чем обвинительная формулировка решения бюро Дзержинского райкома партии. Этим человеком был беспартийный адвокат Иван Иванович Паркинсон. Именно тогда я узнала, что он представлен к почетному званию «Заслуженный юрист республики» и что на следующий день должен был быть опубликован указ Президиума Верховного Совета об этом. Возможно, Паркинсон боялся, что, если он не поддержит предложение МК, его лишат этого официального почета, и предпочел навсегда потерять доброе имя и репутацию порядочного человека.
Я до сих пор не могу до конца понять, почему с Борисом расправились так последовательно и неумолимо. Объяснять это тем, что он ставил в суде вопрос об оправдании Гинзбурга, как это объясняли многие на Западе, я не могу. Я знаю, что до него и после него адвокаты занимали такую же позицию в сложных политических делах, и это не влекло за собой осложнений для них. Думаю, что определенную роль сыграло то, что резонанс этого дела был несравненно более значительным, чем по предыдущим делам, по которым адвокаты ставили вопрос об оправдании своих подзащитных, – по делам Хаустова и Буковского.
Причем если до судебного процесса общественность была озабочена судьбой всех подсудимых, то после процесса главное внимание уделялось именно судьбе Александра Гинзбурга. Получилось это потому, что о судьбе Веры Лашковой заботиться уже не было надобности – она уже была на свободе. О Добровольском заботиться не хотели, так как знали о его предательской роли. Значительно меньше, чем до судебного процесса, стало людей, подписавших письма в защиту Юрия Галанскова. Возникли сомнения по поводу того, не был ли он действительно связан с НТС. А выступать открыто за человека, который связан с такой организацией, некоторые не только боялись, но и не хотели.
В письмах протестов, которые писались тогда в защиту Гинзбурга, обычно ссылались на речь адвоката Золотухина, «бесспорно доказавшего его полную невиновность». Имя Бориса Золотухина ассоциировалось у партийных и советских чиновников с этой волной возмущения. Статья в «Нувель обсерватер» оказалась последним и решающим толчком.
Я думаю, что настойчивое желание получить «отречение» Золотухина, причем отречение публичное, через печать, объяснялось необходимостью отвечать общественному мнению Запада. И ответить не словами советского журналиста, а ответить словами человека, нравственный авторитет которого был очень высок.
И вторая очень важная причина. В своей защитительной речи Золотухин завуалированно, но произнес слова личного одобрения тому, что сделал Гинзбург:
Я не знаю, какое поведение покажется суду предпочтительнее. Но я думаю, что поведение неравнодушного более гражданственно.
Золотухину ставили в вину, что он не только не отмежевался, не только не осудил «преступные действия» Гинзбурга, но и в определенной мере солидаризировался с ним.
13 июня решением президиума Московской городской коллегии адвокатов Борис Золотухин был исключен из коллегии.
А что сделали мы, когда бледный, но абсолютно спокойный Борис первым вышел в коридор и сказал:
– Я уже больше не адвокат.
Мы пошли к нему домой, чтобы выпить за его здоровье.
Ведь этот день – 13 июня – день его рождения.
Глава шестая. Как это случилось
В ночь на 16 ноября 1977 года мне приснился странный сон. Мне снилось, что я проснулась, но еще лежу в постели. Перед моими глазами застекленная двустворчатая дверь, которая ведет в другую комнату. Там, на диване, положив руки на небольшой овальный стол, сидит совершенно незнакомый мне мужчина. На нем темное пальто, на голове меховая шапка.
«Наверное, это мне снится», – подумала я и закрыла глаза.
А когда я их открыла вновь, передо мной была та же застекленная дверь, за ней овальный стол и диван. На диване сидели двое. Оба в темных пальто и меховых шапках. Они сидели молча и внимательно смотрели на меня.
«Значит, не снится, – подумала я. – Надо спросить, кто они». И уже слышу свой голос:
– Раз вы пришли ко мне в дом, то скажите хотя бы, кто вы?
И ответ:
– Мы пришли по государственному делу.
Я проснулась. Было раннее утро. Я лежала в комнате, где прямо перед моей кроватью была большая застекленная двустворчатая дверь, отделявшая спальню от гостиной. Я встала и раздвинула занавеску, которой всегда на ночь затягивала стекло, и посмотрела в гостиную. Там было темно и пусто. Небольшой овальный стол, который всегда стоял перед диваном, был отодвинут к стене. На его месте – длинный стол с неубранной еще со вчерашнего дня посудой.
Эту ночь мы провели на даче, которую вместе с нашими друзьями Юлием Даниэлем и его женой Ириной снимали на весь сезон с осени и до весны. Накануне – 15 ноября – был день рождения Юлия, и мы приехали на дачу, чтобы его поздравить. Еще за завтраком я рассказала мужу этот странный сон, который не уходил из памяти, а потом преследовал меня всю дорогу до Москвы, не теряя четкости и полного ощущения реальности, обычно исчезающей после пробуждения.
В Москве мы с мужем расстались. Я поехала домой, он – на работу. Необычно четко запомнилась каждая мелочь короткого пути от троллейбусной остановки до дома. Помню, как шла по своей улице не как всегда, а по противоположной от дома – левой – стороне и удивлялась, что изменила годами выработанной привычке переходить дорогу всегда в одном и том же месте. Помню, что внимательно смотрела на окна своей квартиры, как будто надеялась там что-то увидеть. Окна были темными, такими, какими им положено быть в пустой квартире. В подъезде было пусто и тихо. Я поднялась на лифте на пятый этаж, открыла дверь, чтобы выйти на лестничную площадку, и сразу:
– Здравствуйте, Дина Исааковна. А мы вас уже давно ждем.
Перед дверью стояли двое мужчин. Один помоложе, другой – средних лет. Оба в темных пальто и в меховых шапках.
Мне не нужно было спрашивать, кто они и зачем пришли. Я думала только о том, что там, в квартире, куда я должна буду войти вместе с ними, на письменном столе мужа и рядом на радиоприемнике лежит аккуратно сложенная, отпечатанная и отредактированная рукопись книги, над которой он работал более года и которую у нас должны были на следующий день забрать, чтобы отправить в Америку для публикации под псевдонимом[5]5
Эта книга – «СССР – страна коррупции» – была опубликована в 1982 году на Западе в нескольких странах.
[Закрыть].
А тем временем я уже окружена плотным кольцом сразу спустившихся сверху мужчин. Уже держу в руках небольшой лист бумаги с хорошо знакомым мне словом «Ордер». Это ордер на обыск для изъятия литературы клеветнического и антисоветского содержания.
Ордер датирован 15 ноября и утвержден заместителем прокурора Москвы Юрием Стасенковым.
– Юрочка подписал, – механически произнесла я, назвав Стасенкова тем именем, каким по праву старшей называла его много лет назад. Тогда он только окончил юридический факультет и пришел работать в прокуратуру того же Ленинградского района, в юридической консультации которого я работала.
Мы долго стояли на лестничной площадке, так как я отказалась впустить их в квартиру, пока не придет мой муж. Мне нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Но, главное, мне нужно было увидеть мужа. Узнать, что с ним, что он будет говорить следователям о своей рукописи, антисоветское содержание которой (с точки зрения советского закона) для меня было очевидным.
А потом привезли мужа. Он вышел из лифта в сопровождении двоих мужчин. Лицо одного из них было мне знакомо.
– Что вы, Дина Исааковна, – сказал он в ответ на мои слова, что встречались с ним раньше. – Я вас вижу впервые.
Но я точно знала, что это неправда. Как-то, гуляя на даче с женой Юлия Ириной, мы встретили его и я сказала:
– По-моему, это наблюдение.
А она ответила:
– Господи, до чего мы все пугливые. Гуляет себе человек, дышит свежим воздухом, а мы сразу же – наблюдение. Это я не только тебе говорю. Я и себя уговариваю. Мне этот человек тоже не нравится.
Муж был спокоен, только бледнее обычного. Когда вошли в квартиру, он успел шепнуть мне одно слово:
– Прости.
«Прости» потому, что, когда уезжали на дачу, я просила его спрятать рукопись, не оставлять ее так, на самом видном месте. Он не сделал этого. Считал, что никто без нас в квартиру не придет, что остался всего один день до отправки рукописи и что беспокоиться нечего.
Обыск длился 6 или 7 часов. Уже сняты и сложены на пол книги «клеветнического и антисоветского» содержания: Солженицына «Архипелаг ГУЛаг», Пастернака «Доктор Живаго», Синявского «В тени Гоголя», много художественной литературы и стихов, отобранных только по одному признаку – изданы за границей (Набоков, Ахматова, Мандельштам). Всего сейчас не помню.
На столе груда взятых из альбомов фотографий. Оставили только наши и детские фотографии сына, фотографии наших покойных родителей.
Все остальное, вместе с подаренным мне на день рождения фотоаппаратом, забрали. Отдельно, уже связанная и опечатанная сургучной печатью, лежит рукопись книги мужа.
Вечером, когда обыск кончился, мне и мужу предложили одеться и следовать за ними.
– Это арест? – спросил муж. – Я должен знать, как одеться.
– Можете одеваться как всегда, – уклончиво ответил следователь.
Мы вышли на улицу. Впереди муж с сопровождающим, сзади, с небольшим интервалом – я. Тоже, конечно, с сопровождающим.
У подъезда несколько машин. Когда мужа сажали в первую из них, он успел мне крикнуть:
– Меня везут на дачу.
И вот я, плотно зажатая между двумя следователями, сижу на заднем сиденье машины. Мы едем.
Какое облегчение, когда я увидела, что наша машина свернула на знакомое шоссе, – значит, едем на дачу. Значит, опять какое– то время мы еще вместе.
Когда приехали, первая мысль – о Даниэлях: успели ли они уехать домой? Невозможно было даже подумать, что ему, уже отсидевшему 5 лет в лагерях строгого режима, пришлось бы вновь испытывать обыски, допросы. Но на даче никого нет. Значит, уехали. И сразу невероятное чувство облегчения. Только ночью узнали, что Юлия и Ирину задержали днем по дороге с дачи в Москву и весь день до позднего вечера продержали в прокуратуре Москвы в тщетной надежде получить показания против нас. А потом, так ничего и не добившись, отпустили.
Обыск на даче прошел очень быстро. Взяли только одну книгу русского философа Бердяева – тоже только потому, что издана за границей. Из того, что происходило на даче, запомнился лишь один эпизод.
Мы с мужем довольно безучастно наблюдали за процедурой обыска, зная, что на даче ничего нет. Вдруг лицо следователя буквально на глазах преобразилось. Исчезло выражение скуки, в глазах появился блеск.
– Что это такое? – спросил он нас, протягивая небольшой бумажный блокнот, на первом листе которого печатными буквами было написано:
Зайцы, лисицы, волки. Тайник на участке. Надо лить горячее молоко.
– Что это такое? – уже почти кричал следователь. – Почему вы смеетесь? Это что у вас – нервный смех, что ли? Что здесь смешного? Где тайник?
Но мы ничего не могли ему сказать. Не знали ни о зайцах, ни о волках, ни о тайниках. Блокнот изъяли для выяснения. Оказалось, что, когда хозяйка нашей дачи была маленькой девочкой, она со своими товарищами играла в какую-то ими самими выдуманную детективную игру. Запись в блокноте сохранилась с тех пор. Только получив от нее объяснения, следователь перестал допытываться у меня, где тайник и почему нужно лить горячее молоко.
История с блокнотом была единственным развлечением в эти тяжелые часы, когда ни на одну минуту не оставляла мысль: «Что будет с мужем?»
За себя я не боялась. Я понимала, что пришли они к нам за рукописью, что все остальное – это лишь дополнение к будущему обвинению мужа.
И вновь путь в машине, уже обратно в Москву, когда не знала, куда везут, и, главное, не знала, куда уехала машина, в которую посадили мужа.
Меня привезли в прокуратуру Москвы. Знакомый вход в приемную. Привычная фигура милиционера, дежурящего у входа. Годами я входила в эту дверь, небрежно, на ходу кивая головой в знак приветствия очередному милиционеру, и, почти не замечая его, проходила в нужный кабинет. Сейчас все, что вижу, отпечатывается в памяти. Пустая приемная без единого посетителя – в прокуратуре давно уже кончился рабочий день. Удивленно-узнающий взгляд милиционера. Потом большой, с двумя письменными столами, кабинет, куда меня заводит следователь. И тишина. Тишина, нарушаемая лишь еле слышным из-за стены прекрасным покашливанием. Какое счастье, что я слышу этот кашель – характерный кашель мужа, который не спутаю ни с одним другим. Значит, он здесь. И я могу уже совершенно спокойно повторять следователю:
– Вы совершенно напрасно задаете мне эти вопросы. Я все равно отвечать не буду. Вообще сегодня ни на какие вопросы отвечать не собираюсь. Сейчас уже 10 часов вечера. Вы пришли к нам с обыском около 10 часов утра. Я голодна и устала.
А потом наступило самое трудное, когда на какое-то время я потеряла самообладание.
Я была в кабинете одна. Следователь, который допрашивал меня, ушел согласовывать со старшим по чину, как поступить со мной, поскольку я не желала отвечать ни на один из заданных мне вопросов. Я сидела и прислушивалась к тишине, ловя каждый шорох, пытаясь хоть как-то услышать голос мужа. Но голоса я не слышала. Перестала слышать и успокаивающее меня покашливание. А потом четко, гулко раздался шум шагов многих людей, громкое хлопанье дверями и опять полная тишина.
– Увели мужа!
Я кинулась к двери, чтобы выскочить в коридор – может, успею увидеть его, хоть что-то сказать ему на прощание. Дверь кабинета была закрыта. Я стучала в дверь и требовала у подошедшего милиционера немедленно выпустить меня, хотя понимала тщетность этих просьб. Не знаю, сколько прошло времени, наверное, считаные минуты. Наконец дверь открылась.
– Где мой муж? Вы обязаны мне сказать, где мой муж? – повторяла я.
Мы со следователем стояли на пороге кабинета, дверь которого еще оставалась открытой. В холле никого не было – даже милиционер куда-то ушел. Внезапно следователь повернулся, не говоря ни слова отошел от меня и быстро открыл дверь соседнего кабинета. Муж сидел перед дверью.
– Все хорошо, – взглядом сказала я ему.
– Все хорошо, – также молча ответил он мне.
И дверь кабинета захлопнулась. А потом этот следователь сказал мне фразу, за которую я ему и сейчас благодарна:
– Не волнуйтесь, никто не собирается вас разлучать.
Через несколько минут мы с мужем уже ехали домой. Когда вошли в квартиру, первое, что всплыло в памяти, был мой сон, о котором совсем забыла за всеми событиями. А тут он нахлынул реалиями, четкостью виденных мною лиц и ставшими вещими словами:
– Мы пришли к вам по государственному делу.
Весь год, который отделял обыск от дня, когда мы вынуждены были уехать из Советского Союза, мы жили какой-то странной двойной жизнью. Одна, внешняя, – я, как всегда, ходила на работу, принимала клиентов, выступала в судах; вторая – вызовы к следователю на допросы, у мужа чаще, у меня реже. Поймет ли тот, кто не пережил этого сам, что чувствовала я, когда утром, перед очередным допросом мужа, раскладывала по карманам его пиджака запасной носовой платок, мыло, зубную щетку? Что чувствовала, когда проходил час, два, потом три, а я все ждала обещанного телефонного звонка:
– Не волнуйся, я еду домой.
Мои друзья старались, чтобы в такие дни я не оставалась одна. Бог знает, как устраивали свои дела мои работающие подруги, но всегда в такой день кто-нибудь приезжал ко мне и мы вместе, почти не разговаривая, проводили долгие часы. Каждый раз кто-нибудь из друзей вслед за мужем ехал к зданию прокуратуры и ждал в близлежащем подъезде, когда он выйдет один или когда его увезут.
Однажды случилось так, что мужа вызвали на допрос не в здание прокуратуры Москвы, а в помещение районной прокуратуры, которая расположена вблизи, но на другой улице. Вслед за мужем приехала наша приятельница, преданность которой я сумела оценить в эти тяжелые для нас месяцы. Она ждала мужа на первом этаже здания, где проходил допрос. Внезапно она услышала громкий голос мужа:
– Вы что, поведете меня в городскую прокуратуру?
А затем увидела и его самого в сопровождении следователя.
Когда она выбежала вслед за ними, их уже не было видно. Она рассказывала потом, как бежала всю дорогу потому, что вначале сбилась с правильного пути; как, подбегая к городской прокуратуре, увидела уже отъезжавшую машину «черный ворон». Тогда она позвонила мне.
– Дина. – Сказала она и замолкла.
– Как это было? – спросила я.
– Я видела, как его повел следователь. Потом потеряла их из виду. А потом от прокуратуры отъехала машина. Понимаешь, специальная машина.
– Понимаю, – ответила я.
Раз за разом набирала я телефон следователя – все время было занято. А потом раздался телефонный звонок. Муж звонил уже из метро.
Вся история с его «арестом» была чистой инсценировкой, сознательно разыгранным жестоким спектаклем.
Преданность и трогательное внимание друзей не были для нас неожиданностью. Мы знали их достаточно хорошо, чтобы не сомневаться в них. Что было действительно приятной неожиданностью, так это реакция людей более далеких, кого называли просто «знакомыми». Мы никогда не ожидали, что найдем и в этом кругу такую безотказную готовность помочь во всем. Мне ни разу ни у кого не пришлось просить помощи – предлагали сами. Я понимала, что это не только проявление доброго отношения к нам, но и бесспорное свидетельство изменения общественного климата в стране. Были, конечно, и такие, кто боялся встречаться с нами, опасаясь, что это может повредить им или их близким. Но таких было немного. И знаю, что и эти немногие стыдились того, что отдалились от нас, и страдали из-за этого.
Весь год мы жили с мужем так, как решили в первый же день после обыска, то есть ни в чем не меняя сложившийся распорядок и стиль нашей жизни. Так же уезжали по пятницам на дачу, по-прежнему ходили в концерты, на выставки и, конечно, много работали. Но когда оставались одни и не в московской квартире, а в лесу или на улицах, разговор неминуемо возвращался к тому дню, 16 ноября. Как это могло случиться? Почему они пришли к нам?
О книге мужа мы никогда не говорили дома, в московской квартире. Все обсуждения происходили на улицах или на даче, где мы чувствовали себя в безопасности от подслушивания. Даже когда узнали, что на даче тоже установлено подслушивающее устройство, а потом и наружное наблюдение за нами, все равно оставался этот же вопрос:
– Почему?
Мы искали причину такого пристального и дорогостоящего внимания к себе, к людям, которые до тех пор, пока муж не начал работать над своей книгой, жили вполне открытой легальной жизнью.
Перебирали в памяти все, случавшееся за последние годы, чтобы определить – когда же это началось?
От совсем недавних событий память уводила нас все дальше и дальше.
Пожалуй, первое открытое, даже официальное предупреждение, свидетельствовавшее, что власти расценивают мою профессиональную деятельность как политически вредную, было связано с защитой Ильи Габая и Мустафы Джемилева. Судебный процесс над ними происходил в Ташкенте в 1970 году. Еще задолго до начала процесса, когда в сентябре-октябре 1969 года знакомилась с двадцатью томами следственных материалов, я поняла, что мне предстоит самая сложная для политических процессов линия защиты, когда нет спора по доказанности фактов, а правовой спор перерастает в политический.
Джемилев и Габай обвинялись в изготовлении и распространении целого ряда «клеветнических» документов: информаций, открытых писем и обращений. Оба они не отрицали, что являются соавторами почти всех этих документов, но утверждали, что приведенные в них факты соответствуют действительности, а потому виновными себя не признавали.
У меня нет возможности в пределах одной этой главы даже кратко передать содержание тех тридцати пяти документов, которые следствие считало криминальными. Думаю, достаточно сказать, что, проанализировав каждый из них, я пришла к выводу, что эти документы резко критические, но в них не содержится «ложных измышлений, порочащих советский строй».
8 октября 1969 года я подала следователю по особо важным делам при прокуратуре Узбекской Республики Березовскому (он возглавлял следствие по этому делу) ходатайство о прекращении дела «за отсутствием в действиях Мустафы Джемилева и Ильи Габая состава преступления». В ходатайстве мне было отказано.
12 января 1970 года дело начало слушаться в Ташкентском городском суде.
А сейчас придется сделать небольшое отступление для исторической справки, без которой невозможно понять, за что судили и за что осудили Джемилева и Габая.
Во время Второй мировой войны Крымский полуостров был оккупирован немецкими войсками. К этому времени большая часть взрослого мужского населения крымских татар сражалась в рядах советской армии, в Крыму оставались преимущественно женщины, дети, старики и инвалиды. Советские войска освободили Крым лишь в апреле 1944 года. В мае того же года Государственный комитет обороны СССР издал секретное постановление, в котором весь крымскотатарский народ огульно был обвинен в сотрудничестве с оккупантами. В наказание за это было предписано поголовное его выселение с исконных земель.
В ночь на 18 мая 1944 года поселения крымских татар были окружены частями советской армии. В течение одной ночи все татарское население Крыма было посажено в товарные эшелоны и вывезено в специальные места поселения, из которых им запрещено было отлучаться под страхом уголовной ответственности. О тех условиях, в которых проходила депортация, и о тех условиях, в которых вынуждены были жить «спецпоселенцы», свидетельствует страшная цифра. За первые полтора года изгнания только в одном Узбекистане (главном месте «спецпоселений» крымских татар) от голода и болезней погибло 46,2 % из общего количества депортированных[6]6
Ташкентский процесс: Сборник документов. Амстердам, 1976.
[Закрыть].
В Крыму были закрыты татарские школы, театры, газеты, библиотеки, уничтожены книги, изданные на татарском языке.
После смерти Сталина XX съезд КПСС признал незаконность этой акции, жестокость и несправедливость которой была очевидна.
В 1956 году указом Президиума Верховного Совета СССР с крымских татар был снят гласный милицейский надзор, но этим же указом им было запрещено возвращение в Крым.
С этого времени началось то, что не побоюсь назвать всенародным (для крымских татар) движением за возвращение на родину. В первые годы это движение было обособлено от общего правозащитного движения в Советском Союзе. Методом борьбы крымских татар были массовые петиции, направленные руководителям советского государства и коммунистической партии. Каждая такая петиция начиналась с заверения в преданности советской власти и коммунистической партии, ленинским принципам национальной политики.
Судебные процессы, которые начались в 60-е годы над наиболее активными участниками этой борьбы, были единственной реакцией советских властей на справедливые требования этого трудолюбивого и многострадального народа. Постепенно логика мирной борьбы привела крымских татар к осознанию необходимости контактов с участниками общего демократического движения за права человека. Так они обрели среди других народов Советского Союза сначала сочувствующих, а затем и активных помощников и преданных друзей. Имя первого такого помощника и преданного друга – писателя Алексея Костерина, верю, будет передаваться среди крымских татар от поколения к поколению. После смерти Костерина в 1968 году завещанную ему эстафету принял генерал Петр Григорьевич Григоренко, включившийся в защиту крымских татар еще при жизни Костерина.
В мае 1969 года Петр Григоренко по доверенности крымских татар (ее подписали около двух тысяч человек) должен был выступить общественным защитником на процессе над десятью активистами крымско-татарского движения. Однако за 20 дней до начала процесса его провокационно вызвали в Ташкент и арестовали. Вскоре по одному с ним делу были арестованы Илья Габай и Мустафа Джемилев. Всех их привлекли к уголовной ответственности по обвинению в изготовлении и распространении документов, в которых содержалась информация о положении крымских татар и о той борьбе, которая велась за их возвращение в Крым.
Перед окончанием следствия, по постановлению следователя Березовского, Григоренко был подвергнут судебно-психиатрической экспертизе. Комиссия, в состав которой были включены самые авторитетные психиатры Узбекистана, пришла к единодушному заключению, что он абсолютно здоров. Такое заключение шло вразрез с планами КГБ, который не мог решиться на открытый суд над старым заслуженным генералом.
Была назначена новая экспертиза, порученная уже Институту имени Сербского. Исполняя волю КГБ, эта экспертиза признала Григоренко душевнобольным. Дело в отношении его было выделено, а сам Григоренко на долгие годы был помещен в специальную психиатрическую больницу.
Дело Габая и Джемилева было в моей практике не первым делом защиты крымских татар. Каждый раз, приезжая в Ташкент, я встречалась с родственниками моих подзащитных, активистами движения и просто сочувствующими. Хотя надо сказать, что слово «сочувствующие» я употребила неправильно. Сочувствующие – это лишь менее активные участники. Старые и молодые, мужчины и женщины, и даже дети – все жили мыслью о возвращении на родину. Эти люди своим трудолюбием добились в Узбекистане благосостояния. Они готовы были бросить все. Отдать безвозмездно дома, фруктовые сады и виноградники, только чтобы получить право вернуться на свою родину.
Они старались дать своим детям разностороннее образование, чтобы там, в Крыму, после возвращения были татары-врачи, татары-учителя, татары-инженеры. Помню, как-то я говорила с мальчиком. Ему было не больше десяти лет. Он родился в Узбекистане, учился в русской школе. Но родным языком для него оставался татарский, родной историей – история крымско-татарского народа. Когда я спросила его, кем он хочет быть, когда станет взрослым, он ответил:
– Наверное, я буду учителем в татарской школе. Ведь когда я вырасту, мы уже будем жить дома.
Крым и дом были для всех них синонимами.
Один из моих приездов в Ташкент совпал с большим торжеством. В эти дни вернулись трое ранее осужденных активистов крымско-татарского движения. Я была приглашена на праздник в их честь. Мы сидели в саду за длинными столами, и я слушала удивительный рассказ. В день освобождения к воротам лагеря, из которого должны были выйти эти трое, подъехал автобус с встречающими. Вся дорога от ворот до автобуса была усыпана цветами. Когда открыли ворота и освобожденные вышли, их встретили музыкой – национальной музыкой национального самодеятельного оркестра. А потом, уже в пути до самого Ташкента каждое татарское село встречало их цветами и накрытыми прямо у дороги столами. В каждом селе встреча превращалась в стихийный митинг солидарности и верности движению.