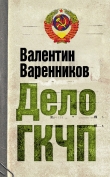Текст книги "Записки адвоката"
Автор книги: Дина Каминская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Если бы Добровольский, не выдержав угрозы нового и очень длительного лишения свободы, избрал покаяние, как единственно возможный метод защиты, если бы он осудил свои собственные взгляды как антисоветские и потому преступные, я не считала бы его героем, но и не считала бы линию его поведения предательской. Но Добровольский защищался, губя и безжалостно предавая своих товарищей. Галанскова, которого считал другом, и Гинзбурга, с которым почти не был знаком, о взглядах и поступках которого почти ничего не знал. Если показания Добровольского в отношении Галанскова в какой-то мере можно объяснить тем, что их связывала общность деятельности по некоторым из эпизодов обвинения, что, рассказывая о себе, ему трудно было умолчать о Юрии, то его показания в отношении Гинзбурга этим объяснить нельзя.
А между тем обвинение Гинзбурга в связи с НТС были целиком построены только на предположениях Добровольского.
– Я слышал, что у Гинзбурга была давно связь с заграницей.
– Мне говорили, что иностранцы приезжали к Гинзбургу.
– Я догадывался, что Гинзбург планировал передать «Белую книгу» на Запад.
Или такой эпизод из допросов Добровольского в суде:
Прокурор: Приезд Генриха ожидали, чтобы передать сборник («Белую книгу») за границу?
Добровольский: Да.
Прокурор: Они (Гинзбург и Галансков) передавали ее тайно?
Добровольский: Да.
Прокурор: Значит, это делалось тайно, так как в книге были антисоветские документы?
Добровольский: Да. Там были антисоветские документы.
Прокурор: И они опасались ответственности?
Добровольский: Да.
Прокурор: И таким образом раскрывалась их связь с НТС?
Добровольский: Да.
Здесь особенно интересен сам характер вопросов, то, как их ставил прокурор. Он формулировал не столько даже вопрос, сколько уже готовый на него ответ. Добровольскому не было нужды сообщать суду факты – ему было достаточно соглашаться с прокурором. Такие вопросы имеют специальное название – «наводящие». Задавать наводящие вопросы законом запрещено. Это было, несомненно, известно нашему обвинителю – старшему помощнику генерального прокурора СССР Терехову. Знал об этом запрещении и председательствующий Миронов, который ни разу не прервал прокурора, не сделал ему замечания.
Я думаю, что этот метод допроса был избран потому, что и Терехов и Миронов знали, что Добровольский абсолютно не осведомлен обо всем, что относится к обвинению против Гинзбурга; что он не сможет самостоятельно, без подсказки, дать необходимые показания. Но они правильно оценили его готовность оказывать обвинению любую помощь. Не сомневались они и в том, что он охотно скажет это «да» и подтвердит все, что нужно.
Если бы задача, которую я ставила перед собой, ограничивалась только тем, чтобы подорвать доверие к Добровольскому, показать суду, что он неоднократно менял свои показания, она была бы сравнительно легко выполнима, как выполнима была аналогичная задача, стоявшая перед адвокатом Золотухиным (с которой он блестяще справился). Ему достаточно было добиться от Добровольского показаний, что он не видел ни одной встречи Гинзбурга с представителями НТС, никогда не слышал от самого Гинзбурга о таких встречах. Установить, что Добровольский не может назвать имен иностранцев, с которыми Гинзбург якобы встречался, места этих встреч и времени, когда они происходили. И тогда несерьезность показаний Добровольского о Гинзбурге становилась наглядно очевидной.
У меня – защитника Галанскова – положение было иное.
Показания Добровольского о Юрии носили вполне конкретный характер. Он называл имена людей, с которыми Галансков встречался. Называл место и время этих встреч. Более того, Галансков сам не отрицал целый ряд фактов, которые стали известны следствию из показаний Добровольского, но давал им иное, отличное от Добровольского объяснение. Ставя себя на место судьи, я говорила себе:
– Показания Добровольского о Галанскове могут быть ложью, вызванной желанием отвести удар от себя. Сказать, что все, найденное у него, принадлежало не ему, а Галанскову; что не он, а Юрий был связан с НТС. Но эти показания могут быть и правдой. Они оба встречались с одними и теми же иностранцами. У них обоих видели доллары (но Галансков говорил, что эти доллары – Добровольского, а Добровольский – что Галанскова). Добровольский говорил, что Галансков передал через эмиссара НТС за границу свой журнал «Феникс-66» – Галансков отрицал это. Но материалы из «Феникса» были опубликованы в журнале НТС «Грани», так что показания Добровольского в определенной мере подтверждались.
Самый объективный судья в условиях полной независимости оказался бы перед сложным выбором между этими взаимоисключающими версиями двух подсудимых, одинаково заинтересованных в исходе дела. И я не уверена, что и в таких – идеальных для правосудия – условиях спор решился бы в пользу Галанскова.
Чего я добьюсь, если продемонстрирую суду, что Добровольский вначале скрывал свое участие в передаче через Радзиевского литературных материалов для размножения, а потом, признав это, утверждал, что выполнял поручение Галанскова? Мой внутренний оппонент резонно возражал:
– Такое поведение обвиняемого встречается часто. Оно свидетельствует лишь о том, что Добровольский пытался уйти от ответственности и скрыть свое участие в этом эпизоде. Но это вовсе не означает, что, признав свою вину, он дает ложные показания о роли Галанскова.
И опять тот же внутренний, но необходимый оппонент добавлял:
– Не забудь, что в этих последних показаниях Добровольского есть логика и здравый смысл. Ведь материалы, которые Добровольский передал для размножения, Галансков включил в «Феникс». Как редактор и составитель, он был заинтересован в максимально возможном распространении своего журнала. А зачем это нужно было Добровольскому?
Я понимала, что пока не найду разумного ответа на этот вопрос, пока не покажу суду, что у Добровольского был собственный, независимый от Галанскова интерес размножить эти материалы, его показаниям практически противопоставить нечего. У меня было очень мало шансов, что допрос Добровольского даст какие-то новые сведения. И все же ставлю ему ряд вопросов, пытаясь нащупать то направление, которое впоследствии позволит утверждать: Добровольский был лично заинтересован во встречах с иностранцами и в размножении литературных материалов.
Я: Кто был первый иностранец, с которым вы встречались?
Добровольский: Французский журналист по имени Габриэль.
Я: Когда произошла эта встреча?
Добровольский: В августе 1966 года.
Я: О чем вы беседовали?
Добровольский: О литературе.
Я: Может быть, точнее о какой-нибудь литературной группе?
Добровольский: Да, это верно. Мы говорили о смогистах.
Я: Обращались ли вы к этому иностранцу с какими-либо просьбами?
Добровольский: Да, обращался. Но сейчас я не помню точно. Я его о чем-то просил.
И после молчания добавляет:
Я передал через него какую-то свою статью; хотел, чтобы ее напечатали.
Я: Приходилось ли вам говорить об этой статье с каким-нибудь другим иностранцем?
Добровольский: Да. С Генрихом. Он мне сказал, что она опубликована.
Я: Что еще он говорил вам об этой статье? Может быть, высказывал свое мнение о ней?
Добровольский: Да. Он поощрил меня морально.
Я: Это все, что он сказал вам о статье?
Добровольский: Нет. Он сказал, что я получу гонорар за статью.
Я: Имел ли Галансков какое-либо отношение к этой вашей статье и передал ли ее за границу?
Добровольский: Нет. С Габриэлем я встречался один.
Я: Были ли у вас другие случаи.
На этом мой допрос был прерван резким замечанием судьи:
– Ближе к делу, товарищ адвокат.
Я пытаюсь продолжать допрос. Ставлю новый вопрос.
Я: Разговор с Генрихом о вашей статье был при первой вашей встрече или позже?
Добровольский: О статье говорил с Генрихом уже при второй с ним встрече.
Я: Кто еще присутствовал при этой встрече?
Добровольский: Никто, мы были вдвоем.
И опять судья:
– Товарищ адвокат, я запрещаю вам ставить такие вопросы. Добровольскому не предъявлено обвинение в передаче материалов за границу. Не возражайте, товарищ адвокат, я и впредь буду снимать такие вопросы.
Действительно, такое обвинение Добровольскому не предъявлено, но по закону судья вправе снимать только вопросы, не имеющие отношения к делу.
Встреча с иностранцем по имени Генрих была самостоятельным эпизодом в обвинении Галанскова и Добровольского, и у меня было бесспорное право выяснять все обстоятельства, сопутствовавшие встрече. Оставалось только возражать против действий председательствующего, а затем подчиниться его распоряжению.
Судья Миронов снял мои вопросы потому, что почувствовал их направленность, почувствовал, что они угрожают стройной конструкции обвинения, по которой Добровольский выступал лишь как помощник, втянутый Галансковым в преступление. Всякое упоминание о том, что Добровольский был заинтересован во встречах с иностранцами, всякое упоминание о самостоятельных денежных взаимоотношениях Добровольского с Генрихом, который считался представителем НТС, подрывали убедительность этой конструкции.
Для того чтобы было ясно, что Миронов снял мой вопрос не потому, что он был поставлен неправильно, приведу еще один небольшой отрывок из судебного допроса.
Допрашивался свидетель Епифанов.
Прокурор: Что вы знаете о встречах Галанскова со шведом?
Галансков: Я протестую против этого вопроса.
Судья: Подсудимый Галансков, я не разрешаю вам вмешиваться в допрос.
Я: Товарищ председательствующий, я прошу снять вопрос прокурора.
О встрече Галанскова со шведом нет ни слова в обвинительном заключении, этот вопрос выходит за рамки судебного разбирательства.
Золотухин: Товарищ председательствующий, вы отклонили много наших вопросов и ни разу не сняли вопросы прокурора, явно выходящие за рамки данного судебного разбирательства.
Миронов: Товарищ прокурор, задавайте вопрос дальше.
Прокурор: Свидетель, ответьте на мой вопрос.
Свидетель: О встречах Галанскова со шведом ничего не знаю.
Миронов был не просто необъективен. Он лишал адвокатов возможности реально осуществлять защиту. Снимал важные вопросы, отказывал в существенных ходатайствах.
Одним из пунктов обвинения Галанскова было получение им денег из-за границы. Поскольку при обыске у Галанскова ни денег, ни ценностей обнаружено не было, обвинение основывалось на показаниях Добровольского, утверждавшего, что все полученные Галансковым деньги тот передал на хранение ему. Однако еще в период расследования дела жена Добровольского трижды обращалась в КГБ с требованием вернуть изъятые у них при обыске деньги. Она писала, что они являются частично их трудовыми сбережениями, частично одолжены мужем у его знакомых из религиозных кругов.
Это противоречило показаниям Добровольского и нуждалось в проверке. На второй день процесса мне было передано письмо от генерала Григоренко, в котором он сообщал, что ему известно происхождение обнаруженных у Добровольского денег и он готов дать суду показания. Я заявила ходатайство о вызове его в качестве свидетеля. Суд отказался допросить генерала Григоренко, сославшись на то, что он состоит на учете в нервно-психиатрическом диспансере.
Проходит несколько часов. Обвинитель допрашивает свидетельницу Басилову, жену поэта Губанова. Губанов давал во время следствия показания, что Гинзбург иногда приводил к ним иностранцев. Гинзбург отрицал это. Прокурор хотел использовать показания Губанова как доказательство того, что Гинзбург поддерживал связи с иностранцами.
Прокурор: В показаниях вашего мужа Губанова говорится.
Басилова: Я хочу сделать заявление.
Судья: Не разрешаю.
Басилова: А я все-таки сделаю. Я хочу знать, какое право имеет КГБ доводить душевнобольного человека до состояния невменяемости всяческими преследованиями и в таком состоянии допрашивать? Более того, – использовать показания психически больного человека на суде?..
Судья: Это клевета на КГБ. Вы будете отвечать за клевету?
Басилова: Это не клевета. Состояние моего мужа определил врач.
Судья: Товарищ комендант, уведите свидетельницу.
Золотухин: У меня есть вопросы к свидетельнице.
Судья: Задавайте.
Золотухин: Ваш муж состоит на учете в нервно-психиатрическом диспансере?
Басилова: Да.
Золотухин: Как давно?
Басилова: Шесть лет.
Золотухин: С каким диагнозом?
Басилова: Шизофрения.
После допроса свидетеля адвокат Золотухин обратил внимание суда на медицинские документы, имеющиеся в деле, из которых видно, что свидетель Губанов в течение многих лет страдает тяжелым психическим заболеванием.
Золотухин: Ходатайство адвоката Каминской было отклонено именно потому, что Григоренко, судя по справке из нервно-психоневрологического диспансера, является больным человеком. Почему же показаниям Губанова, человека явно больного, неоднократно стационировавшегося в больницах с диагнозом «шизофрения», придается настолько большое значение, что они признаны единственным и достаточным доказательством для одного из эпизодов обвинения Гинзбурга?
Золотухин просил суд исключить показания Губанова из числа доказательств.
Суд, не перебивая, выслушал аргументацию моего коллеги, а в определении записал, что
…не видит достаточных оснований для исключения показаний свидетеля Губанова из числа доказательств по делу.
Суд не допросил Губанова. Его психическое состояние было таково, что исключало всякую возможность допроса. Но в приговоре суд на его показания все же сослался как на доказательство вины Гинзбурга.
Судебное заседание почти по каждому делу приносит неожиданности, которые предугадать совершенно невозможно. Иногда они разражаются как взрыв и требуют от адвоката немедленной и точной реакции.
10 января 1968 года. Третий день процесса. 10 часов утра. Судебное заседание объявляется открытым. Государственный обвинитель прокурор Терехов заявляет ходатайство:
– Прошу вызвать в суд и допросить в качестве свидетеля гражданина Брокс-Соколова, который может дать ценные показания по настоящему делу.
Кто такой Брокс-Соколов? Его имя ни разу не упоминалось в материалах предварительного следствия. Не называл его и никто из допрошенных в суде обвиняемых.
Прокурор разъясняет:
– Брокс-Соколов – гражданин Венесуэлы. Приехал в Советский Союз в качестве туриста. Арестован органами КГБ в декабре 1967 года. Следствие по его делу еще не закончено. Однако уже сейчас есть показания, содержание которых имеет отношение к настоящему делу.
Для того чтобы нам, адвокатам, высказать свое мнение о таком ходатайстве, нам нужно прежде всего ознакомиться с показаниями, которые Брокс-Соколов дал на следствии по своему делу. Только тогда мы сможем судить об обоснованности ходатайства прокурора.
Об этом мы и просим суд. Отказ в такой просьбе грубо нарушает права защиты, ставит ее уже не только фактически, но и формально в неравное положение с обвинением.
И опять встает прокурор Терехов:
– Я должен заявить суду, что дело Брокс-Соколова имеет особую государственную важность и потому материалы этого дела не могут быть оглашены.
Но если показания Брокс-Соколова настолько секретны, что их нельзя предъявить адвокатам, каждый из которых имеет допуск к секретным документам, участвующим в делах, связанных с охраной государственной тайны, то как тогда допрашивать этого свидетеля в суде, в открытом судебном заседании? Значит, очевидно, не все показания этого свидетеля столь секретны.
(Кстати, Брокс-Соколова судили в том же Московском городском суде через полгода. Судили его в открытом судебном заседании, в присутствии публики и прессы. Об этом деле писали в советских газетах. Никаких государственных тайн в его деле не было, и суд, признав его виновным в антисоветской пропаганде, «учитывая его чистосердечное раскаяние», освободил его из-под стражи тут же в зале суда после оглашения приговора.)
Заявляем новое ходатайство об ознакомлении только с теми материалами из показаний Брокса, по которым он будет допрошен в суде. Уж в этом-то суд нам не может отказать.
Миронов слушает, откинувшись на высокую спинку судейского кресла. Он слушает наши возражения, а потом еле заметным кивком – направо к заседателю и налево к заседателю – и также не меняя позы, только на лице усилилась гримаса брезгливости, которая не сходит с его лица в течение всего процесса, диктует секретарю:
– Ходатайство прокурора удовлетворить. Вызвать в судебное заседание для допроса в качестве свидетеля гражданина Брокс-Соколова. В ходатайстве адвокатов об ознакомлении с материалами следственного дела – отказать.
Весь этот день во время допросов свидетелей, когда внимание напряжено до предела, меня не оставляла мысль об этом неизвестном гражданине из Венесуэлы, показания которого нам предстоит выслушать.
В перерывах каждый из нас в беседе с подзащитными пытался выяснить, кто такой этот неожиданно объявившийся Брокс-Соколов. Какое отношение он, впервые появившийся в Советском Союзе через год после ареста наших подзащитных, может иметь к их делу. Но и они имя Брокс-Соколова слышали впервые.
7 часов вечера. Прозвенел громкий пронзительный звонок, возвещавший окончание рабочего дня. Шум шагов уходящих людей. Потом тишина. Суд кончил свою работу. А мы все еще допрашивали непрерывно сменяющих один другого свидетелей.
Почти все свидетели, вызванные обвинением, – это знакомые подсудимых. Они сочувствуют подсудимым. Миронов благожелательно слушал показания Цветкова и Голованова, сообщивших в КГБ о том, что Радзиевский принес им для размножения рукописи. Но трудно передать, что происходило в зале, когда допрашивали друзей и родственников подсудимых. Смех, грубые оскорбительные выкрики из зала почти не умолкали.
Смеялись, когда свидетели говорили, что Галансков – добрый и бескорыстный человек, или называли Гинзбурга талантливым литератором. Смеялись и тогда, когда свидетели говорили о себе. Под сплошной смех прошли показания Басиловой, хотя, право же, ничего смешного в ее показаниях усмотреть было невозможно. Если, конечно, не считать поводом для смеха рассказ о тяжелой психической болезни ее мужа – поэта Губанова, не считать смешным, что человек на вопрос о профессии отвечает: «Я поэт». Или: «Я религиозный писатель».
Миронов не останавливал этих шумящих до бесчинства людей. Наоборот, видно было, что такая реакция зала, этой приглашенной публики ему явно по душе. Сам он не смеялся над каждым, кто свидетельствовал в пользу подсудимых. Он использовал свою власть председательствующего, чтобы издеваться над ними.
По закону допрошенные свидетели остаются в зале и не могут удаляться до окончания судебного следствия. Однако Миронов никому из знакомых подсудимых этого не разрешал. Короткая фраза:
– Свидетель, вы свободны.
И судебный распорядитель, специально прикомандированный КГБ для наблюдения за порядком в нашем процессе, уже предусмотрительно открывает дверь в коридор, чтобы свидетель не мог задержаться в зале ни одной лишней минуты.
Закончился допрос свидетеля Виноградова. И уже звучит знакомое:
– Свидетель, вы свободны.
Но Виноградов просит разрешения остаться в зале.
– Вы должны мне это разрешить. Я обязан по закону, по статье 283 оставаться здесь!
– Вот по этой самой 283-й статье немедленно оставьте зал. Товарищ комендант, проводите свидетеля.
Это реплика Миронова, которая особенно нравится сидящей в зале партийной элите.
Допрос свидетеля – это очень трудная часть работы адвоката. Нужно слушать, нужно успеть записать, нужно быстро уловить настроение свидетеля, чтобы понять, о чем полезно его спросить. А в этот день еще неотвязная мысль: «Кто такой Брокс-Соколов? Когда же начнется этот неожиданный допрос?»
И опять свидетели один за другим сменяют друг друга, так что нет времени даже на то, чтобы почувствовать, насколько устала за эти 10 часов почти непрерывной работы.
Перед судейским столом-молодая женщина. Черные волосы, черные глаза, одета тоже в черное – на плечи наброшен большой черный в ярких красных розах платок. Это Аида Топешкина – давняя знакомая Галанскова, приятельница его жены.
И опять в зале смех. Как смешно им слышать, что Галансков был беден – «гол как сокол». Смешно и то, что безотказно помогал свидетельнице в трудные минуты ее жизни; смешно, что он любит детей.
Это разные люди. За пять дней процесса я видела, что появлялись новые лица, исчезали те, кого видела накануне. Но и эти новые были такими же нагло-веселыми.
Как-то во время очередного перерыва мы, адвокаты, стояли в холле около судебного зала. Огромное, почти во всю стену окно на Каланчевскую улицу. Перед зданием суда толпа. Воротники пальто подняты, женщины замотаны в теплые платки. Эти люди стоят уже много часов на лютом морозе – около 30 градусов по Цельсию.
Мы видим, как один постукивает ногой об ногу, другой хлопает себя руками, пытаясь хоть немного согреться. Женщина натягивает на лоб платок так, что он почти закрывает глаза. И в это время за нашей спиной голос:
– Вот бы сейчас сюда пулемет, и всех их прямой наводкой.
И опять смех. Это та же публика из зала. Они не только веселые. Они фашисты.
Я часто вспоминаю эту сцену. Людей, которые стояли на морозе и не расходились. Разве это не демонстрация? Пусть без лозунгов и плакатов, без оркестров и флагов, но демонстрация подлинной солидарности.
Ах, как узок круг этих революционеров.
То-то так легко окружить их во дворе. —
писал в песне, посвященной этому процессу, один из известных московских бардов.
Нам казалось тогда, что это – толпа; но, может быть, их было не так уж много. Считаные люди, чьи имена и под письмами протеста, и под обращениями к мировой общественности. Они приходят на эти молчаливые демонстрации от процесса к процессу до тех пор, пока их самих не привозят в суд. Не в качестве зрителей, а уже как подсудимых. Сколько их уже прошло этот путь от участия в демонстрации солидарности до скамьи подсудимых?..
Каждый раз, когда слушались политические дела, я видела и тех, кто окружал эту толпу, – многочисленных «людей в штатском». Они следили за демонстрантами, фотографировали их, устраивали им провокации. Все – в надежде запугать, задушить эту традицию. Казалось, «так нетрудно окружить их во дворе». Но год от года толпа не делалась меньше, и традиция не прерывалась.
10 января 1968 года, когда глядели из окна третьего этажа на стоявших внизу, мы ясно различали, кто – кто. И хотя и те и другие одинаково замерзли, одинаково втягивали головы в воротники и подпрыгивали на месте, спутать их даже на расстоянии невозможно.
Но вот перерыв кончается, нам пора в зал судебного заседания.
Когда Топешкина ответила на последний из заданных ей вопросов, она хотела то ли чем-то дополнить свои показания, то ли сделать какое-то заявление.
– Нас не интересуют ваши заявления. Можете идти, – резюмирует Миронов.
А из зала уже несется:
– Иди, иди – детей надо воспитывать! Совсем совесть потеряла.
Миронов грубостью мстил свидетелям за непокорность. За то, что они не боялись, за то, что держали себя независимо. Если бы эти свидетели хоть слово сказали в осуждение обвиняемых, Миронов относился бы к ним по-другому.
Допрашивается свидетельница Людмила Кац. С ней я знакома еще по процессу Владимира Буковского. Это ее адвокат Альский в своей речи просил «оттащить от религии».
Людмила подтвердила, что Добровольский давал ей читать книги, изданные НТС.
Судья: Добровольский давал вам литературу явно антисоветского содержания. Как же вы, советский человек, могли с ним после этого иметь дело?
Свидетельница Кац: Тогда я не знала, что он окажется таким подонком.
Конечно, Миронов предпочел бы, чтобы свидетельница «осудила» не Добровольского, а Галанскова или Гинзбурга. Но он благодарен ей и за это. Он улыбается и разрешает Кац – единственной из всех допрошенных судом свидетелей – остаться в зале. Но проходит лишь несколько минут, и Миронов понимает, что он ошибся, что он неправильно расценил ее показания. До него доходит, что, назвав Добровольского подонком, свидетельница осудила его не за то, что он давал ей книги или рассказывал об НТС. Она осудила Добровольского за предательство.
В судебном заседании объявляется перерыв, после которого Кац в зал уже не пускают. Об этом Миронов распорядился лично.
И новый свидетель уже стоит перед судом. И опять Миронов не останавливает непристойные выкрики, не делает замечаний, не призывает сидящих в зале соблюдать обязательную в суде тишину и корректность. Он ведет себя так не потому, что от него этого требуют, что такова директива свыше, и не потому, что он не умеет управлять процессом. Просто ему нравится наблюдать, когда глумятся над подсудимыми, издеваются над их друзьями.
А потом наступила тишина. Замолкли самые шумные, казалось, что в зале никто не дышит. И только голос Миронова:
– Свидетель, назовите вашу фамилию, возраст и национальность.
И в ответ:
– Брокс-Соколов, Николай Борисович. 21 год. Гражданин Венесуэлы. Место рождения – ФРГ. Место жительства – Франция.
С предельным вниманием слушаем мы показания Брокса. Ждем, когда прозвучит то главное, то несомненно изобличающее наших подзащитных, ради чего привезли этого свидетеля из тюрьмы.
– Я студент. Учусь во Франции в Гренобле. Русским языком владею хорошо и могу давать показания без переводчика. В Советский Союз приехал как турист. В ноябре 1967 года я встретился в кафе с одной девушкой. Она рассказала мне о молодых русских писателях, которых арестовал КГБ. Спросила, соглашусь ли я оказать этим писателям некоторую помощь во время моей поездки в СССР, опустив в Москве в почтовый ящик письма в их поддержку. Ее имя Тамара Волкова. Она назвала имена писателей, о помощи которым она просила, – Галансков, Гинзбург и Добровольский. Во время встречи с Тамарой в кафе я был убежден, что речь идет о помощи действительно писателям, и потому согласился оказать возможную помощь людям, пострадавшим за свое творчество. От Тамары я узнал, что она – представитель организации НТС. В самых первых числах декабря 1967 года я опять встретился с Тамарой. С ней был еще какой-то человек, как я понял – тоже представитель НТС. К этому времени уже была известна дата моего отъезда в Советский Союз, и мы договорились о том.
– Товарищи адвокаты, перестаньте разговаривать. Вы мешаете работать.
Это судья Миронов прервал показания свидетеля, чтобы сделать нам замечание. Миронов был прав. Мы действительно разговаривали.
– Ты помнишь, какого числа мы просили отложить дело? – спрашивал меня один из коллег.
– Теперь понятно, почему удовлетворили наше ходатайство, – говорил другой.
– Они его ждали, – шептала я в ответ.
Правы ли были мы в своих предположениях? Точный ответ на этот вопрос может дать только КГБ. Но основания для такого предположения у нас были. И основания достаточно серьезные.
Ведь еще тогда, когда после категорического отказа отложить дело, наше ходатайство было неожиданно удовлетворено и нам предоставили значительно больше времени, чем мы просили, мы не сомневались, что подлинная причина отложения дела осталась для нас неизвестной.
Можно, конечно, считать, что совпадение во времени между отложением нашего дела и определившейся датой приезда в Москву Брокса явилось случайным. Но ведь наше дело не назначалось к слушанию до самого ареста и допроса Брокса. Очевидно, что в КГБ его приезд ожидали, что у них уже имелась информация о том, что едет человек со специальным заданием.
Перед поездкой в Советский Союз, за день до вылета из Франции, представитель НТС передал Броксу пояс, в котором были зашиты пять писем, фотографии наших подзащитных, копирка для тайнописи, шапирограф, а также три тысячи рублей в советской валюте.
Брокс был арестован на третий день его пребывания в Москве. За эти дни он не выполнил и даже еще не пытался выполнить ни одного из данных ему поручений. Все то, что было ему передано, он продолжал носить на себе, не вскрывая пояса. Его поведение в течение этих трех дней не отличалось ничем от поведения обычного туриста и не могло возбудить подозрений. Он не устанавливал «нелегальных» контактов, не встречался с людьми, за которыми установлено наблюдение.
Его арест был произведен на улице, в парке, при обстоятельствах никак Брокса не компрометировавших.
Решившись в таких условиях на арест иностранного гражданина, КГБ, несомненно, располагал информацией о характере задания, которое собирался выполнить Брокс. Не удивлюсь, если в КГБ было заранее известно и содержимое его пояса.
Как только Брокс был арестован, как только был обнаружен и вскрыт потайной пояс, как только на стол следователя легли фотографии наших подзащитных, а рядом с ними копирка и шапирограф, – точно такие, какие были изъяты при обыске у Добровольского, наше дело было вновь назначено к слушанию.
Если наше предположение, более того-уверенность, что дело было отложено в ожидании этого потенциального свидетеля, было правильным, то нужно сказать, что в плане изобличения подсудимых КГБ этим не многого добился.
Был психологический эффект. Было эмоциональное напряжение, когда мы ждали каких-то сверхъестественных разоблачений. Но разоблачений не последовало. Осуждая себя за то, что согласился выполнить поручение НТС, еще более осуждая НТС, который его «втянул и обманул доверие», Брокс в то же время не сказал суду ничего, что смогло бы послужить доказательством вины Галанскова и других подсудимых. В конвертах, которые он должен был отправить по московской почте, оказались только короткие биографии наших подзащитных с призывом бороться за их освобождение. Деньги, копирка для тайнописи и шапирограф должны были быть переданы человеку, никак с подсудимыми не связанному, и служить вещественным доказательством вины Гинзбурга и Галанскова тоже не могли.
Вся информация, которую мог Брокс сообщить суду о деятельности Галанскова, Гинзбурга и Добровольского, была почерпнута им из лекции о нелегальной советской литературе. Каждому, кто сам слышал показания Брокса, было ясно, что строить обвинение на показаниях такого свидетеля нельзя.
Но для достижения той цели, которая для КГБ и пропагандистского аппарата была важна не менее, чем доказательство вины подсудимых – для компрометации НТС, его руководителей и, естественно, нравственной компрометации Гинзбурга, Галанскова и Добровольского, – показания Брокса были использованы очень широко. Не было ни одной газетной статьи, посвященной нашему процессу, где не цитировались бы его оценки «господ из НТС», его оценки подсудимых:
Я думал, это – писатели. Во Франции о них говорили и писали как о писателях. Я же вижу не писателей. Здесь судят уголовников за связи с НТС.
11 января судебное следствие подходило к концу. Допрошены все свидетели, проверены все доказательства. Приближалась заключительная стадия процесса – прения сторон. Как вдруг прокурор просит слова для заявления нового ходатайства. В руках у него плотный лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом.