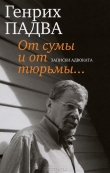Текст книги "Записки адвоката"
Автор книги: Дина Каминская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Мне кажется, что мое преимущество перед коллегами, защищавшими Синявского и Даниэля, заключалось в том, что я не уклонилась от анализа литературных произведений, включенных в журнал «Феникс». Говорила о недопустимости отождествлять автора с высказываниями литературных героев, говорила о недопустимости распространять действия уголовного закона на художественное творчество.
И второе. Мне также кажется, что искреннее чувство сострадания к Юрию помогло мне найти слова, когда говорила о том, что только благородные мотивы руководили им.
Мне понятно, что слова из моей речи о том, что Юрий «не искал для себя ни богатства, ни карьеры, на славы», были потом выбраны для заглавия книги об этом несколько странном, но очень добром и хорошем человеке.
О речи Бориса Золотухина скажу лишь несколько слов.
Как-то так случилось, что мы – друзья – ни разу до этого не участвовали в одном процессе. Для меня речь Бориса была открытием нового таланта. В ней все было продумано и все убедительно. Это одна из очень немногих судебных речей, которая почти ничего не теряет при ее чтении. А может быть, мне помогает то, что, когда ее читаю, у меня в ушах звучит голос Бориса, его знакомая интонация. Его речь отличалась особым благородством высказанных им мыслей и смелостью обобщений.
Я очень внимательно следила за реакцией суда на речь Золотухина и твердо помню то, как с явным неодобрением слушал Миронов ту часть этой речи, которая была посвящена откликам Запада на процесс Синявского и Даниэля. А когда среди деятелей, отрицательно отзывавшихся о процессе, были названы имена французского писателя члена ЦК Французской коммунистической партии Луи Арагона и секретаря ЦК Английской коммунистической партии Джона Голлана, Миронов даже изменился в лице. Золотухин задел одну из самых чувствительных для советской власти и коммунистической партии струну – впервые эти преданные друзья открыто высказывали свое осуждение действий советского правительства.
Это же выражение недовольства сохранялось и тогда, когда в замолкшем судебном зале мы, затаив дыхание, слушали:
Гинзбург считал приговор по делу Синявского и Даниэля неверным. Я хочу поставить перед вами один общий вопрос: как должен поступить гражданин, который так считает? Он может отнестись к этому с полным безразличием, или это может вызвать у него общественную реакцию. Гражданин может безразлично смотреть на то, как под конвоем ведут невинного человека, и может вступиться за этого человека. Я не знаю, какое поведение покажется суду предпочтительнее. Но я думаю, что поведение неравнодушного более гражданственно.
Гинзбург сделал все, чтобы помочь Синявскому и Даниэлю.
Золотухин, как и Ария, не анализировал отдельные произведения, включенные в «Белую книгу». Он просил об оправдании Гинзбурга, так как полагал, что составление сборника, предназначавшегося для высокого советского руководства, независимо от характера включенных в него документов, не может считаться антисоветской пропагандой или антисоветской деятельностью.
По закону после речей защиты председательствующий предоставляет прокурору право реплики. Прокурор может возражать против аргументации адвокатов, против искажений материалов дела, против политических ошибок, если таковые были защитой допущены.
Прокурор от права на реплику отказался.
Это, а также и то, что Миронов не сделал никому из адвокатов замечаний, никого не прерывал во время речи, было первым, но серьезным сигналом, что никакие неприятности нас, адвокатов, ждать не должны.
Во время десятиминутного перерыва, объявленного судом сразу после речи Бориса, к нашему столу подошел прокурор.
– Поздравляю вас, товарищи адвокаты, – сказал он. – Это была интересная и не казенная защита. Вы действительно сделали все возможное для своих подзащитных.
А через несколько минут уже от председателя нашего президиума Апраксина мы услышали:
– Молодцы. Все прошло нормально. Неприятностей не будет.
И я успокоилась. Чувство беспокойства, которое возникло, когда слушала речь Семена Арии и Бориса Золотухина, прошло.
Я помню, что всеми нами владело тогда почти праздничное чувство. Мы поздравляли друг друга, с радостью выслушивали слова благодарности от наших подзащитных и их родственников. Ничто не предвещало того, что пройдет несколько месяцев и для одного из нас участие в этом процессе кончится настоящей жизненной катастрофой.
Короткие последние слова.
Вера Лашкова, Юрий и Александр Гинзбург не просили суд о снисхождении, не каялись.
Просьба, с которой Юрий обратился к суду, была сформулирована так:
– Я призываю суд к сдержанности в своих решениях, касающихся Добровольского, меня и Лашковой. Что касается Гинзбурга, то его невиновность настолько очевидна, что решение суда по этому поводу не может вызвать сомнений.
Александр Гинзбург, заканчивая последнее слово, сказал, что знает, что его осудят, потому что:
ни один человек, обвиненный по статье 70, еще не был оправдан. Вы можете посадить меня в тюрьму, отправить в лагерь, но я знаю, что никто из честных людей меня не осудит.
«Лучшие» представители «советской и партийной общественности» хохотали, слушая слова:
– Я не признаю себя виновным, я был убежден в своей правоте.
Заключительные слова Гинзбурга «Прошу суд дать мне срок не меньший, чем Юрию Галанскову» потонули в шуме, в выкриках: «Мало! Мало! Надо дать больше!»
Суд удалился в совещательную комнату. Увели подсудимых, и в пустом зале остались только мы. О чем бы ни говорили тогда, мысль каждого из нас возвращалась к ожидаемому нами приговору.
– Неужели они осудят Алика?
– Они не могут признать Гинзбурга виновным, это будет чудовищно!
Такими репликами мы перебивали рассуждения на совсем посторонние, вовсе не относящиеся к делу темы.
Все мы понимали, что надеяться на справедливость в политическом процессе более чем наивно. Но полная недоказанность вины Александра Гинзбурга была настолько очевидна, что даже мы, советские адвокаты, привыкшие и приученные к произволу в правосудии по политическим делам, не могли принять мысль о возможности его осуждения.
Думая о том, что ожидало Юрия, я понимала, что, если ему дадут меньше 7 лет, это будет чудом. И все же ждала этого чуда. Надеялась – хотя бы 5.
Когда мои товарищи твердили:
– Тебе надеяться не на что. Юрий получит семь лет, – я согласно кивала головой, а в душе сердилась на них за эти слова и продолжала ждать чуда.
Но чуда не произошло.
7 лет лишения свободы Галанскову, 5 – Гинзбургу, 2 – Добровольскому, 1 год – Лашковой. А из зала крики:
– Мало! Мало!
Хоть бы в чем-нибудь, хоть бы на полгода отошел Миронов от «предсказаний» следователя КГБ. Хоть не так бы явно свидетельствовал приговор, что пять дней судебного процесса были пустой и жестокой комедией.
И опять мы, четверо адвокатов, стоим в пустом холле Московского городского суда и не можем заставить себя переступить порог, выйти на улицу. Короткое ощущение праздника, радости за добросовестно сделанную работу ушло так, как будто его и не было.
Какими глазами сейчас будут смотреть на нас родные, близкие друзья и знакомые наших подзащитных? Что можем сказать мы им?
Подавленность и стыд – вот все, что чувствовала я тогда.
Никогда не забуду эти минуты, когда, выйдя на улицу, увидели продрогших на страшном морозе людей. Они не уходили, ждали нас, чтобы преподнести букеты красных гвоздик.
Я возвращалась домой вместе с Борисом. Мы ехали молча, а потом он отдал мне свой букет.
– Это тебе, – сказал он. И, перебивая меня, повторил: Ты должна их взять. Пусть этот букет будет первым подарком – ведь завтра твой день рождения.
И мы опять молчали, подавленные несправедливостью, болью за людей, которых защищали, и ужасным чувством бессилия.
Глава пятая. Продолжение
Все то, о чем я собираюсь рассказать сейчас, относится к событиям, наступившим уже после судебного процесса над Гинзбургом и Галансковым. Я назвала главу «Продолжение», так как события эти явились последствием того процесса. Но эта глава является и продолжением многих мыслей, уже высказанных в этой книге, продолжением рассказа о человеке, сумевшем преодолеть страх, и о людях, которые срослись с этим чувством навсегда. Эта глава может быть в значительной степени названа продолжением главы «Почему я решила стать адвокатом», потому что рассказ в ней пойдет о событиях, происходивших внутри Московской коллегии адвокатов.
Эта глава – рассказ о том, как и за что был исключен из коллегии адвокатов Борис Золотухин.
Итак, 12 января 1968 года Московский городской суд вынес приговор, по которому все обвиняемые были признаны виновными. Трое из нас, адвокатов, участвовавших в процессе, должны были подать кассационные жалобы. Золотухин – потому, что просил об оправдании Гинзбурга; Ария и я – потому, что просили переквалифицировать действия наших подзащитных со статьи 70 Уголовного кодекса (антисоветская пропаганда) на статью 190-1 (клевета на советский государственный и общественный строй).
Для Семена Арии это был просто спор о чистоте квалификации, ничего не меняющий в наказании Лашковой, – она через четыре дня после вынесения приговора уже вышла на свободу.
Для Бориса и для меня кассационная инстанция – это новая битва за наших подзащитных. За свободу для Гинзбурга, за сокращение срока наказания для Галанскова.
Мы оба были подавлены суровостью и несправедливостью приговора. Часто и подолгу говорили об этом деле. Но я не помню, чтобы хоть раз в эти первые дни и даже недели после окончания суда кто-нибудь из нас высказывал опасения или предположения, что дело может иметь неприятные последствия для адвокатов, хотя некоторые основания для этого были.
Правда, непосредственно после речей защиты председатель коллегии адвокатов Апраксин сказал, что все обошлось благополучно, что неприятностей не будет. Но очень скоро по коллегии поползли слухи о том, что «наверху» выражали недовольство тем, что Борис в своей речи говорил об отрицательной оценке процесса Синявского и Даниэля общественным мнением на Западе. Особое недовольство вызвали, как передавали, его ссылки на отрицательную реакцию западных коммунистических партий. Но мне (думаю, что и другим) казалось, что последствием этого недовольства может быть лишь то, что Московский комитет партии не будет рекомендовать и поддерживать кандидатуру Золотухина в президиум коллегии, выборы которого должны были состояться вскоре.
Среди адвокатов шли разговоры о том, что Золотухина выбирать все равно будем. При тайном голосовании не так уж трудно пойти против рекомендаций Московского комитета, а вот на пост председателя коллегии его уже не утвердят (до нашего процесса Золотухин пользовался поддержкой партийных органов и был наиболее вероятным кандидатом на этот пост, если не на ближайших выборах, то на последующих).
А потом все эти разговоры прекратились. Ведь суд, который обязан реагировать на всякие политически неправильные высказывания, выслушал речь Золотухина молча. В его адрес не было вынесено частное определение, то есть обязательный документ, с которого начинается всякое дисциплинарное дело против адвоката, связанное с неправильным осуществлением защиты. И я думала: «Уж если такой судья, как Миронов, такой ненавистник адвокатов не нашел к чему „прицепиться", то и беспокоиться совершенно нечего».
Так прошли январь и февраль. Наступил март. Мы уже кончили знакомиться с протоколом судебного заседания, уже подали развернутые кассационные жалобы. Оставалось только дождаться дня, когда дело будет рассматриваться в Верховном суде РСФСР.
Как вдруг. Я не помню, какого числа это было. События развивались с такой быстротой, что даже последовательность их иногда восстановить трудно.
Началось все со статьи во французском журнале «Нувель обсерватер». В ней говорилось, что в Советском Союзе произошли большие перемены. Что нельзя не приветствовать процесс либерализации и демократизации советского общества. И в качестве иллюстрации, подтверждающей эту либерализацию, автор привел отрывок из речи Золотухина. Тот самый отрывок, который я цитировала в предыдущей главе:
Гинзбург считал приговор (по делу Синявского и Даниэля. – Д.К.) неверным. Как должен поступить гражданин, который так считает? Он может отнестись к этому с полным безразличием, или это может вызвать у него общественную реакцию. Гражданин может безразлично смотреть, как под конвоем уводят невинного человека, и может вступиться за этого человека. Я не знаю, какое поведение покажется суду предпочтительнее. Но я думаю, что поведение неравнодушного более гражданственно.
Автор статьи, приводя эту цитату, утверждал, что уже одно то, что в советском суде адвокат может ставить вопрос об оправдании человека, обвиняемого в совершении политического преступления, как и то, что защиту осуществляют не назначенные, а избранные самими подсудимыми адвокаты, несомненное и бесспорное свидетельство демократизации советского строя. Мог ли автор этих благожелательных строк предположить, что его статья станет причиной, во всяком случае, толчком к жестокой расправе?.. Уверена, что он этого не предполагал. Как не могли этого предполагать мы и те немногие из наших друзей, которые имели возможность прочесть эту статью.
Но лишь дни отделяли время, когда мы ее читали, от дня, когда узнали, что против Бориса возбуждено «персональное» партийное дело.
21 марта 1968 года решением бюро райкома Золотухин был исключен из партии. Одновременно бюро рекомендовало президиуму коллегии освободить его от должности заведующего юридической консультацией Дзержинского района.
Незаконность преследования адвоката за выполнение им своего профессионального долга, мне кажется, не нуждается в аргументации. Не было такого адвоката в Москве, который не понимал бы этого, не возмущался бы несправедливостью репрессий против Золотухина. Но многие адвокаты-коммунисты говорили тогда, что жестокость принятого райкомом решения объяснялась неправильным поведением самого Бориса.
– Ему предлагали покаяться, – говорили они, – и он должен был согласиться, не он первый, не он последний.
Кроме того, от Бориса потребовали, чтобы он публично, через газету опровергнул статью во французском журнале; написал бы, что его речь была искажена буржуазной прессой. Тогда его не исключили бы из партии.
Я знаю, что такие советы Золотухину давали очень благожелательно к нему настроенные люди. После исключения Бориса из партии они долю вины за случившееся возлагали и на меня. Считали, что непреклонная позиция Бориса в какой-то мере объяснялась моим влиянием. Но я на себя эту почетную вину принять не могу. Категорический отказ признать ошибочность избранной им позиции защиты, в правильности которой он не сомневался, определялся не посторонним влиянием, а присущим Борису чувством собственного достоинства. Он не мог согласиться на предлагаемый ему компромисс, потому что он человек благородный и мужественный.
Бывают люди благородные в своих помыслах, ломающие себя по слабости характера. Борис достаточно сильный человек, чтобы быть благородным в своих поступках.
Он пришел в Московскую адвокатуру с прокурорской, то есть со значительно более престижной работы. Борис происходит из семьи, чей общественный статус, несомненно, содействовал успешной карьере. Его родители – оба коммуниста. Отец занимал очень высокое положение в советской иерархии (он был в ранге министра) и пользовался всеми благами, которые предоставляет государство правительственной элите. Кремлевские закрытые магазины, правительственные дома отдыха и санатории – все это было знакомо Борису не по рассказам знакомых. Это было его жизнью, его бытом. Он жил и воспитывался в атмосфере абсолютной преданности власти, которая его отцу дала все; сделала его, деревенского пастуха, министром.
Отец, несомненно, способствовал бы успешной карьере сына. Но карьера не получилась. Она и не могла получиться. В этом не было ничего случайного. В советских условиях люди с независимым характером, люди принципиальные и благородные служебной карьеры не делают, как бы они ни относились к советскому режиму. Именно эти качества: независимость и принципиальность – и предопределили вынужденный для Бориса уход с прокурорской работы. Золотухин был пледирующим прокурором. Он от имени государства поддерживал обвинение в крупных хозяйственных делах. В ходе слушания одного из таких дел Борис пришел к выводу, что вина некоторых подсудимых не доказана.
Если в результате судебного разбирательства прокурор придет к заключению, что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, он обязан отказаться от обвинения (статья 248 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР).
Именно так, в соответствии с законом, и решил поступить Золотухин. Руководство прокуратуры Москвы требовало, чтобы он настаивал в суде на виновности этих лиц и на их осуждении. Слишком скандальным было само дело, и слишком долго находились подсудимые под стражей до суда. Золотухин был поставлен перед выбором – либо согласиться с требованием руководства и просить суд об осуждении тех, чью вину он считал недоказанной, либо уйти из прокуратуры. Он выбрал последнее.
Золотухин произнес речь, в которой подробно аргументировал свою просьбу об оправдании подсудимых, а затем ушел из прокуратуры. Так он стал адвокатом, а затем, через несколько лет, и заведующим одной из центральных юридических консультаций в Москве, членом президиума Московской коллегии адвокатов.
Исключение Золотухина из партии взволновало всю коллегию. Все понимали, что решается важный и общий для всей коллегии вопрос – может ли адвокат в политическом процессе при недоказанности вины подзащитного просить о его оправдании, или он должен лишь ограничиться просьбой о снисхождении и тем самым предать своего подзащитного.
Золотухина в коллегии очень любили и уважали. Однако, я думаю, не только это чувство, но и понимание опасности для адвокатуры определило то, что на первых этапах расправы над ним коллегия открыто его поддерживала. При рассмотрении персонального дела Золотухина в Дзержинском райкоме партии и затем при рассмотрении апелляции в Московском комитете партии представитель партийной организации юридической консультации, заведующим которой был Борис, пытался доказать несостоятельность возводимых на него обвинений и дал ему блестящую характеристику.
Думали о том, как помочь ему, и мы, адвокаты, участвовавшие вместе с ним в деле Гинзбурга. Мы решили написать письмо в Московский комитет партии на имя его первого секретаря Гришина. От Бориса это свое решение мы договорились скрыть. После долгих обсуждений был составлен текст, который удовлетворил всех нас.
Мы писали о том, что каждый из нас имеет за плечами более чем двадцатилетний опыт судебной работы, в том числе и по делам об особо опасных государственных преступлениях. Этот опыт в сочетании с нашим участием в процессе позволяет нам иметь твердое суждение о работе Золотухина по делу Гинзбурга. Мы писали:
Позиция, определявшаяся для себя каждым из защитников самостоятельно, обсуждалась затем во избежание ошибки нами совместно. Позиция, выбранная адвокатом Золотухиным, была признана всеми нами единственно возможной для защиты Гинзбурга. Любой из нас, а равно и любой добросовестный адвокат обязан был при указанных обстоятельствах занимать такую позицию. Отход от нее, признание вины Гинзбурга, практически означал бы оставление его без защиты в суде, нарушение его права, закрепленного ст. 111 Конституции СССР.
Нам известно, как была использована защитительная речь товарища Золотухина буржуазной прессой. Но если его речь не была искажена, то изложение позиции товарища Золотухина может принести лишь пользу престижу нашей страны и советского правосудия, так как свидетельствовала о предоставлении подсудимому квалифицированной, полноценной защиты в процессе.
Все мы трое подписали это письмо, оставалось только отправить его адресату. Я не помню сейчас, кто (Ария или Швейский) показал письмо Золотухину. Несомненно, при этом им руководили самые добрые намерения – согласовать текст письма, узнать, не надо ли что добавить. Но делать этого было нельзя. Зная Бориса, я заранее могла сказать, что он воспротивится тому, чтобы кто-нибудь поставил себя под удар. Так это и случилось.
Борис позвонил мне последней. Тогда, когда уже уговорил и Швейского, и Арию отказаться от этой идеи. Уговорил он и меня, ссылаясь на то, что смешно мне, беспартийной, от своего имени посылать такое письмо в партийную организацию. Я виню себя за то, что поддалась на его уговоры. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, – это то, что не понимала тогда всей опасности происходившего. Для меня исключение Бориса из коммунистической партии было вопиющей несправедливостью, но не катастрофой. Я, хоть и не говорила этого Борису, но про себя думала: «Без этой партии можно прекрасно обойтись. Как можно обойтись и без того, чтобы быть заведующим консультацией и членом президиума коллегии. Важно, что он остается в адвокатуре». А в том, что он останется в адвокатуре, я не сомневалась.
И даже когда Борис сказал, что, если его исключат из адвокатуры, дело Гинзбурга в Верховном суде придется вести мне, я не отнеслась к его словам серьезно. Выругала за то, что у него могла зародиться такая мысль. Мне казалось, что отсутствие частного определения суда является абсолютной гарантией того, что президиум не возбудит против него дисциплинарное преследование.
Прошло всего несколько дней, может быть, неделя, и уже не от Золотухина, а от одного из членов президиума коллегии я услышала, что партийными санкциями не ограничатся, что Московский комитет партии требует исключения Золотухина из коллегии адвокатов. Вот только тогда я поняла, что надвигается настоящая катастрофа.
Борис был очень счастлив в адвокатуре. Он много раз говорил мне об этом. Он очень любил нашу профессию и был глубоко ей предан. Вот почему, понимая, что ему не грозят голод и нищета, что какую-то работу он себе со временем найдет, я считала исключение его из коллегии, лишение его возможности заниматься тем, к чему у него было настоящее призвание, катастрофой.
16 апреля состоялось кассационное рассмотрение наших жалоб на приговор суда. Я сама предложила Борису, что возьму на себя защиту Гинзбурга. Я знала, что это не вызовет возражений ни у самого Александра, ни у его родных. Борис отказался от этого. Он считал себя обязанным, видел в этом свой нравственный долг – довести дело до конца, хотя понимал, что повторение официально осужденных тезисов защиты грозит ему дополнительными неприятностями.
Его объяснения в Верховном суде были безупречны по четкости и убедительности аргументации. Неправосудность, бездоказательность приговора Московского городского суда была очевидна.
Состав судебной коллегии Верховного суда, который рассматривал наши жалобы, был мне хорошо известен. Двое из троих – бывшие судьи Московского городского суда, у которых выступала множество раз. Но тогда, в обычных уголовных делах, они могли решать дело; теперь – члены спецколлегии Верховного суда – они не решают. Они выполняют.
Приговор Московского городского суда был оставлен в силе.
В самых первых числах мая я узнала, что вопрос об исключении Бориса из адвокатуры будет поставлен на заседании президиума коллегии. По «Положению об адвокатуре» вопросы приема и исключения из адвокатуры – прерогатива выборного органа, который управляет коллегией, – ее президиума. Московский комитет коммунистической партии решил не нарушать закон и поручил расправиться с Золотухиным самим адвокатам.
Мне достоверно известно, что представитель Московского комитета партии предварительно, до заседания президиума, собрал всю его партийную группу и предупредил, что каждого, кто не подчинится директиве Московского комитета, каждого, кто осмелится проголосовать против исключения Бориса, ждет безусловное исключение из партии. И все же я была уверена, что, если бы все члены президиума проявили тогда стойкость и принципиальность, эта кара не последовала бы. Слишком большим скандалом обернулось бы такое массовое исключение.
Поэтому первое, что я решила сделать, – это убедить членов президиума в том, что если все они решительно откажутся подчиниться этому требованию и не будут голосовать за исключение Бориса, то Московскому комитету придется с этим смириться. Я была абсолютно убеждена, что на положении коллегии это не отразится. Максимум того, чем рисковали беспартийные члены президиума, – это тем, что их больше не будут рекомендовать в президиум при выборах. Положение коммунистов было значительно сложнее.
Лучше всего, кажется, даже дословно запомнилась мне первая попытка. Это было в Бутырской тюрьме, куда я пришла на свидание с кем-то из подзащитных. Я поднялась по крутой лестнице и шла по длинному коридору.
Навстречу мне по этому коридору шла адвокат Соколова.
Имя Любови Владимировны Соколовой в то время было известно каждому адвокату. Она была одним из самых квалифицированных и опытных адвокатов того времени с безупречной репутацией и заслуженным авторитетом порядочного человека. Она первая заговорила о том, о чем собиралась говорить я.
– Дина, – сказала она, – это такой ужас, такой позор. Я лишилась сна. Каждую минуту думаю о Борисе. Я не могу в этом участвовать, я не приду на заседание президиума. Скажу, что больна, что у меня сердечный приступ.
– Почему? – спросила я. – Вы обязательно должны прийти. С вами считаются. Если вы будете голосовать против исключения Бориса, к вам присоединятся другие.
Она стояла рядом со мной, высокая, худощавая, с чуть тронутыми сединой волосами, с лицом, словно сошедшим со старинной византийской иконы. Лицо аскетическое, с удлиненными прекрасными глазами. Сильное лицо подвижницы.
– Вы сошли с ума, – ответила она. – Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?
Любовь Владимировна, может быть, единственная из того состава президиума, которой абсолютно нечего было бояться. Ей, беспартийной, с исключительным положением в коллегии, не грозили никакие репрессии. Ее страх был безотчетен. Она сама говорила мне это.
– Не уговаривайте меня, Дина. Я все понимаю. Я старая женщина, у меня обеспеченная пенсия. Это вы хотите мне сказать? Если бы я знала, чего боюсь! Я не могу объяснить этого. Просто это выше моих сил. Но участвовать в этом позоре я не буду. Уж это-то я сделаю. Я себя не опозорю.
А вот второй разговор. Тоже с женщиной и тоже беспартийной. Адвокат Благоволина – моя приятельница и друг Золотухина. Человек решительный и жизнерадостный, неутомимый и великолепный рассказчик. Сколько вечеров провели мы вместе! Всегда считали ее «своим» человеком.
– Я за себя не боюсь, – говорила мне она. – Мне нечего бояться. Что они могут со мной сделать? Ну, предположим, выгонят из коллегии. Мне все равно скоро на пенсию. А деньги. Так не тебе мне объяснять, что денег мне до конца жизни хватит. Но – Сережа. Ты должна меня понять, у меня сын, который только начинает свою карьеру. Я не вправе ему мешать. Так что на заседание президиума я не приду, а большего сделать – не в моих силах.
И так один за другим – мужчины и женщины, партийные и беспартийные. Только один раз во время этих бесед я почувствовала недоброжелательное отношение к Борису, полускрытое осуждение за то, что он своей непреклонностью ставит всех в опасное положение.
И опять беспартийный Иван Иванович Паркинсон. И тоже старый адвокат, и тоже с отличной репутацией, с ореолом человека, сидевшего в сталинских лагерях и сумевшего безупречным поведением заслужить там уважение солагерников.
Мне казалось, что Паркинсон завидовал Золотухину, его молодости, таланту, тому, как быстро он завоевал признание, уважение и любовь в адвокатуре. Только позднее узнала, что была и другая, более серьезная, но не менее постыдная причина.
Все же остальные действительно страдали, понимали, что им предстоит участвовать в безнравственной расправе. И все видели один выход – уклониться. Мы же – Ария, Швейский и я – вновь собрались вместе, чтобы написать письмо. На этот раз уже на имя председателя президиума коллегии. Решаем – каждый будет писать отдельно. Не помню, кто из них – Ария или Швейский – считал, что групповое письмо – или, как их называют, «коллективка», это форма протеста, осуждаемая партийными органами. А вот к индивидуальным письмам, как выражению собственного мнения, относятся более снисходительно.
Так и решили.
После неудачи, которая постигла письмо, написанное Арией, Швейским и мною, я решила действовать, не посвящая Бориса в то, что собираюсь предпринять.
31 мая я направила в президиум письмо, адресованное Апраксину. Копию этого письма послала всем членам президиума. В нем в более сжатом виде повторились доводы нашего первого письма. Дополнила его лишь тем, что еще до прения сторон Золотухин в моем присутствии информировал председателя президиума Апраксина и его заместителя Склярского о своей позиции по этому делу и что оба они были согласны с линией защиты, избранной Золотухиным. Обращаясь ко всем членам президиума, я писала:
Исключение адвоката за выполнение им своего профессионального долга является беспрецедентным и налагает личную ответственность на каждого члена президиума, поддержавшего такое решение.
В заключение я просила предоставить мне возможность выступить на заседании президиума с подробными объяснениями.
Прошло не более двух-трех дней, как утром нам позвонил Константин Апраксин. К телефону подошел муж, и ему довелось выслушать все упреки и даже угрозы в мой адрес. Апраксин призывал мужа (они вместе учились в Московском юридическом институте) воздействовать на меня и убедить «пока еще не поздно, пока можно еще меня спасти» забрать письмо. Он сообщил, что я осталась в одиночестве, так как Ария и Швейский уже забрали свои письма. Естественно, что муж отказался от выполнения подобной миссии.
А вечером к нам приехал Швейский и рассказал, что накануне его вызвали в райком партии и предложили либо немедленно забрать из президиума письмо, либо сдать в райком свой партийный билет. Когда он рассказывал об этом, мы видели, что ему мучительно стыдно предавать товарища, но упрекать Швейского я не могла. Мы были не в равном положении. Когда он ушел, я в который раз подумала: «Господи, какое счастье, что я не в партии».
К этому времени об истории с письмами узнал и Борис. Он не уговаривал меня взять письмо обратно. Он только сказал:
– Ты ведь понимаешь, что ничем мне помочь не можешь. Все уже решено.
Ни я, ни Борис тогда не знали, что я не была одинока, что очень резкое письмо протеста направила в президиум и Софья Васильевна Каллистратова.