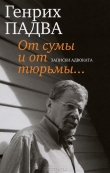Текст книги "Записки адвоката"
Автор книги: Дина Каминская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Я ни в какой мере не хочу сказать, что за годы нашей дружбы я считала Василия своим политическим единомышленником. Но я была уверена, что нас связывает общность взглядов на профессиональный долг.
Когда общие друзья говорили, что мы должны простить Василия, что он вынужден был поступить так, мы с этим согласиться не могли. Самсонов нас ничем не обидел. Просто он оказался не тем человеком. И нам уже не о чем было с ним разговаривать, а значит, и незачем было встречаться. Я думаю, что и он не вправе был ждать от меня благодарности. Непреклонность той линии, которую он провел в этом деле, определялась уже не заботой обо мне, а боязнью за свое положение. Ведь лично ему Московский комитет КПСС поручил организовать защиту соответственно с выдвинутыми требованиями.
Как бы перебирая все, только что написанное, моя память воскрешает прекрасные дни нашей дружбы. И время, когда мы вчетвером на террасе в благословенной подмосковной Жуковке, и долгие ночные разговоры. И, главное, ту атмосферу дружеской благожелательности, почти родственной любви, которая всегда окрашивала наши прошлые отношения. Мне было бы легче вовсе не вспоминать эту неприглядную историю, скрыть ее ото всех, благо мало кто об этом знал и еще меньше людей, которые об этом помнят. Я рассказываю это не только потому, что, приступая к книге, приняла решение писать все так, как это было, как я помню. Иначе вообще не стоило браться за это нелегкое для меня дело.
Главное, что заставило меня рассказать все это с такой дотошной подробностью, была давно преследующая меня мысль, что наибольшее зло в те послесталинские годы творили вовсе не злодеи и палачи, а соглашатели. Что, наверное, те врачи-психиатры, которые обрекали и обрекают здоровых людей на «пытку психиатрией», делают это тоже не потому, что причинять людям страдание является их внутренней потребностью. Вовсе нет. Их ставят в такие условия, когда они должны или подчиниться, или быть выброшенными.
А судьи? Разве не хотели бы они быть справедливыми и беспристрастными? Но и перед ними стоит тот же выбор. Мы – адвокаты, судьи, врачи-избрали себе профессию, которая дает нам право участвовать в разрешении чужих человеческих судеб. И если уж людям таких профессий пренебрегать своим профессиональным долгом во вред другому, зависимому от них, – лучше уж действительно идти в дворники.
Вот почему я тогда так сурово осудила поведение Самсонова.
Я рассказываю об этом с непрошедшим чувством боли и утраты. Я всегда считала Самсонова одним из лучших адвокатов моего поколения, не только в силу его таланта, но и по чувству личной ответственности, которое ему было присуще. Я жалею его потому, что и он оказался жертвой системы, которая либо подчиняет себе человека полностью, либо выбрасывает его.
О том, как дальше развивались события, мне осталось рассказать немногое.
Расставшись с Самсоновым, я тут же, как он просил, вызвала к себе в консультацию Марию и Ларису и передала им содержание нашего с ним разговора. Я сказала Ларисе, что от защиты Даниэля не откажусь, но сомневаюсь, что меня допустят к участию в деле.
Я ни разу – ни до, ни после – не видела Ларису и Марию в таком состоянии отчаяния и растерянности, как во время этого разговора. Ведь у них совсем не оставалось времени. В последнюю минуту их мужья остались без адвокатов. Кого искать? И стоит ли искать вообще, если каждый избранный ими адвокат будет поставлен в положение, при котором защищать невозможно?
На следующий день вечером я была в консультации на производственном совещании, когда мне вновь позвонил Самсонов:
– Только что от меня ушли эти дамочки. Не дай тебе бог когда-нибудь выслушать то, что они позволили себе сказать мне.
И он повесил трубку.
А еще через день от Ларисы я узнала, что они вынуждены были согласиться на кандидатуры других адвокатов, рекомендованных им Самсоновым.
Так закончилась длинная история о том, как я не защищала Юлия Даниэля. История, которая в «Белой книге» Александра Гинзбурга заключается в одной строке: «Кандидатура защитника Каминской была отведена Коллегией адвокатов без объяснения причин».
Глава вторая. Мой первый политический процесс
В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.
Конституция СССР 1936 года Статья 125
1978 год.
Позади отъезд из Советского Союза. Месяцы ожидания американской визы в Италии. Приезд в Соединенные Штаты. Первые встречи с американцами. Первое время вхождения в совершенно новую, во многом непонятную и неожиданную жизнь.
В тот вечер мы с мужем были гостями американской семьи.
Это не просто дружеское приглашение на обед. Нас, вынужденных покинуть Советский Союз, знакомят с американским инакомыслящим, американским борцом за права человека.
Мы сидим за столом, и каждый из нас высказывал суждение о том, чего он не знал. Наш собеседник ничего не знал о жизни в Советском Союзе. Мы имели только первое и потому очень приблизительное представление об Америке. Он утверждал, и пытался в этом убедить и нас, что в Советском Союзе есть подлинная свобода слова и убеждений, что СССР – страна демократическая. А то, что сажают в тюрьмы, судят и осуждают за политические преступления, – это, конечно, нехорошо.
– Но ведь это не только у вас, – говорил он. – В Америке тоже нарушают права человека, тоже есть свои политические судебные процессы, свои несправедливо осужденные.
Это был долгий и нелепый спор безо всякой надежды на взаимопонимание. И хотя мы говорили как будто об одном и том же, каждый из нас вкладывал в этот термин – «политическое преступление» – привычный для социальной системы своей страны смысл.
Когда я рассказывала о политических процессах, в которых участвовала сама, наш оппонент слушал меня с явным недоверием. Он не мог поверить, что единственным основанием ареста и осуждения может явиться открытое и публичное выражение мысли. Что по какой бы статье Уголовного кодекса ни были осуждены советские борцы за права человека (по статье ли 70 – антисоветская агитация и пропаганда или по ст. 190-1-3 – грубое нарушение общественного порядка и клевета на советский общественный и государственный строй), они отбывают годы тюрьмы, лагеря и ссылки только за то, что воспользовались дарованным им Конституцией правом на свободное выражение своих убеждений или своего отношения к конкретным действиям советского правительства.
С подобным недоверием мне потом приходилось сталкиваться довольно часто.
– Наверное, их обвиняли в чем-то еще. Не может быть, чтобы их судили только за это.
Так реагировали на мои рассказы и начинающие жизнь американские студенты, и люди с большим жизненным опытом.
Вот почему я решила начать эту главу с рассказа, который буду вести не я, а представители советского правосудия. Я хочу, чтобы с этих страниц зазвучали их жесткие голоса. Пусть вместо меня говорят следователи прокуратуры и КГБ, судьи высших судебных инстанций, члены специально созданного комсомольского отряда при Московском комитете ВЛКСМ. Пусть они сами дадут обоснование обвинительному приговору. У меня есть возможность вести рассказ от их имени: передо мной – выписки из реального уголовного дела.
Итак: «Уголовное дело «О грубом нарушении общественного порядка».
СЛЕДСТВИЕГоворят свидетели – члены комсомольской оперативной дружины. Протокол допроса свидетеля Малахова 26 января 1967 года (том 1, лист дела 14):
Я член комсомольской оперативной дружины. 22 января сего года нас известили о необходимости наблюдать за порядком на площади Пушкина, так как там ожидается какое-то нарушение. Мы прибыли на площадь вечером, примерно в 5 часов 30 минут – 5 часов 40 минут. Около 6 часов у памятника Пушкина собралась группа молодежи, думаю, человек 30. Они стояли около самого памятника тесной группой. Вскоре появились три плаката на белом материале. На одном из плакатов было написано: «Свободу Добровольскому, Галанскову, Лашковой и Радзиевскому». Нам было известно, что это имена лиц, недавно арестованных органами КГБ. На двух других: «Требуем пересмотра статей 70 и 190 Уголовного кодекса как противоречащих конституции».
Я и командир отряда Двоскин подошли к ближайшему плакату об отмене антиконституционного Указа. Его держали девушка и парень. Я попросил их отдать плакат. Они отдали без сопротивления. Все произошло очень быстро и тихо.
Протокол допроса свидетеля Клейменова 26 января 1967 года (том 1, лист дела 144):
Я являюсь инструктором Городского комитета ВЛКСМ и начальником оперативного отряда при Московском комитете комсомола.
Вместе с членами оперативной комсомольской дружины я 22 января сего года вел наблюдение на площади Пушкина. Нас предупредили, что мы должны явиться на площадь вечером, после 5 часов 30 минут. Примерно в 5 часов 45 минут члены дружины начали наблюдение, рассредоточившись в нескольких пунктах. К 6 часам на площади собралась группа молодых людей, которые подошли к памятнику Пушкина. Их было человек 20. Затем несколько человек из этой группы встали на постамент и молча подняли над головой антисоветские лозунги.
Увидев, что содержание лозунга антисоветское, мы быстро окружили эту группу и отобрали лозунги.
Один из участников, сейчас мне известна его фамилия – это Хаустов – начал сопротивляться и лозунга не отдавал. Завязалась борьба. Когда мы возились с Хаустовым, я услышал чей-то голос из группы, стоявшей на пьедестале: «Не сопротивляйся! Витька, не сопротивляйся». Хаустов сопротивление прекратил, и его доставили в штаб дружины на Советской площади. Вообще на площади было тихо. Когда уже увели задержанных и граждане стали расходиться, высокий молодой человек в толпе выкрикнул: «Долой диктатуру». Наши дружинники его немедленно задержали и тоже доставили в штаб. Он оказался Евгением Кушевым. Больше никто никакого сопротивления не оказывал.
Абсолютно аналогичные показания дали все остальные члены оперативной дружины и несколько работников милиции.
В последних числах марта 1967 года расследование дела подошло к концу. Уже допрошены свидетели, обвиняемый, их родственники, друзья и просто знакомые. Следователь должен составить последний документ по делу – обвинительное заключение. Но этого не произошло. Говорит прокурор города Москвы Мальков.
Препроводительное письмо от 8 апреля 1967 г.
(том III, лист дела 1).
Начальнику Комитета Государственной Безопасности по Москве и Московской области генерал-лейтенанту Светличному. Направляется в порядке статьи 126 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР дело по статье 190-3 Уголовного кодекса РСФСР для дальнейшего расследования.
Препроводительное письмо прокурора Малькова – это образец циничного нарушения закона.
Статья 126 Уголовно-процессуального кодекса не давала права прокурору Москвы направить дело в КГБ.
По делам о преступлениях, предусмотренных статьями. 190-1, 190-2, 190-3 Уголовного кодекса РСФСР, предварительное следствие производится следователями органов прокуратуры.
Эта статья запрещает следственному аппарату КГБ расследовать дела, отнесенные к подследственным прокуратуры.
Передача дела из прокуратуры в КГБ обычно свидетельствует, что делу придается особое значение, что по важности оно приравнивается к особо опасным государственным преступлениям.
В августе 1967 года следствие закончилось. Было составлено обвинительное заключение.
Говорят старший следователь КГБ капитан Смелов – автор этого документа, начальник Следственного управления КГБ по Москве и Московской области полковник Иванов и начальник Управления КГБ по Москве и Московской области генерал-лейтенант Светличный, утвердившие обвинительное заключение (том III, лист дела 248):
…будучи знаком с Галансковым, Лашковой, Радзиевским, Добровольским, встал на незаконный путь выражения своих требований и организовал демонстрацию с требованием их освобождения и пересмотра статей 70 и 190-1-3 Уголовного кодекса РСФСР. На его квартире был изготовлен лозунг «Свободу Добровольскому, Галанскову, Лашковой и Радзиевскому». Он пригласил других лиц на демонстрацию и сам принимал в ней активное участие, держа лозунг.
Следовательно, совершил преступление, предусмотренное статьей 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.
Человека, о котором говорится в этом документе, защищала я. Я признавала все: и то, что он организовал демонстрацию, и то, что сам участвовал в ней, и то, что изготовил лозунг, а затем на площади молча поднял его над своей головой. Я не признавала только того, что это – уголовное преступление.
Свобода демонстраций гарантируется советской Конституцией. Более того, в Советском Союзе нет таких законов, инструкций или циркуляров, которые запрещали бы участие в самодеятельных демонстрациях или регламентировали бы порядок их проведения. Вот почему я заявила следователю Смелову ходатайство о прекращении дела «за отсутствием состава преступления в действиях моего подзащитного».
Следователь Смелов в этом ходатайстве мне отказал. Я защищала этого человека в Московском городском суде и просила о его оправдании.
Судебная коллегия Московского городского суда под председательством судьи Шаповаловой признала его виновным и осудила к максимальной по статье 190-3 мере наказания – к трем годам лишения свободы.
Я обжаловала этот приговор в Верховный суд РСФСР.
В кассационной жалобе я писала:
Не оспаривая фактических обстоятельств дела, изложенных в приговоре, считаю, что они не дают оснований для признания моего подзащитного виновным в совершении уголовного преступления.
Я просила Судебную коллегию Верховного суда РСФСР:
Отменить приговор Судебной коллегии Московского городского суда и дело производством прекратить.
Говорят члены Судебной коллегии Верховного суда РСФСР Карасев, Ершов, Гаврилин:
Сам осужденный не отрицал, что он организовал сбор людей на площади с тем, чтобы публично объявить требования о пересмотре уголовных законов и освобождения его знакомых, арестованных за антисоветскую агитацию и пропаганду, для чего составил тексты лозунгов и сам изготовил один из лозунгов. Он также не отрицал, что принял активное участие в организованной им демонстрации.
Суд обоснованно пришел к выводу, что этими действиями был грубо нарушен общественный порядок.
Приговор Московского городского суда был оставлен в силе. Осужденный полностью отбыл весь трехгодичный срок наказания. Я ничем не смогла ему помочь.
Я проиграла в этой битве с советским правосудием. Проиграла в споре о том, имеют ли граждане СССР право на публичное выражение своих мнений, имеют ли они право на демонстрации. А теперь отступление.
Я сижу за большим письменным столом. Напротив меня молодой человек. На нем клетчатая рубашка с отложным воротником. Коротко, по-тюремному остриженные волосы. Что-то – может быть, выражение глаз, высокий лоб, ощущение внутренней силы – напоминает портреты молодого Ленина.
Время действия – конец июля 1967 года. Место действия – Лефортовская тюрьма, следственный изолятор КГБ.
Действующие лица – я и мой предполагаемый подзащитный. «Предполагаемый» не потому, что я еще не дала согласие на защиту. Мною решение уже принято. Не решил еще он.
– Вы член КПСС?
– Нет.
– У вас есть допуск к политическим делам?
– Есть.
Это не следователь задает мне вопросы. Это меня допрашивает мой подзащитный. Это он обвиняется в организации демонстрации у памятника Пушкину 22 января 1967 года. Это он держал лозунг «Требуем пересмотра и отмены антиконституционных законов».
Так состоялось мое первое знакомство с человеком, имя которого теперь стало знаменитым. Это он удостоился вполне заслуженной чести быть гостем английской королевы и беседовать с президентом США Картером. Это его, «недоучившегося студента», «уголовного преступника», «тунеядца», «хулигана» (так писали о нем в советских газетах) советское правительство обменяло на генерального секретаря Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. Имя этого человека Владимир Буковский. И было ему тогда 24 года. И не было известности, славы, сопутствующего им почета.
За 24 года он достиг очень малого. Окончил школу и поступил на биологический факультет Московского университета. Потом был из него то ли исключен, то ли отчислен «по собственному желанию». Ни профессии, ни того, что принято называть общественным положением.
Следствие по его делу закончено. Нам предстоит вместе знакомиться со всеми материалами, заявить ходатайства, а затем ждать суда. Мы почти не разговариваем. И не потому, что мешает сидящий рядом с нами следователь. Нам просто пока не о чем говорить. И о чем, действительно, беседовать с человеком, который начинает знакомство с обидного недоверия, на которое у него есть право.
Он меня не знает. Наличие допуска в его глазах говорит явно не в мою пользу. И я не пытаюсь разубедить его. Единственное, что можно противопоставить этому недоверию, – это сказать, что буду просить о его оправдании. Но и этого пока сделать не могу – ведь я еще не читала дела. Не знаю показаний свидетелей, не знаю правовой аргументации обвинения. И я говорю ему то единственное, что соответствует правде:
– Мне надо ознакомиться с делом. Только тогда я скажу свои выводы, скажу о той позиции, которую смогу занять в суде. Я хочу, чтобы вы понимали, что мною могут руководить только эти соображения. Если я буду считать, что в ваших действиях есть состав уголовного преступления, я вам об этом скажу, и мы сможем расстаться. Если же материалы дела дадут мне возможность утверждать, что нарушения общественного порядка не было, что демонстрация не препятствовала нормальной работе транспорта, я, естественно, должна буду ставить вопрос о вашем оправдании. Другой позиции у юриста быть не может. А я – юрист.
Вот мы и сидели друг против друга и работали. Я тщательно переписывала все показания свидетелей, обвиняемых, протоколы многочисленных обысков. Это мое досье. То досье, которое удалось привезти с собой и которое дает мне возможность сейчас рассказать об этом деле.
А теперь говорит Владимир Буковский.
Протокол допроса подозреваемого 26 января 1967 г. (том II, лист дела 7).
Виновным себя не считаю. Мне не понятно, в чем меня подозревают. То, что произошло на площади Пушкина 22 января, не считаю нарушением общественного порядка. 22 января в 18 часов я находился на постаменте памятника Пушкину. Всего к памятнику собралось около 50 человек. Кто именно – говорить отказываюсь. Примерно через три минуты были подняты транспаранты: «Свободу Добровольскому, Галанскову, Лашковой и Радзиевскому» и «Требуем пересмотра статьи 70 и нового Указа, противоречащих Конституции». Я являюсь участником демонстрации и полностью разделяю эти требования. Никаких нарушений общественного порядка не было. Работу транспорта никто не нарушал. Через несколько минут на площади появились люди, не имевшие повязок или других отличительных знаков, указывавших на то, что они – представители власти.
Не представляя никаких документов, с разного рода криками и угрозами они набросились на демонстрантов и стали вырывать плакаты. На площади я держал плакат с требованием пересмотра законов. На все вопросы, относящиеся к участию в демонстрации других лиц, отвечать отказываюсь.
Протокол допроса обвиняемого Буковского 6 марта 1967 г. (том II, лист дела 11).
Виновным себя не признаю. Статьи 70 и 190-3 считаю антиконституционными и антинародными.
Считаю демонстрацию не нарушением общественного порядка, а гарантированным конституцией правом. Я являюсь одним из организаторов и инициатором демонстрации и активным ее участником.
Протокол допроса обвиняемого Буковского 27 марта (том II, лист дела 13).
Почти всех участников демонстрации приглашал я; кого конкретно – не назову. 22 января у себя на квартире я собрал часть участников демонстрации – примерно 30 человек. Я инструктировал их о порядке проведения демонстрации. Было твердо решено не оказывать никакого сопротивления представителям власти и при первом же требовании расходиться.
Эти последние показания, которые Владимир давал следователю прокуратуры.
Много раз потом, выступая в других политических процессах, я думала о том, насколько легче быть мужественным в суде, чем на следствии. В судебном заседании сама обстановка, присутствие слушателей и зрителей, даже та минимальная гласность, которой сопровождаются политические суды в Советском Союзе, создают дополнительный и очень мощный импульс для проявления мужества. Сознание того, что тебя слышат, что твои слова станут известны товарищам и единомышленникам, – это огромная нравственная поддержка.
А в групповых процессах, где рядом с тобой равные тебе товарищи по скамье подсудимых, поведение каждого – пример и помощь другому.
Буковский был один. Он давал показания безо всякой надежды на то, что они станут кому-нибудь известны.
И в самом деле, мог ли он предположить, что я, его адвокат, через многие годы буду радоваться тщательности, с какой переписывала тогда эти поразившие меня показания.
Не предполагала такой возможности и я. Просто готовилась к очень трудной защите (ведь это было первое политическое дело в моей адвокатской практике) и выписывала все то, что могло мне для этой защиты понадобиться в суде. Но, читая показания Владимира, оценивая их, я с каждой страницей дела все больше поражалась его твердости, все больше думала о том, какую дорогую цену готов платить этот еще только начинающий жить человек за то, чтобы быть самим собой, за право думать и говорить то, что он думает.
Я уважала Буковского за твердость, с которой он отстаивал свои взгляды, за то, как он оберегал своих товарищей. Во всех своих показаниях он употреблял только одно местоимение – «я». «Я организовал», «Я инструктировал», «Я предлагал тексты лозунгов».
Он ни разу не ответил ни на один вопрос о роли и действиях других участников демонстрации, ни разу не назвал их имен. Не изменил он своего поведения и тогда, когда узнал, что он одинок. Что наступил такой этап следствия, когда один из участников демонстрации вообще перестал употреблять местоимение «я», а говорил только «он».
В книге Буковского «И возвращается ветер…» есть такие строчки:
Быть одному – огромная ответственность. Прижатый к стене человек сознает: «я» – народ, «я» – нация… и ничего другого. Он не может пожертвовать своей честью, не может разделиться, распасться и все-таки жить. Отступать ему больше некуда. И инстинкт самосохранения толкает его на крайность – он предпочитает физическую смерть духовной.
Это высокое чувство личной ответственности, органическая невозможность пожертвовать своей духовной свободой являются той основой, которая определяет сознательный героизм. Порождает ситуацию, когда героизм становится естественной, единственно возможной для человека формой его поведения. Это дано немногим. Владимиру это было дано. Но возможность нравственного противостояния далась и ему не сразу, а с приобретением определенного жизненного опыта. Печального опыта преследований КГБ, обысков, допросов, арестов, тюремной жизни.
Его арестованные товарищи по демонстрации были намного моложе его. Их оппозиционность к существующему в стране режиму определялась скорее эмоциональным неприятием жестоких требований цензуры к людям искусства (оба они были начинающими поэтами), чем сложившимися политическими убеждениями. Они согласились принять участие в демонстрации протеста против ареста их товарищей импульсивно, а потом сомневались в правильности принятого решения. Оба они пошли на демонстрацию не потому, что видели в этом личную потребность, а скорее потому, что «неудобно отказаться», «неудобно изменить данному слову».
Арест стал первым в их жизни настоящим столкновением с мощью советского аппарата подавления.
Итак, говорит второй участник демонстрации Евгений Кушев.
Допрос подозреваемого 24 января 1967 г. (том I, лист дела 92).
Я полностью признаю себя виновным по статье 190-3 Уголовного кодекса РСФСР в том, что принял участие в сборище, грубо нарушившем общественный порядок в городе Москве. Буковский предложил мне принять участие, и я не отказался. Я пришел на площадь Пушкина уже тогда, когда все начали расходиться. Это было в 18 часов 10 минут. Мне рассказали, что дружинники задержали несколько человек и увезли их. Мне было неудобно, что я не пришел на демонстрацию, и потому я решил крикнуть «Долой диктатуру». Ко мне подошли какие-то люди и увели меня. С этого дня я нахожусь под стражей. Я очень раскаиваюсь в том, что согласился на предложение Буковского, тем более что вовсе не разделяю его взглядов. Я осуждаю свое поведение.
В этих показаниях Кушева нет ничего, что могло бы ухудшить положение Буковского. Буковский сам признавал, что был одним из организаторов демонстрации, и Кушев, несомненно, был осведомлен об этих его показаниях.
Все последующие показания Кушева для меня, защитника Буковского, особого интереса не представляли. То, что он говорил о Владимире, относилось больше к их литературным интересам и попытке создания молодежного литературного объединения «Авангард».
На вопрос о политических взглядах и убеждениях Буковского Кушев ответил:
– На политические темы мы с ним не разговаривали. Никакой эволюции в этих показаниях не было. Свое раскаяние и сожаление о случившемся он пронес от начала следствия и до самого его конца.
По-иному выглядят показания Вадима Делонэ.
Говорит Вадим Делонэ.
Показания подозреваемого 27 января 1967 г. (том II, лист дела 39).
Считаю, что нарушения общественного порядка не было. Я, совместно с Хаустовым, держал лозунг «Свободу Добровольскому, Лашковой, Галанскову и Радзиевскому». Никакого сопротивления не оказывал. Лозунг отдал по первому требованию.
Допрос обвиняемого 6 марта 1967 г. (том II, лист дела 41).
Виновным себя не признаю. Считаю, что статьи 70 и 190-1-3 неконституционные. На площадь Пушкина я пришел, чтобы выразить свой протест против этих статей и ареста моих знакомых Добровольского, Галанскова и других.
Что случилось с Вадимом потом, когда расследование дела перешло в руки КГБ? Почему остальные его показания звучат совсем по-другому?
Я вправе высказать лишь те мысли и предположения, к которым пришла еще тогда, знакомясь с делом.
Возможно, два месяца тюрьма исчерпали его силы. Он не мог больше сопротивляться страху перед неизбежным наказанием, противостоять соблазну обрести свободу, заплатив за это нравственным осуждением демонстрации, открытым раскаянием в том, что пришел, чтобы в ней участвовать.
Когда я впервые увидела Делонэ, совсем мальчика, красивого, интеллигентного и раздавленного той ролью, которую ему предстояло сыграть в суде, у меня не достало духа осудить его, хотя все его последующие показания создавали тяжелый фон в обвинении Буковского. Не осудило его тогда и общественное мнение. Но суд его собственной совести оказался более суровым и непримиримым. И я уверена, что в значительной мере именно потребность самореабилитации, потребность вернуть себе право на самоуважение привели его 25 августа 1968 года на Красную площадь и толкнули на участие в демонстрации протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. Вадим заслужил право на самоуважение тем спокойным мужеством, с которым держал себя во время суда в 1968 году. Именно это заставило меня назвать его имя, имя человека, тюрьмой, лагерем и вынужденной эмиграцией полностью искупившего ту давнюю вину, которую многим другим безоговорочно и легко прощали. Вину, которую многие легко прощали сами себе.
16 марта 1967 года Делонэ обратился к следователю с «Заявлением о чистосердечном раскаянии».
В этом заявлении были все те слова, которыми люди обычно осуждают свое поведение и поступки. Сожаление о прошлом, обещания на будущее. Не удивило меня и то, что этим «сожалениям» была придана строгая правовая форма. Следователи часто подсказывают такие формулировки обвиняемым. Это делается тогда, когда целью следствия перестает быть проверка доказательств. Это случается тогда, когда все усилия следствия направлены на то, чтобы добиться раскаяния.
В деле о демонстрации раскаяние следствию было необходимо. Властям нужно было организовать судебный процесс над людьми поверженными. Я думаю, что передача, вопреки закону, дела из прокуратуры в КГБ преследовала эту цель. Здесь действовал фактор устрашения. И не только за счет «солидности фирмы», но и потому, что передача дела КГБ – свидетельство большей тяжести преступления, большей опасности его для общества.
Но когда одного устрашения мало, его обычно подкрепляют обещанием свободы. Вот почему следователь не ограничился тем, что просто записал в протокол допроса Делонэ: «Я раскаиваюсь, я сожалею о содеянном». Ему нужно было, с одной стороны, закрепить это раскаяние так, чтобы от него нельзя было отказаться. С другой – облечь это раскаяние в такую форму, которая дала бы суду основание применить к Вадиму меру наказания, не связанную с лишением свободы. Ведь когда следователь говорил Делонэ, что в случае чистосердечного раскаяния наказание, которое изберет суд, не будет суровым, он не обманывал его. Он знал, что суд несомненно согласится с предложениями о мере наказания, которые будут исходить от такого мощного органа, как КГБ.
Так появился в деле документ, названный «Явка с повинной». Итак, «Явка с повинной» (том II, лист дела 60).
Буковский очень сильно воздействовал на меня.
Буковский считал, что можно добиться чего-то только демонстрациями, а иначе нас просто танками раздавят.
Далеко идущие планы Буковского, которые зиждутся на его глубокой неприязни, если не сказать – ненависти – к коммунизму, меня отнюдь не устраивали.
А вот и то, ради чего обвиняемый все это писал:
Я пишу это потому, что, если мое дело не передадут в суд или мерой наказания будет не заключение, я приложу все силы к исправлению своих ошибок и предостерегу других. А это будет небесполезно.
Этот документ, обеспечивающий обвиняемому бесспорное снисхождение суда, открывал новый этап следствия.
А 31 мая 1967 года появляются самые тяжелые из показаний Делонэ против Буковского (том III, лист дела 107):
Буковский лидер молодежного подполья.
Буковский политик со сложившимися убеждениями, что при существующем государственном строе демократические преобразования невозможны. Мечта Буковского – создание в нашей стране многопартийной системы. Я понимал, что его позиция близка к антисоветчине. Я понимал, что мне с ним не по пути.
Трудно сказать, ограничивались ли намерения КГБ в этот период расследования только задачей психологического воздействия на Буковского, желанием добиться компромиссного соглашения с ним, надеждой на то, что под угрозой привлечения по статье 70 Уголовного кодекса он согласится покаяться в суде, осудить сам факт демонстрации и свою роль в ее организации. Или действительно было намерение дополнительно предъявить ему обвинение в антисоветской агитации и пропаганде. Бесспорно одно – запугать, деморализовать Владимира им не удалось.