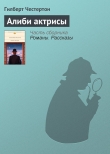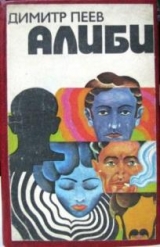
Текст книги "Алиби"
Автор книги: Димитр Пеев
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
– Да, это ясно. – Полковник Марков кивнул. – Продолжайте.
– Длительность передачи составляет треть или половину секунды. Но, несмотря на все эти меры предосторожности, аппарат снабжен также стирающим устройством. Сразу после передачи записи она уничтожается магнитным способом. Поэтому установить, что было записано на катушке, мы не смогли.
Впечатление производит и пусковой механизм. Он прост, состоит из стеклянной трубочки, к которой подведены два электрода. В ней мы нашли разъеденную ампулу с электропроводной жидкостью, которая замыкает цепь. Это показывает, что аппарат начинает действовать через какое-то время после того, как в ампулу поставят трубочку. Маленький аккумулятор питает электрическим током передатчик, магнитофон и другие узлы.
Особый интерес представляет механизм шифра. Он связан с термитным патроном и через магнитофон – с радиопередатчиком. Если диск с цифрами начнет вращать непосвященный, уже при первой неправильно набранной цифре включается магнитофон, который передает через радиопередатчик условный сигнал «ноль-ноль-ноль», после чего воспламеняется термитный патрон. Его заряда достаточно, чтобы полностью растопить и окончательно уничтожить аппарат.
– Надеюсь, что, пока вы изучали аппарат, он не передал условного сигнала, – сказал Марков.
– Конечно, – с улыбкой ответил инженер Тихолов. – В заключение могу сказать, что найденный аппарат предназначен для передач на очень близкие расстояния. Он включается с замедлителем, чтобы нельзя было засечь место излучения передачи. В случае необходимости, аппарат полностью уничтожается. При этом принимающая станция сигналом «ноль-ноль-ноль» уведомляется о времени уничтожения передатчика.
– А отпечатки пальцев? – спросил Марков.
– Товарищ Пенчев тщательно обследовал все детали, – вмешался Влахов, – но никаких следов обнаружить не смог даже на катушке и ампуле, которые сменяются при каждой новой передаче. Работали, очевидно, в перчатках.
– Ишь ты! – сказал Марков. – Значит, все принятые конструкторами меры предосторожности показались недостаточными. Давно не приходилось сталкиваться с такой предусмотрительностью.
Подполковник Ковачев медленно листал дело, читал показания, протоколы, рассматривал фотографии, схемы. Хорошо Влахов провел эту работу. По его небрежному виду нельзя было предположить такой аккуратности.
Ковачев медленно закрыл папку. Ничего не скажешь – доказательства собраны заботливо, исчерпывающе. Едва ли осталось что-либо непроверенное в этом деле. Нет только выводов. Да, с выводами дело обстоит сложнее...
Вошел полковник Марков. Хлопнул дверью и оперся на нее. Пожелтевший, с перекошенным от боли лицом, он указал на графин и сжал обеими руками живот.
Ковачев вскочил. Налил стакан воды, достал коробочку с содой и подал Маркову. Полковник нетерпеливо высыпал белый порошок прямо на ладонь, привычно проглотил его и выпил залпом воду.
– Ох... – болезненно простонал он. – Схватила меня, проклятая, совсем неожиданно... В середине доклада. Едва вытерпел. Но он ничего не заметил.
Председатель Комитета государственной безопасности вызвал полковника Маркова на доклад. И тут вдруг дала о себе знать язва, мучившая его уже много лет.
Сода начала действовать. Лицо Маркова прояснилось. Только тогда Ковачев спросил его:
– Ну?
– Что «ну»?.. Наше дело, конечно. Что еще? А мне не нравится эта история. В ней есть что-то такое... – Марков пощелкал пальцами. – Что-то подлое...
– Дело обещает быть интересным.
– Я тебе обещаю только неприятности в связи с ним. Ничего другого. Поверь мне, у меня собачий нюх на такие дела.
– Вы поручите его мне?
– Нет, браток, его уже поручили... мне. Лично мне. И все из-за коробки. Слишком специальная техника! Как раз для начальников.
Марков тяжело опустился на стул. Оба замолчали.
Неизвестно почему, Ковачев решил, что расследование этого дело поручат ему. Не надумал ли полковник отправить его наконец в отпуск? Как раз сейчас, когда вернулась из отпуска жена.
– Вот! – Полковник подал ему папку. – Возьми. Сейчас она мне не нужна. Ты будешь заниматься тем, что в этой папке, – убийством из ревности и самоубийством из-за угрызения совести. Одним словом, любовной линией. А я – остальным, шпионажем. Так мы и распределим работу.
Значит, Ковачеву предстоит довести до конца расследование по делу об убийстве Якимовой, начатое криминальным отделом. Правильно ли поступает полковник Марков? Не лучше ли и ему, Ковачеву, заняться главным? Впрочем, разве можно сейчас сказать, что в этом деле главное, а что нет?
– Какие будут указания, товарищ полковник?
– Каких указаний ты ждешь? Не маленький. Задача ясна: кто и почему убил Якимову и что это за мистика – телефонные звонки, встречи, одеколоны, портреты... Всего этого пока с тебя хватит. – Марков на секунду умолк, потом добавил:
– Впрочем, если хочешь, я дам тебе указания. Или нет, совет. Не иди по пути Влахова. Ищи новых путей, понял?
– Хорошо. А вы, товарищ полковник?
– И для меня найдется работа, не беспокойся. Соберу ребят, дам им задачи. Задачи... Пока я придумал только одну: установить прослушивание в диапазоне, в котором работал обнаруженный передатчик. Знаю, идея не слишком гениальная, но что делать!.. Другой еще не пришло в голову.
– Я тоже должен остаться?
– Нет, ты мне не нужен. Действуй.
Марков встал.
– Придется нам обоим как следует поработать, Асен, – сказал он и хлопнул своего заместителя по плечу. – Возьмись за дело по-мужски. Сам видишь: мы не знаем, кто передает... Сейчас только одно ясно – что ничего неясно.
Ковачев на минутку зашел в свой кабинет убрать папку с материалами следствия. Здесь ему нечего было делать. Он решил пройтись по парку. Сослуживцы знали его привычку прогуливаться, когда нужно было напряженно думать. Сначала это казалось им странным. Но скоро они приняли его таким, какой он есть. В конце концов, где сказано, что человек работает на полную мощность только тогда, когда сидит, склонившись над папкой, окутанный клубами сигаретного дыма.
Служащие группами выходили из учреждений. Одни направлялись домой, другие – за покупками, третьи – на стадион. А для него рабочий день только начинался. Нужно было все продумать.
Улицы, ведущие к парку, подполковник Ковачев миновал быстрыми шагами, но, едва пересек бульвар Евлогия Георгиева, пошел медленнее.
Майор Влахов подробно доложил о деле. Его рассказ был добросовестным, исчерпывающим. И все-таки он не удовлетворял Ковачева. Не только потому, что в тоне коллеги из угрозыска проскальзывала обида. Мол, попадается интересное дело, его у нас сразу отбирают. Слушая доклад, Ковачев не мог освободиться от ощущения, будто его ведут мимо аптечных полок, где стоит множество пузырьков с доказательствами и склянок с фактами, но все без этикеток – не знаешь, где нужное целебное средство и где смертоносная отрава. Это бессистемное нагромождение фактического материала обескураживало.
С утра Ковачев несколько раз подряд прочел все материалы следствия. Отдельные документы изучил досконально. И теперь в его сознании всплывали показания свидетелей, заключения экспертов, фотографии и схемы. В голове царил хаос бесчисленных фактов, они набегали волнами, подавляя мысли.
А сколько возникало вопросов, на которые не было ответа! Кто убил Якимову? Каменов или кто-то другой? А если другой, то кто? Почему он убил ее? Имела ли эта любовная история какую-то связь с обнаруженным передатчиком? Кому принадлежал передатчик? Каменову? Почему он покончил с собой?
Замешан ли в этом деле Лютичев – человек, который передал милиции серую коробку, в то время как имел возможность ее уничтожить? Вопросы, вопросы... И ни одного ответа.
Откуда начать, где конец нити этого запутанного клубка? Как вытянуть нить, не запутав его еще больше?
Сидя на скамейке и глядя перед собой, Ковачев не замечал кипящей вокруг жизни: малыши играли в свои незамысловатые игры, матери кормили младенцев, студенты листали учебники, готовясь к экзаменам, бабушки катили коляски, пенсионеры читали газеты... А в его уме факты сменялись фактами. Словно фигуры на шахматной доске – можешь переставить какую захочешь. И так, и эдак... Переставишь, и положение усложняется еще больше. Потому что всякий ход открывает десятки возможностей, каждая из которых предлагает новые...
Взять, к примеру, один факт – обнаружение передатчика.
Допустим, что с ним работал Слави Каменов. Передавал шпионские сведения. Но какими сведениями мог располагать он, адвокат? А сведения, видимо, были очень важными, раз шпиона снабдили совершенной, ультрасовременной техникой. Очевидно, кто-то ему их давал. Кто? И почему именно ему? Нужно проверить, изучал ли когда-нибудь Каменов радиодело, был ли знаком с электронной техникой.
А Лютичев? Не подозревал о шпионской деятельности своего приятеля или же был его соучастником? Но ведь он сам отдал им коробку.
Может быть, Якимова была соучастницей Каменова? А их отношения служили лишь ширмой для прикрытия нелегальной деятельности. Каменов убил ее из ревности или, может быть, по приказу? Убил не свою любимую, а провинившуюся сообщницу.
А может быть, Каменов совсем не шпион. Он нашел аппарат у Стефки. Взял его. И исчезновение передатчика стало причиной убийства Якимовой. Убийца Якимовой – человек, с которым она была в ресторане. Каменов его знал, знал, кто убийца. Поэтому и сказал Доневым: «Стефка убита. Я пойду сообщу в милицию». Но почему вместо этого он спрятался у своего приятеля? Возможно ли, чтобы Лютичев был замешан в этом деле?.. Ну, хватит!
Задавать вопросы – почему так поступили Каменов, Якимова, Лютичев, – и совсем не знать этих людей! Так нельзя. Двое из них уже мертвы. Но с Лютичевым он может встретиться, как только пожелает. Сейчас время подходящее – наверно, Лютичев уже вернулся домой.
Ковачев медленно поднялся и отправился в Лозенец.
Он помнил адрес и легко нашел улицу и дом. Обветшалый деревянный забор, свежевыкрашенный зеленой масляной краской. Сквозь деревья проглядывал маленький одноэтажный домик.
Лютичев копался в саду. Ковачев оглядел его стройное, мускулистое тело. Голый до пояса Лютичев пропалывал сорняки на грядках. Его лицо, фигура, каждое движение словно излучали порядочность, честность трудового человека.
Лютичев краем глаза заметил остановившегося у забора незнакомого человека. Выпрямился и взглянул на него.
Ковачев вошел в калитку.
– Здравствуйте. Я пришел поговорить о Слави Каменове.
Тень пробежала по лицу Лютичева.
– Чего говорить. Вы кто такой?
Пришлось предъявить служебное удостоверение. Но и это не растопило льда, сразу образовавшегося между ними. Ковачев хотел поговорить с Лютичевым не как со свидетелем, а как человек с человеком, как коммунист с коммунистом. Поговорить дружески, вместе попытаться разрешить вопрос, который, наверное, мучает их обоих. Но как сказать об этом, внушить доверие к себе? Является какой-то незнакомец, тычет служебное удостоверение и лезет с интимными разговорами, хочет копаться в твоей душе, в твоих воспоминаниях.
Лютичев пригласил его войти в дом, но Ковачев предпочел посидеть в садике, под деревом. Хозяин пошел принести стулья. Поджидая его, Ковачев думал о том, что самым естественным, самым человеческим было бы допустить, что Лютичев – честный гражданин, который ничем не провинился ни перед законом, ни перед своей совестью. Что он принял друга детства так, как и он, Ковачев, принял бы, скажем... Вельо, если бы Вельо неожиданно приехал из Стара-Загоры и попросился переночевать у него на квартире...
Появился Лютичев. Они сели. Секунду оба смотрели друг другу в глаза. Ковачев приветливо улыбнулся. И в глазах Лютичева словно зажегся огонек,
– Я хочу вас попросить, чтобы вы рассказали мне что-нибудь о Слави. Но не как следователю, а как человеку. Представьте, что я приятель Слави, который хочет понять, что он был за человек, почему покончил с собой.
– Вы его знали? – неожиданно спросил Лютичев.
– Нет, я никогда не встречался с ним. Даже трупа его не видел. Знаю его только по фотографии...
«Эх, ты... приятель, человек... а сам предъявил для начала служебное удостоверение, – подумал Лютичев. – Даже не видел его. Эх, вы!»
Сначала неохотно, словно по принуждению, Лютичев рассказал, как они вместе с Каменовым росли на одной улице. Постепенно воспоминания увлекли его, он оживился, начал пускаться в подробности – как они дрались с соседскими ребятами, как он, Лютичев, был предводителем.
– Чуть хулиганом не стал, но потом, после казармы, набрался ума. Женился, и Слави стал моим кумом.
Из его рассказа было ясно, что Лютичев любил своего приятеля за его добродушный, спокойный характер, за его отзывчивость и скромность. Но после того, как Каменов поступил в университет, они виделись все реже – «раз-два в год».
– И все-таки в последние дни перед смертью он пришел к вам. Эти дни были для него особенно важными. В его жизни разыгралась какая-то трагедия, которая заставила его наложить на себя руки.
Лютичев помолчал, внимательно оглядел Ковачева, словно оценивая его, и твердо сказал:
– Слави не покончил с собой!
– Как так! Вы уверены?
– На сто процентов!
– Но вы же сами сказали в районном управлении, что он покончил с собой.
– В первый момент, когда я увидел его всего в крови, с перерезанными венами, то так и подумал. Что еще я мог тогда подумать? Но потом... Со вчерашнего дня только это у меня на уме. И чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь...
– Вы все же не сказали мне, что заставило вас переменить свое мнение. Может быть, какие-нибудь неизвестные нам факты?
– И факты есть, но не это главное, – сказал Лютичев. – Вам может показаться, что Слави покончил с собой, но я уверен, понимаете, совершенно уверен, что его убили. Одно скажу вам: не такой человек был Слави, он просто не мог поступить так – прийти ко мне в гости, устроиться на кушетке моего сына и там, в постели Гошко, перерезать себе вены – залить кровью простыни, матрас, комнату, где живут мои дети... Ни мне, никому другому он не мог сделать такого!
«Аргумент чисто психологического порядка, – рассуждал про себя Ковачев. – Интересно. А почему нет? Не определяются ли все поступки, все действия людей мотивами «чисто психологического порядка»! Да, это очень важно».
Лютичев заметил живой интерес в глазах своего гостя и продолжил:
– Слави был очень деликатным человеком, как говорится, мухи не обидит. И вдруг такое... Нет! Хотя мы в последнее время почти не встречались, он любил меня, любил моих детей. Когда он в чем-нибудь нуждался, то обращался только ко мне. Я не хочу хвалиться, но должен вам сказать об этом. Пока он учился, ему приходилось поддерживать материально свою сестру Милку. Денег не хватало. И он брал взаймы у меня, только у меня. Стеснялся просить, но я сам ему давал. Мы любили друг друга, как братья. Когда он пришел в понедельник, я, действительно, почувствовал, что у него что-то не в порядке и что он что-то от меня скрывает. Но все-таки, если бы он решил покончить с собой, я догадался бы. Непременно! А то – как раз в среду, вечером, он словно ожил. Стал веселее, разговорчивее. Совсем, ну совсем не был похож на человека, который решил перерезать себе вены. Даже показался мне радостным. Был словно доволен чем-то.
Лютичев задумался.
«Нет, этот человек не лжет. Он совсем искренен. Это чувствуется в каждом его слове, в каждом жесте, по лицу, по глазам. Все было так, как он сейчас рассказывает», – думал Ковачев.
– Ну, ладно, – продолжил Лютичев, – скажем, он притворился, чтобы скрыть от меня свое решение. В одном я уверен – невозможно, чтобы он выполнил это решение таким образом. Перерезать вены здесь, в постели Гошко... Нет, это сделал не он.
«Слушай, слушай, Асен, как верно рассуждает этот «простой» рабочий. Это и есть сама правда жизни. Подумай, поставь себя на место Каменова и скажи: поступил бы ты таким образом? Прийти в гости к другу детства, лечь в постель его сына и перерезать там, именно там, себе вены – залить кровью одеяло ребенка, матрас, стену, пол... Неужели кто-нибудь так поступил бы?»
– То, что вы говорите, разумно, логично. Но кто же убил его? Кто мог проникнуть ночью к вам в дом, перерезать ему вены и сделать все это так, что вы не услышали, хотя спали в соседней комнате? Ведь вы ничего подозрительного этой ночью не заметили?
– Эх, если бы я заметил! – Лютичев тяжело вздохнул. Его косматые, крепкие, как молоты, кулаки, сжались. – Вчера вечером, после того как лег, я долго не мог заснуть. Все думал – как это произошло. Кругом было темно, соседи спали. И вдруг... – Лютичев мгновение поколебался. – Меня охватил страх, такое чувство, будто я не один. Словно кто-то есть в доме. А я, поверьте, не из пугливых. Ну, ладно, набрался смелости, встал, обошел все. А у самого по спине мурашки ползают. Кажется, вот-вот увижу Слави. Потом снова лег. И представил себе, как убийца влез в окно, склонился над Слави, вынул бритву и – хряс! – перерезал ему вены. А я в это время спал, храпел в соседней комнате и не слышал, как режут моего приятеля.
Ковачев слушал и напряженно думал. Поверить, что Каменов был убит, значило – зайти в новый тупик. Невозможно перерезать вены здоровому, сильному мужчине без того, чтобы его не разбудить. Смерть наступает не сразу. Он мог вскочить, защищаться. Был бы слышен крик, шум борьбы. Даже если Лютичев спал так глубоко, что ничего не слышал, должны были бы остаться следы борьбы. А то – ничего. Ковачев ясно представил себе картину, запечатленную на множестве цветных фотографий: труп, рука, пятна крови, бритва – все говорило о том, что Каменов покончил жизнь самоубийством.
– Ведь той ночью никого другого в доме не было? – неизвестно зачем спросил Ковачев. – В этом не может быть сомнений, не так ли?
– Были только мы вдвоем. Жена с детьми в деревне.
– А вы на ночь запираетесь?
– Только входную дверь. По привычке. Жена запирает и кухню, но я этого не делаю.
– Значит, той ночью эта дверь, – Ковачев указал на входную дверь, ведущую в сад, – была на замке, а кухня осталась незапертой. Вы это хорошо помните?
– Утром, когда я побежал в милицию, то не думал об этом. Наверное, входная дверь была заперта. Каждый вечер запираю ее. Но убийца вошел не через эту дверь и не через кухню, которая была незакрыта.
– Вот как?
– Пойдемте, я вам кое-что покажу.
Лютичев встал. Ковачев пошел за ним. Они остановились у газончика с геранью, как раз под окном комнаты, где был найден труп. Окно выходило к соседнему дому.
– Поглядите.
Ковачев ожидал увидеть следы, отпечатки подметок. Но ничего подобного не было.
– Не вижу ничего особенного, – сказал он.
– Да вот здесь! – Лютичев указал на газон. – И здесь. Везде земля твердая, засохшая. А на этих местах земля темная, влажная, рассыпчатая, словно кто-то ковырял ее щепкой или ножом. А эти сломанные стебельки! Они прежде всего мне бросились в глаза. Два дня назад они были целы. Садик я знаю, как свои пять пальцев. Отломи веточку, сорви цветок – сразу замечу.
Ковачев внимательно осмотрел газон. На нем ясно были видны эллипсовидные пятна свежеразрыхленной земли, чуть побольше следа мужских ботинок. Значит, кто-то ходил по газону, после чего собрал сломанные стебли и разрыхлил следы, чтобы их не обнаружили.
– А может, это соседские дети натворили?
– Не посмеют. Если и заберутся, когда меня нет, то не сюда, что им делать здесь, под окном? По грушам, по яблоням могут полазить, полакомиться. Но таких детей, которые примутся уничтожать свои следы, на нашей улице еще не народилось.
– Вы здесь ничего не трогали, да?
– Я не дурак. И мы немножко разбираемся в этих делах. Я, товарищ, больше вас хочу, чтоб его поймали.
– Значит, по вашему мнению, убийца влез через окно. А той ночью оно было открыто?
– Всегда открыто. Только днем, когда ухожу на работу, закрываю, чтобы кто-нибудь не залез. А чего стоит человеку влезть? И полутора метров от земли нет.
Слушая его, Ковачев продолжал рассматривать следы. Он вынул лупу, которую всегда носил с собой. Теперь стали отчетливо видны следы перочинного ножа, которым разрыхляли землю.
– Это место не трогайте. Я пришлю, чтобы его исследовали.
– Если надо, останусь здесь сторожить, – сказал Лютичев.
– А бритва, которую нашли у кровати, чья? – Внезапно спросил Ковачев.
– А-а, бритва... это тоже что-то таинственное. В первый раз ее вижу. Я пользуюсь безопасной. Слави, когда пришел к нам, не принес для бритья ничего. Это тогда еще произвело на меня впечатление, но я ему ничего не сказал. Чтобы он не подумал, что мне жаль лезвий. Он брился моей безопасной бритвой. В доме не было никакой другой. Откуда появилась эта – не знаю.
– Может быть, Каменов купил ее специально?
– И пришел с ней, чтобы перерезать себе вены как раз в постели Гошко! В это я не могу поверить... – хмуро пробормотал Лютичев.
И этот человек, такой с виду приветливый и симпатичный, тоже хотел убедить его, что Слави покончил с собой. Уперлись – самоубийство да самоубийство! А следы?
Но Лютичев ошибался. Ковачев усиленно обдумывал новую версию. Он пока что не задавался вопросом, кто и почему убил Каменова. Ему было достаточно установить сам факт.
– Вы, товарищ Лютичев, наверно, много думали о смерти вашего приятеля. Сами сказали, что даже больше нас хотите, чтобы убийца был пойман. Но вы ведь понимаете: сейчас мы вынуждены принять единственно возможную версию – самоубийство. По заключению медицинской экспертизы, смерть наступила спустя десять-пятнадцать минут после того, как была перерезана артерия. От боли, как бы глубоко ни спал Каменов, он проснулся бы и начал защищаться. А на его теле и в комнате нет никаких следов борьбы. Да и вы бы услышали.
– Да, я бы услышал, – согласился Лютичев. – Действительно, странно. Не могу себе объяснить, но несмотря на это не верю, что Слави покончил с собой.
На этом они расстались. Прощаясь с ним за руку, Ковачев снова испытал чувство, которое охватило его по приходе, у забора, – что перед ним честный, откровенный, прямой человек.
Ковачев оставил ему свой телефон в министерстве и попросил, если он обнаружит что-нибудь, если вспомнит какую-нибудь новую подробность, даже если ему в голову придет какая-то интересная мысль, непременно позвонить ему. И Лютичев пригласил его заходить – так, запросто, отведать груш.
Ковачев медленно пошел по тихой солнечной улице, продолжая размышлять над своим разговором с Лютичевым. Он был доволен не только потому, что узнал много интересных подробностей. Этот честный, прямой разговор доставил ему моральное удовлетворение.
Внезапный удар оборвал его размышления – резиновый мяч попал ему в спину. Ковачев наступил на него ногой и обернулся. Детский гвалт, наполнявший улицу, стих. В десяти шагах стояла группа подростков, испуганно смотревших на него.
Ковачев не решился снять пиджак – могли увидеть его пистолет. Вычистил спину, насколько это было возможно, не снимая пиджака, и снова строго посмотрел на ребят. Мяч попросить они не решались и были готовы в любую секунду удрать.
Он перестал сердиться. Приветливая улыбка разлилась по его лицу.
– Ура, «Спартак»! – крикнул он и послал мяч мальчишкам.
– Ура, «Левски»! – дружно ответили юные футболисты и на всякий случай побежали прочь.
Детские голоса снова зазвенели на улице.
Ковачев зашагал дальше, сразу погрузившись в свои мысли.
Логика Лютичева была как будто бы безупречна. Ковачев верил, что даже перед смертью человек не теряет своего настоящего морального облика: доблестный человек умирает, как герой, подлец – как негодяй. Действительно, каким чудовищем должен был быть Каменов, чтобы выбрать для своего страшного дела дом приятеля, постель ребенка. А следы? Не говорили ли они о том, что в дом проник третий человек, убийца? Все это наводило на мысль, что Каменов не покончил с собой. Все, за исключением одного: невозможно, чтобы человек не проснулся от боли, чтобы остался безучастным, когда его режут, невозможно, чтобы Лютичев не слышал шума борьбы, криков...
Ковачев знал: когда один факт стоит в «стороне» от всех остальных, когда этот факт «опровергает» все остальные, в нем должно крыться нечто особенное. Так же как человек, который выделяется из коллектива своей негармонирующей индивидуальностью, таит в себе какие-то странности – он или обогнал свое время и является как бы частицей будущего, или же отстал от своей эпохи и олицетворяет ложь и пороки прошлого. Факт, который идет вразрез с остальными доказательствами, непременно кроет в себе какую-нибудь загадку. Но какова была в данном случае эта загадка?
Эта мысль не покидала его всю дорогу в министерство. В поисках ответа он плутал в заколдованном кругу фактов. Постепенно в его сознании всплыла смутная, едва уловимая догадка: в заключении экспертизы было что-то особенное, на что он не обратил должного внимания.
Войдя в кабинет, он сразу раскрыл дело, лихорадочно перелистал его и быстро нашел акт судебно-медицинского освидетельствования трупа Каменова. Перелистал его. В конце, после густо написанных «излишних и ненужных» подробностей (как легко человек может пробежать их беглым взглядом!), было примечание. Так и было написано:
«Примечание. Производит впечатление, что острие бритвы дошло до кости – на надкостнице имеется хорошо очерченная линейная царапина. Характерен единичный глубокий порез радиальной артерии над кистью. Обычно самоубийцы перерезают только поверхностные вены в этой области, причем несколькими параллельными ранами, тогда как в данном случае картина совсем иная».
В первый момент Ковачев даже рассердился на врачей, которые «засунули» это важное заключение (когда он читал его в прошлый раз, оно не показалось ему столь важным!) в примечание.
«Вместо того, чтобы написать его заглавными буквами, с отбивкой, не так ли!» – иронизировал он над собой. Обычно самоубийцы... тогда как в данном случае... Ведь сами врачи показали правильный путь! Да, Каменов, действительно, не принадлежал к «обычным самоубийцам».
Ну, хорошо, это еще одно подтверждение того, что он был убит. Еще один факт, гармонирующий со всеми остальными. Но он не объясняет дисгармонии «единственного» доказательства противного. Нужно думать, думать...
Ковачев закрыл глаза. Пытался представить себе, что лежит в постели, в детской комнате. Спит. Внезапно острая, обжигающая боль в левой руке прерывает сон. Он инстинктивно отдергивает руку, приподнимается. В комнате темно. (Нужно проверить, когда взошла и когда зашла луна, освещают ли комнату уличные фонари, окна соседних домов...) Хлещет кровь. В полумраке очерчивается фигура незнакомого мужчины. Но почему же незнакомого? Что, если это хорошо знакомая фигура? Может, это был как раз тот человек, который держал Каменова в своих руках. Соучастник. Может быть, их было двое или трое. Может, Каменова ликвидировала шпионская банда, к которой он принадлежал. Но как они могли заставить его молчать, молча умереть? Он мог поднять крик, бороться... Но, может быть, не имел возможности? Убийца душил его? (Но на шее убитого нет никаких следов!) Прижал голову подушкой... Нет, Каменов не ребенок. Здоровый молодой мужчина будет бороться, не позволит прирезать себя, как ягненка...
Тогда начни с другого конца. Представь себе, что ты убийца и должен непременно убить Каменова. Улица безлюдна, дом погрузился в темноту. Ты приближаешься и окну. Прислушиваешься. Слышно равномерное дыхание. Из соседней комнаты долетает храп Лютичева. Ты ловко, бесшумно взбираешься на подоконник. Снова прислушиваешься и тихо спускаешься в комнату. Зажечь фонарь? Нет, лучше в темноте. Свет может разбудить жертву. Приближаешься, вынимаешь приготовленную бритву... Приготовленную?.. Значит, ты приготовился, обдумал, как убить его. Убить и симулировать самоубийство. Решение возникло не вдруг. Все заранее подготовлено. И, естественно, предусмотрены меры, чтобы Каменов не мог помешать замыслу. Чтобы он не крикнул, не разбудил Лютичева. Потому что тогда возникла бы необходимость убить и Лютичева, отпала бы возможность симулировать самоубийство. Значит, вены были перерезаны так, что Каменов не мог крикнуть, бороться, поднять шум...
Вот, он снова вернулся к исходной точке, заколдованный круг замкнулся. Потому что, как бы глубоко ни спал Каменов, когда ему... Стоп! Как же так?
Ковачев подскочил, озаренный внезапно пришедшей ему в голову мыслью. Он схватил телефонную трубку и набрал номер гаража.
– Подайте машину к главному входу. Я выхожу.
Через пять минут он уже был в Лозенце.
Лютичев продолжал копаться в садике. Услышав шум останавливающегося автомобиля, он поднял голову, увидел своего недавнего гостя и побежал встречать его.
– Что случилось?
Ковачев взял его под руку, отвел в глубь сада и спросил:
– Как вы провели ту ночь, когда умер Каменов?
По возбуждению, которое отражалось на лице Ковачева, по его быстрому, без предисловий, вопросу Лютичев понял, что ответ его очень важен. Он задумался и сказал:
– Заснул я сразу, как только лег. Я всегда так засыпаю – чуть коснусь головой подушки. Было половина одиннадцатого, одиннадцать. Встаю я рано – без четверти семь начинаем работу. А проснулся... да, проснулся на рассвете. Я не мог разглядеть время на часах. Страшно болела голова и тошнило. Сердце билось, как сумасшедшее. Еле успел добежать до уборной... меня вырвало. Тяжело, мучительно, как после пьянки.
– Та-а-к... – Лицо Ковачева посветлело, словно Лютичев сообщил ему нечто очень приятное.
– Это не произвело на вас впечатления?
– Как не произвело?.. Вечером мы со Слави выпили по рюмке водки, в них и по пятидесяти граммов не было. От водки, значит, этого не могло быть. А ужинали брынзой с хлебом, помидорами, арбузом.
– Но почему вы не сообщили об этом товарищу из уголовного розыска? В протоколе вашего допроса это не отражено.
– Я сказал ему, но он меня высмеял. «Это, – говорит, – не имеет отношения к делу, гражданин. Может, еще захотите, чтоб мы записали, ходили ли вы по большой нужде?..»
– Гм... Ну, а потом что было?
– Потом мне полегчало, я лег. Снова заснул. Когда встал, голова еще болела. Пошел, облил голову из крана холодной водой. Понял, что опаздываю. Смотрю – и Слави не встал. Пошел будить его и...
– Спасибо, товарищ Лютичев, и извините за беспокойство. Мы еще с вами увидимся. Я не забыл вашего приглашения отведать груш.
Лютичев хотел спросить его, что значит этот неожиданный допрос, но воздержался. Если Ковачев не сказал ему сам, значит, еще не настало время.
На другое утро раным-рано Ковачеву позвонил полковник Марков.
– Как спал, Асен?
Ковачев хорошо знал своего начальника. Этот любезный вопрос означал: «Не спишь? Действуешь?» И он ответил ему в тон: