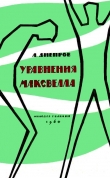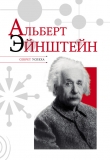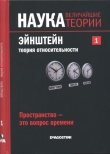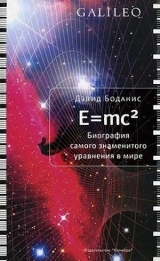
Текст книги "E=mc2. Биография самого знаменитого уравнения мира"
Автор книги: Дэвид Боданис
Жанры:
Физика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
С течением времени некоторые из физиков начали присматриваться к работам Эйнштейна, иногда эти люди приезжали в Берн, чтобы побеседовать с ним о его уравнении и иных результатах. Происходило именно то, на что надеялись Эйнштейн и Бессо, однако оно означало также, что пути их начинают расходиться. Ибо Эйнштейн постепенно углублялся в мир идей, в который его лучший друг последовать за ним не мог. Бессо был умен, но он избрал для себя жизнь в мире промышленности. («Я часто уговариваю его стать [университетским преподавателем], но сомневаюсь, что… он это сделает. Ему просто не хочется».) На новый уровень последовать за ним Бессо был не способен.
Он обожал своего младшего друга и делал все, чтобы помочь Эйнштейну, когда тот еще был студентом. Он даже старался – в те вечера, которые они проводили за кружкой пива, сосисками и чаем, – усвоить новые идеи друга. Сам Эйнштейн относился к друзьям, от которых он уходил все дальше, по-доброму. Он ни разу не сказал Бессо, что тот ему больше не интересен. Они продолжали отправляться на загородные прогулки, заходить в пивные, участвовать в музыкальных вечерах и дружеских розыгрышах. И все же, эти двое походили на старых школьных друзей, связь между которыми прерывается, когда они поступают на разные факультеты университета или получают по его окончании первую работу. Каждому хочется, чтобы все складывалось иначе, однако у каждого появляются новые интересы, отдаляющие их друг от друга. Они еще могут разговаривать о прежних временах, когда все делали вместе, однако энтузиазм их натужен, хотя ни один из них признаться в этом не хочет.
Подобное же отдаление произошло и между Эйнштейном и его женой, Милевой. В университете она вместе с ним изучала физику да и вообще была очень умна. Мужчины, занимающиеся наукой, редко женятся на коллегах – много ли таких насчитаешь? – и Эйнштейн едва ли не хвастался перед университетскими друзьями тем, как ему повезло. Первое его письмо к Милеве было сдержанным:
Цюрих, среда [16 февраля 1898]
Хочу рассказать тебе о том, чем мы занимаемся… Гурвиц читает нам лекции о дифференциальных уравнениях (за исключением уравнений в частных производных), а также о рядах Фурье…
Однако отношения их, как показывают выдержки из писем, писавшихся в августе и сентябре 1900-го, развивались:
Перед моими сонными глазами снова проплыли несколько пустых, скучных дней – знаешь, из тех, в какие встаешь поздно, потому что ни думать ни о чем, ни сделать ничего толкового не можешь, и идешь прогуляться, пока твою комнату приводят в порядок… А потом слоняешься без дела, малодушно дожидаясь обеда…
Однако все меняется, нас ожидает чудеснейшая в мире жизнь. Прекрасная работа, мы с тобой вместе…
Не грусти, возлюбленная моя. Нежно целую тебя, твой
Альберт
Совместная их жизнь начиналась счастливо. Подняться до его уровня жена не могла, однако студенткой была хорошей – на выпускных экзаменах, где Эйнштейн набрал 4,96 балла, она подошла близко к нему, получив 4,0 – и следить за его дальнейшей работой определенно была в состоянии. (Миф о том, что именно благодаря ей была написана одна из ключевых работ Эйнштейна, произрастает из сербской националистической пропаганды 1960-х и связан с тем, что семья Милевы изначально проживала под Белградом.) Но затем у них появились дети, а доход семьи был так низок, что они могли позволить себе лишь приходящую служанку, – и за этим последовала традиционная дискриминация женщины. Когда к ним приходили в гости высокообразованные друзья, жена Эйнштейна старалась составлять им компанию, однако делать это, держа на коленях постоянно требующего внимания трехлетнего сына, занятие не из простых. Ты хочешь принимать участие в разговорах, но постоянно отвлекаешься на то, чтобы найти нужные игрушки, нарисовать сыну картинку, убрать разбросанную им еду и, в конце-концов, гости перестают прерывать беседу, чтобы посвятить тебя в то, что ты пропустила. Тебя больше не берут в расчет.
Когда в 1909 году Эйнштейн покинул патентное бюро, его начальник так не смог понять, почему этот молодой человек бросает такую хорошую карьеру. Ему все же предложили место в системе университетов Швейцарии, а затем, проработав некоторое время в Праге, – где он музицировал и участвовал в беседах гостей салона, который время от времени посещал стеснительный молодой человек по имени Франц Кафка, – Эйнштейн получил профессорский пост в Берлине. И этот успех почти полностью изолировал его от прежних бернских друзей. Он также официально разошелся с женой и лишь время от времени навещал ее, чтобы повидаться с двумя своими детьми, которых обожал.
К этому времени работа его приняла новое направление. Уравнение E=mc 2было лишь малой частью всей специальной теории относительности. В 1915 году Эйнштейн занимался совершенствованием теории еще более величественной, столь мощной, что теперь уже специальная теория относительности составляла лишь малую ее часть. (В «Эпилоге» приводятся некоторые сведения об этом труде 1915 года – «В сравнении с этой проблемой, исходная теория относительности – просто детская игра»). Эйнштейну еще предстояло вновь обратиться к своему уравнению – ненадолго, – но уже в гораздо более зрелые годы.
И здесь рассказываемая нами история совершает крутой поворот. Начальная теоретическая разработка уравнения завершилась, персональный вклад Эйнштейна в то, о чем идет наш рассказ, постепенно начинает сходить на нет. Физики Европы согласились с истинностью E=mc 2: с тем, что вещество можно, в принципе, подвергнуть преобразованию, которое позволит извлечь «замороженную» в нем энергию. Однако как этого добиться, никто по-настоящему не знал.
Правда, один намек на это имелся. Его давали странные объекты, исследованием которых занимались Мария Кюри и другие: такие тяжелые металлы, как радий и уран, а также другие вещества, способные непонятным образом неделю за неделей и месяц за месяцем источать энергию, никогда не исчерпывая ее «скрытый» в них источник.
Теперь изучать происходящее с ними начали многие лаборатории. Однако для того, чтобы обнаружить механизмы, создающие эти огромные выбросы энергии, недостаточно было продолжать смотреть лишь на поверхность вещей, просто заниматься измерением веса, окраски или внешних химических свойств загадочно теплых радия или урана.
Нет, ученым следовало пойти внутрь, в самое сердце этих веществ. Это, в конечном счете, и показало им, как подобраться к энергии, обещанной уравнением E=mc 2. Но что же обнаружили они, вглядываясь в мельчайшие внутренние структуры обычного вещества?
Глава 8. Внутри атома
Университетских студентов 1900 года учили тому, что обычное вещество – то, из которого состоят кирпичи, сталь, уран и все прочее, – и само состоит из мельчайших частиц, именуемых атомами. Однако, из чего состоят атомы, этого не знал никто. Общее мнение сводилось к тому, что они подобны сплошным, блестящим шарикам, вроде тех, которые крутятся в шарикоподшипниках, – что атомы это такие посверкивающие сущности, заглянуть внутрь которых невозможно. И только в 1901 году, благодаря исследованиям Эрнеста Резерфорда, рослого мужчины с медвежьим басом, работавшего в Манчестерском университете, об атомах возникли представления более ясные.
Резерфорд оказался в Манчестере, а не в Оксфорде и не в Кембридже, не потому, что происходил из провинциальной Новой Зеландии и говорил с акцентом простолюдина. Ученому, умеющему держаться достаточно скромно, такие недостатки легко прощают. Проблема состояла, скорее, в том, что, еще обучаясь в Кембридже, Резерфорд показал себя не способным почтительно относиться к старшим. А как-то раз он и вовсе выступил с предложением создать совместное предприятие, которое торговало бы одним из его изобретений, и это предложение было приравнено к смертному греху. И однако же, причина, по которой он оказался ученым, впервые сумевшим заглянуть внутрь атома, состояла, в значительной мере, в том, что Резерфорд был человеком, хорошо понимавшим, что такое дискриминация, и это понимание сделало его одним из самых мягких руководителей, какие только встречаются на свете. Его громогласность была не более чем камуфляжем. Резерфорд умел воспитывать толковых помощников – одним из главных его экспериментов руководил молодой человек, в конечном итоге доведший до совершенства чрезвычайно полезный портативный детектор радиации, устройство которого было придумано самим Резерфордом: издающий громкие щелчки счетчик, коему обязан своей славой Ханс Гейгер.
Совершенное ими открытие описывается в современных школах так часто, что нам уже трудно представить себе, насколько неожиданным оно оказалось. Резерфорд обнаружил следующее: сплошные непроницаемые атомы на самом деле почти полностью пусты. Представьте себе, что метеор падает в Атлантический океан и вместо того, чтобы так в нем и остаться, ударившись, в конце концов, об океанское дно, с громовым ревом вылетает назад. Подумайте о том, как трудно преодолеть устоявшиеся представления и понять: единственное объяснение происшедшего состоит в том, что никакой воды под поверхностью Атлантического океана на самом-то деле нет. Напротив, – по аналогии с тем, что обнаружил Резерфорд, – поверхность океана это лишь тонкая пленка жидкости, а под ней, там, где, как мы всегда полагали, плещут глубинные волны, струятся течения и вообще находятся тонны воды, там… пусто.
Ничего, кроме пустого воздуха, там нет и, если бы в нем находилась телекамера, она показала бы нам, как метеор, пробив внешнюю пленку, падает в пустом пространстве. И только на самом дне океана находится некое мощное, чрезвычайно компактное устройство, которое способно схватить падающий метеор и швырнуть его назад, в открытое пространство. Примерно так же выглядит атом с его укрытым в самом центре ядром. Лишь вблизи внешней оболочки атома мечутся электроны, участвующие в обычных реакциях, таких как сгорание куска дерева в огне. Однако от центрального ядра атома, мерцающего в самой глубине совершенно пустого пространства, они далеки.
Если мы снова уподобим атомы шарикам, из которых состоит подшипник, то можно будет сказать следующее: Резерфорд обнаружил, что шарики эти почти полностью полые. Только в самой середке их кроется крошечная песчинка, именуемая ядром. Открытие неутешительное – оказывается, атомы состоят по преимуществу из пустоты! – однако само по себе оно ничуть не объясняет, какое отношение имеет к такому атому уравнение E=mc 2. «Сплошные» электроны, образующие внешнюю оболочку атома, не имеют ни малейшего намерения избавляться от своего материального существования и обращаться в вырывающиеся наружу потоки энергии.
Стало совершенно ясно, что теперь ученым надлежит заняться именно ядрами. Атомы содержат изрядное количество электричества, и если половина его распределяется по орбитам этих самых электронов, другая втиснута в сверхплотное центральное ядро. Способа, который позволял бы удерживать столь большой заряд в столь малом объеме, никто не знал. И все же там, в ядре атома, присутствовало нечто, способное запихать в ядро весь этот заряд и удерживать его, не давая извернуться и выскочить наружу. Атом был складским хранилищем скрытой энергии, на существование которой указывало уравнение Эйнштейна. В нем находились положительно заряженные частицы, которые мы называем протонами, – однако выяснить какие-либо относящиеся к ним подробности не удавалось никому.
В конце концов, ассистент Резерфорда Джеймс Чедвик все же сумел получить картину более ясную, – это произошло в 1932 году, когда он открыл еще одну скрывавшуюся в ядре частицу. Ею был нейтрон, получивший такое название потому, что он, походя размерами на протон, был электрически совершенно нейтральным. На то, чтобы обнаружить его, у Чедвика ушло больше пятнадцати лет. В какой-то момент проводимых Чедвиком исследований его студенты даже поставили пьесу, в которой рассказывалась о поисках этой частицы, обладающей столь малым числом свойств, что они в шутку прозвали ее «малотроном». Однако на того, кто провел годы рядом с громогласным и нетерпеливым Резерфордом, студенческие шутки большого впечатления произвести не могли. Чедвик был человеком тихим, однако к цели своей шел решительно и неуклонно.
Он вырос в трущобах Манчестера, а профессиональная его карьера едва не оборвалась в самом начале. Защитив у Резерфорда диссертацию, Чедвик перебрался в Берлин, чтобы заняться исследованиями в лаборатории вернувшегося туда Ханса Гейгера. Когда же началась Первая мировая война, Чедвик смиренно последовал совету местного представительства компании Томаса Кука, уверявшего, что с отъездом из Германии можно не спешить. В итоге, он провел четыре года как военнопленный – запертым в переоборудованных под лагерь конюшнях холодного и продуваемого всеми ветрами потсдамского ипподрома. Чедвик пытался проводить исследования и здесь, он даже сумел раздобыть радиоактивные препараты. В распоряжении компании «Берлин Ауэр» оказались запасы тория, который она предлагала немецкой публике в составе зубной пасты, заставлявшей зубы сиять белизной. Чедвик просто заказывал через охранников этот чудотворный отбеливатель и использовал его в своих опытах. Однако оборудование у него было до того скудное, что никаких серьезных результатов ему получить не удалось. Он отставал от хода науки и, вернувшись в Англию в ноябре 1918-го – по окончании войны, – с трудом наверстал упущенное. И больше уже никогда ничьим советам не следовал.
Теоретически, открытие, совершенное Чедвиком в 1932 году, должно было немедленно привести к другим, новым открытиям. Множество радиоактивных веществ испускало нейтроны, которыми можно было обстреливать, как из пулемета, ожидавшие их атомы. Поскольку нейтроны не имели электрического заряда, отрицательно заряженные электроны, образующие оболочку атомов, никак на них не воздействовали. Да и достигая ядра, они не встречали препятствий со стороны зарядов положительных. Ничто не мешало им проникать внутрь ядра. И стало быть, существовала возможность использовать нейтроны, как зонды, позволяющие понять, что там, внутри, происходит.
Однако, к большому разочарованию Чедвика, выяснить это ему так и не удалось. Чем старательнее обстреливал он ядро нейтронами, тем с меньшим успехом ему удавалось проникнуть внутрь их. Только в 1934-м другой исследователь сумел обойти эту проблему, добиться того, чтобы нейтроны с легкостью проникали в ядро, и поосновательнее разобраться в его структуре. Причем исследователь этот работал далеко не в лучшей научной лаборатории мира, а в таком месте, где подобного результата и ожидать-то не приходилось.
Рим, в котором жил Энрико Ферми, хранил воспоминания о своем величии, однако за десятилетия, предшествовавшие 1930-м, он все сильнее и сильнее отставал от остальной Европы. Лаборатория, которую правительство Италии выделило считавшемуся одним из ведущих европейских физиков Ферми, находилась на окраинной улочке, посреди большого парка. Потолки ее были плиточными, полки – мраморными, а за зданием лаборатории росли вокруг пруда с золотыми рыбками миндальные деревья. Для человека, желавшего удалиться от основного русла европейской мысли, место это было попросту идеальным.
В таком-то тихом уединении Ферми и обнаружил, что другие группы исследователей, стремившиеся обстреливать крошечное ядро обладавшими все большей и большей энергией нейтронами, дабы те смогли проникнуть в него, шли неверным путем. Забрасывая быстрыми нейтронами огромное пустое пространство атома, можно добиться лишь того, что они будут попросту проскакивать сквозь него. Хороший шанс попасть внутрь ядра имеют только нейтроны, подлетающие к нему так медленно, что они почти уж и не движутся. Медленные нейтроны ведут себя, как клейкие пули. А причина, по которой они словно бы липнут к ядру, состоит в том, что при относительно медленном движении нейтроны «размазываются» в пространстве. И даже если основное их тело пролетает мимо ядра, периферийные участки все еще сохраняют способность это ядро зацепить.
В те послеполуденные часы, в которые Ферми понял, что ему нужны медленные нейтроны, его ассистенты притащили в лабораторию ведра, наполненные водой из пруда с золотыми рыбками. И пропустили сквозь эту воду быстрые нейтроны, которые испускал обычно использовавшийся ими источник радиоактивности. Молекулы воды так велики, что оказавшиеся в ней нейтроны ударяются о них, отражаясь назад и вперед и теряя скорость. И когда нейтроны, наконец, покидают воду, они уже движутся настолько медленно, что оказываются способными проникать в ожидающие их ядра.
Придуманный Ферми фокус дал исследователям подобие зонда, способного проникать внутрь ядра. Однако получить полную ясность не позволил и он. Что, собственно, происходило, когда замедленный нейтрон попадал внутрь ядра? Получить всю ту энергию, о которой говорило уравнение Эйнштейна, при этом так и не удавалось. Удавалось всего лишь слегка изменять форму ядра, заставляя его испускать малую толику энергии. Это позволяло получать меченные атомы, которые человек глотал и которые давали затем возможность посмотреть, что происходит у него внутри. Одним из первых, кто использовал такие атомы, был Дьердь де Хевеши, доказавший с их помощью, что «свежее» мясо, подававшееся ему хозяйкой манчестерского пансионата, в котором он жил, было не таким уж и свежим, – приготовленное однажды, оно затем выкладывалось каждый день на действительно свежую тарелку, пока постояльцы не съедали весь его запас. И все же, небольшая энергия, излучаемая веществом, которое можно было глотать без всякого вреда для здоровья, была вовсе не тем, что обещало колоссальное с 2.
Должно было существовать какое-то иное объяснение происходящего, новый уровень детализации, подобраться к которому физикам пока не удавалось. Атомы были не сплошными массивными шариками, но, скорее, почти пустыми сферами, подобными океанскому бассейну, из которого выкачана вся вода, за исключением поверхностной его оболочки, и обладающими крошечной сплошной сердцевиной. Это показал Резерфорд. Впрочем и сердцевина их сплошной не была. Она содержала протоны, в которых потрескивали положительные электрические заряды, и плотно упакованные вместе с ними камушки – нейтроны. Это стало ясным в 1932 году. Нейтроны могли легко покидать ядра и так же легко проникать в них, – чтобы добиться последнего следовало лишь проделать довольно неожиданный фокус: замедлить посылаемые в ядро нейтроны. Это было показано Ферми в 1934-м. После чего все на несколько лет застопорилось.
Глава 9. Среди безмолвия полуденных снегов
Понимание того, что происходит внутри ядра, – а с ним и открытие более глубоких механизмов поведения вещества, которое позволило, наконец, подобраться к энергии, обещанной формулой E=mc 2, – было достигнуто только в 1938 году. И достигнуто оно было одинокой шестидесятилетней австрийкой, застрявшей на окраине Европы – в Стокгольме, даром, что по-шведски она и говорить-то не умела.
«Я оказалась здесь… – писала она, – в положении, которое не дает мне никаких прав. Постарайтесь представить, как бы вы чувствовали себя, если бы… вам выделили в институте комнату, которой вы не можете распоряжаться, лишив вас какой бы то ни было помощи и каких бы то ни было прав…».
Перемена была удручающая, поскольку всего за несколько месяцев до нее Лизе Майтнер считалась одним из ведущих ученых Германии, – «нашей мадам Кюри», как назвал ее Эйнштейн. В Берлине она появилась в 1907-м, – приехавшей из Австрии невообразимо застенчивой студенткой. Однако она боролась со своей замкнутостью и вскоре подружилась с учившимся в том же, что она, университете на редкость красивым студентом по имени Отто Ган. Человеком он был легким, уверенным в себе, говорил с франкфуртским акцентом, который сам же и вышучивал, и, казалось, считал своей обязанностью сделать все, чтобы эта тихая, только что появившаяся в Берлине студентка чувствовала себя здесь как дома.
Вскоре эти двое уже делили лабораторию, находившуюся в подвале здания химического факультета. Они были почти одногодками, обоим было под тридцать. Он уговорил ее петь вместе с ним написанные для двух голос песни Брамса, и она делала это, хоть и часто фальшивила. Когда их общая работа шла особенно хорошо, писала она, «[Ган] насвистывал большие куски скрипичного концерта Бетховена, временами нарочно меняя ритм последней темы, чтобы повеселиться, слушая мои протесты…». Неподалеку находился институт физики, и другие молодые ученые «часто навещали нас, временами пролезая, вместо того, чтобы идти обычным путем, через окно столярной мастерской». По окончании работы Майтнер оставалась в одиночестве, – жила в поочередно снимаемых ею комнатах на одного человека, ходила на концерты, покупая билеты на самые дешевые места для студентов. Общество других людей она находила лишь в лаборатории.
Аналитиком и теоретиком она была намного лучшим, чем Ган, однако ему хватило ума – и рассудительности, – чтобы понять: это может принести ему только пользу. Он всегда умел находить для себя великолепных наставников. Первые открытия, совместно сделанные Майтнер и Ганом, привели к тому, что они получили большую лабораторию в новом институте кайзера Вильгельма, расположенном на западной окраине тогдашнего Берлина. Вблизи от института еще стояли деревенские ветряные мельницы, чуть дальше к западу начинался лес. Они получили известность как серьезная и надежная команда исследователей, помогавшая выстраивать основные и совершенно необходимые знания о том, что представляют собой атомы; и открытия их вскоре стали считать такими же значительными, как те, что делал в Англии Резерфорд.
Все это время она и Ган выдерживали в своих отношениях тон внешне официальный, старательно избегая неформального «ты». Во всех письмах Майтнер он именовался так: «Дорогой герр Ган». Однако их могли связывать и отношения особые, ни разу не упоминавшееся ими понимание того, что такая полная достоинства официальность предохраняет их от вступления в связь более серьезную.
В 1912-м, когда Майтнер было тридцать четыре, а совместная работа их продолжалась уже четыре года, Ган женился на молодой студентке отделения гуманитарных наук. Майтнер говорила всем, что ее это нисколько не волнует. Однако, хоть Майтнер никогда не встречалась с Ганом открыто, она не встречалась ни с кем и во все последующие годы. Майтнер дружила с еще одним молодым коллегой, Джеймсом Франком, связь с ним она продолжала поддерживать более полувека – и после того как он женился, и после того как ему пришлось уехать из Германии в далекую Америку. «Я в вас влюбился», – шутливо писал ей Франк, когда им обоим было уже за восемьдесят. «Spät! (Опоздали!)» – весело отвечала Лизе.
Во время Первой мировой войны Майтнер добровольно работала в госпиталях, в том числе и в самых страшных, находившихся вблизи восточного фронта, а Ган выполнял задания военного ведомства. Проблем нравственного порядка, связанных с тем, что он занимался отравляющими газами, ни у него, ни у нее, похоже, не возникало. Она регулярно писала ему, передавая последние институтские слухи, рассказывая о поездках к морю с женой Гана и, время от времени, описывая, очень смягченно, свою работу в госпитале. Времени для научных исследований у нее оставалось мало: «Дорогой герр Ган!.. Прежде, чем читать дальше, наберите побольше воздуха в грудь… Я хотела закончить некоторые измерения, чтобы получить возможность… рассказать Вам о множестве очень интересных вещей».
Майтнер удалось заполнить один из последних пробелов, еще остававшийся в периодической системе элементов. Эту работу она выполнила самостоятельно, однако указала в качестве ее автора и Гана и настояла, чтобы редакция « Physikalische Zeitschrift»поставила его фамилию первой. В пору их военной разлуки она не настаивала на том, чтобы Ган отвечал на ее письма, хотя время от времени потребность в этом прорывалась наружу: «Дорогой герр Ган!.. Будьте добры, пишите – хотя бы о радиоактивности. Впрочем, я помню один случай, теперь уже давний, в котором вы прислали мне пару строк, упоминаний о радиоактивности не содержавших».
Вскоре после войны они разошлись по разным лабораториям. В середине 1920-х Майтнер уже возглавляла отдел теоретической физики в химическом институте кайзера Вильгельма. Внешне она оставалась все такой же застенчивой, однако обрела уверенность в силе своего ума и на самых почтенных теоретических семинарах неизменно садилась в первом ряду – рядом с Эйнштейном или великим Максом Планком. Ган сознавал, что за ее исследованиями ему не угнаться и потому ограничился занятиями более традиционной химией. Однако, когда в 1934 году Ферми показал, что нейтрон можно использовать в качестве идеального инструмента изучения атомного ядра, Майтнер снова сменила направление работы, приступив к исследованию его свойств. Помимо прочего, это означало, что она могла привлечь к своей работе и Гана, поскольку при изучении новых, возникавших в ходе таких исследований веществ всегда требовались химики.
В 1934-м они снова начали работать вместе, взяв в помощники недавнего докторанта Фрица Штрасмана. Гитлер пришел к власти в 1933-м, но, хоть Майтнер и была еврейкой, это не привело к ее немедленному изгнанию из Берлинского университета, поскольку она все еще оставалась австрийской гражданкой. У институтов кайзера Вильгельма имелись собственные источники финансирования, и тот, в котором работала Майтнер, был только рад платить ей как своей полноправной штатной сотруднице.
Когда же в 1938-м Германия захватила Австрию, Майтнер автоматически обратилась в немецкую гражданку. Институт еще мог удержать ее, однако это в большой степени зависело от того, что скажут ее коллеги. Один из них, химик-органик по имени Курт Гесс, долгое время занимал в институте маленький кабинет. Ученым Гесс был незначительным, его переполняла зависть, и он одним из первых в институте стал активным нацистом. «Евреи представляют опасность для нашего института» – начал нашептывать он всем, кто желал его слушать. Майтнер узнала об этом от одного из своих бывших студентов, который остался преданным ей. Она поговорила с Ганом. Ган направился прямиком к Генриху Горлейну, казначею организации, финансировавшей институт химии кайзера Вильгельма.
И попросил Горлейна избавиться от Майтнер.
Сказать о человеке, что он очарователен, – а Ган оставался очаровательным всю свою жизнь, – значит сказать лишь, что человек этот развил в себе рефлекторную способность делать то, что не доставляет беспокойства окружающим. Такое утверждение ничего не говорит о наличии у него более основательного нравственного компаса. То, как он поступил с Майтнер, бывшей его давним коллегой, могло отчасти тревожить совесть Гана: «Лизе чувствует себя очень несчастной из-за того, что я покинул ее в беде». Однако и другие немецкие физики выполняли все приказы правительства, к тому же, у власти теперь пребывали многие из прежних пронацистски настроенных студентов Гана. Именно они, – а не Майтнер, – были людьми, с которыми ему предстояло сотрудничать все более тесно, людьми, которым следовало угождать.
Он немного помог ей с отъездом из страны, неясно, впрочем, заметила ли эту помощь потрясенная происшедшим Майтнер: «Ган говорит, что мне больше не следует появляться в институте. По сути дела, он выгнал меня».
К августу 1938-го, когда Майтнер обосновалась в Стокгольме, она уже никому не рассказывала о поступке Гана. Вместо этого она почти рефлекторно сохраняла, пусть и на расстоянии, причастность к работе, которую прежде возглавляла. В ходе этой работы Майтнер с помощью Штрасмана и Гана обстреливала потоками медленных нейтронов уран, самый тяжелый из всех, встречающихся в природных условиях элементов. Поскольку нейтроны проникали в ядра атомов и застревали в них, все ожидали, что в результате будет возникать некое новое вещество, еще более тяжелое, чем уран. Однако, сколько усилий ни прилагала Майтнер и иные берлинские исследователи, с ясностью определить, что за новые вещества они создают, им не удавалось.
Ган, как и всегда, понял, что происходит, позже всех. В ноябре Майтнер встретилась с ним в нейтральном Копенгагене и, после того, как он признался, что ничего не понимает, отправила его обратно в Берлин с ясными инструкциями о постановке новых опытов. Ему всего лишь следует использовать наиболее качественные источники нейтронов, а также собранные ею счетчики и усилители, которые так и стояли в их лаборатории – там, где она их оставила. Обмен письмами между Стокгольмом и Берлином происходил настолько быстро, что Майтнер удавалось даже обговаривать с Ганом очередные шаги эксперимента. «Мнения и суждения Майтнер были для нас, работавших в Берлине, настолько весомыми, – вспоминал впоследствии Штрасман, – что мы немедленно приступили к постановке необходимых… опытов». Какую бы глубокую обиду ни питала Майтнер, она, по крайней мере, могла продолжать работу, на которую годами было направлено все ее внимание.
Она предложила тщательно присмотреться к тем разновидностям радия, которые могут возникать в процессе продолжительной бомбардировки урана. (Радий это металл, атомное ядро которого имеет почти такой же вес, как у урана. Оба ядра до того набиты нейтронами, что регулярно испускают излучение.) На этом этапе исследований предложение Майтнер было результатом всего лишь интуитивной догадки, основанной на сходстве двух металлов и том обстоятельстве, что в рудниках их нередко находят рядом друг с другом.
Однако догадка ее означала, что удастся, наконец, обнаружить и явные эффекты, обещанные уравнением E=mc 2.
Вечер понедельника, в лаборатории:
Дорогая Лизе!
…В «изотопах радия» присутствует нечто столь замечательное, что пока мы можем рассказать о них только Вам… Возможно, Вам удастся предложить какое-нибудь фантастическое объяснение происходящего… Если Вы сможете придумать нечто достойное публикации, это все же будет, в некотором смысле, результатом работы нас троих!
Отто Ган
В своих опытах они использовали в качестве вязкого вещества заурядный барий, позволяющий перехватывать фрагменты перегруженного нейтронами радия. После того, как барий делал свое дело, его собирали с помощью кислот, а затем вымывали из раствора. Проблема состояла, однако, в том, что Гану не удавалось разделить его. Некоторая часть остаточного бария содержала, судя по всему, приставшие к нему крошечные кусочки чего-то радиоактивного.
И Ган, и Штрасман зашли в тупик. «Интеллектуальным руководителем нашей группы была Майтнер» – писал Штрасман. Однако теперь ее с ними не было. Спустя два дня Ган снова обратился к ней: «Сами понимаете, Вы сделаете доброе дело, если найдете выход из этого тупика». Что делать дальше, они не знали. Попытаться объяснить странные результаты – почему простой барий никакого излучения не дает? – должна была Майтнер.