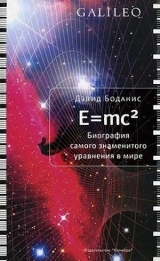
Текст книги "E=mc2. Биография самого знаменитого уравнения мира"
Автор книги: Дэвид Боданис
Жанры:
Физика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
По сравнению с первыми полученными в Лейпциге результатами, изучение атомных реакций продвинулось довольно далеко. Под конец своей работы ученые Германии научились получать примерно половину того объема расщеплений ядра, какое было необходимым для поддержания цепной реакции. Однако Гейзенберг знал, что дальше ему продвинуться не удастся. Когда группа захвата, состоявшая из солдат армии США, настигла его в Альпах, он, несмотря даже на то, что части Вермахта еще продолжали вести бои в расположенных неподалеку городах, сдался в плен с таким спокойствием, точно лишь этого и ожидал.
Вышедшего в 1946-м на свободу Гейзенберга в Германии встретили, как героя. Оппенгеймер же еще и до окончания войны понимал, что послевоенная его жизнь легкой не будет. В конце 1930-х он участвовал в левом движении, и хотя профессору физики из Беркли такое прошлое ничем серьезным не грозило, когда Оппенгеймер возглавил работы, проводившиеся в Лос-Аламосе, ФБР собрало о нем исчерпывающие сведения. Затем он при первой встрече с представителями военной разведки солгал о некоторых подробностях своего прошлого. Несколько высокопоставленных чиновников пожелали отстранить Оппенгеймера от работы, однако Гроувз его отстоял, и в отместку враги Оппенгеймера начали попросту изводить его: большую часть времени, которое он провел на руководящем посту, телефон и квартира Оппенгеймера прослушивались, прежних друзей его подвергали допросам, а во всех разъездах за ним велась слежка. Жена Оппенгеймера начала пить, и пить сильно, а он, хоть и не подвергавшийся пока прямым нападкам, знал, что его найдется, чем шантажировать: ФБР следило за ним во время поездок в Сан-Франциско, где он проводил ночи с женщиной, с которой был близок в прошлом.
Что еще более важно, он знал о том, что произошло на озере Тинишё и что может произойти в Тихом океане. Сегодня широко распространено мнение, согласно которому атомная бомбардировка Японии была очевидным образом оправданной, поскольку альтернативой ее стало бы вторжение, которое могло привести к куда большему числу жертв. Однако в то время подобная ясность отсутствовала. Основная масса японской армии для американских сил угрозы не составляла, – она была изолирована в Китае, перебраться на родные острова ей не позволяли американские подводные лодки, к тому же над ней уже нависала огромная армия русских, готовая уничтожить ее, как только будет накоплено достаточное для этого количество сил. Значительная часть японской промышленности лежала в руинах. В начале 1945-го перед стратегическими бомбардировщиками США была поставлена задача: разрушить от тридцати до шестидесяти больших и малых городов Японии. К августу уже было разрушено пятьдесят восемь.
Руководивший тихоокеанской кампанией Дуглас Макартур вовсе не считал вторжение в Японию необходимым; председатель Комитета начальников штабов адмирал Лейхи и тогда, и впоследствии твердо держался мнения о том, что необходимость в применении атомной бомбы отсутствовала; Кертис Лимей, командовавший стратегической бомбардировочной авиацией, соглашался с ним. Даже Эйзенхауэр, который без всяких угрызений совести уничтожил бы, если бы этого потребовала безопасность его войск, тысячи солдат противника, усиленно противился использованию атомной бомбы, о чем и уведомил тогда же престарелого военного министра Генри Стимсона: «Я сказал ему, что выступаю против этого по двум причинам. Первая: японцы готовы капитулировать и нужда наносить по ним удар этой страшной штукой отсутствует. Вторая: мне претит мысль о том, что наша страна первой использует такое оружие. Что ж… старый джентльмен только рассвирепел…»
Ощущение, что бомба может и не понадобиться, было настолько сильным, что пошли разговоры о возможности сначала продемонстрировать ее в действии или, по крайней мере, изменить формулировки требования о капитуляции, ясно указав в нем, что император Японии сможет сохранить свое место. Оппенгеймер присутствовал на множестве совещаний, посвященных обсуждению этих вопросов: внимательно слушал, высказывался – не без уклончивости – за применение бомбы, если таковое потребуется, но одновременно и поддерживал оговорку о сохранении императора.
Ничему эти разговоры не помогли. Наиболее влиятельным советником Трумена был Джимми Бирнс, принадлежавший к тому же поколению, что и Лайман Дж. Бриггс, но обладавший куда менее мирным темпераментом. Этос, под влиянием которого складывалась личность Бирнса, сводился к тому, что в драке все средства хороши. Он вырос в 1880-х в штате Южная Каролина, вырос без отца и без воздействия каких-либо сдерживающих начал. Люди, посещавшие этот штат во времена несколько более ранние, дивились тому, что увидеть в тамошних судах жюри присяжных, у всех двенадцати членов которого имелся бы полный комплект глаз и ушей, удавалось очень нечасто. Южная Каролина все еще сохраняла нравственные установки пограничного сообщества, если там начиналась драка, люди выбивали друг другу глаза и пускали в ход зубы и ножи. Именно Бирнс добился того, что оговорка относительно императора, способная смягчить японских противников улаживания конфликта, была из условий капитуляции изъята. Да и такие глупости, как ожидание, когда будет усилена осуществляемая подводными лодками блокада Японии или когда русские сделают всю грязную работу, его нисколько не интересовали.
Выписки из протокола заседания президентского «Временного комитета», 1 июня 1945 года:
Мистер Бирнс порекомендовал и Комитет с ним согласился, использовать… против Японии бомбу как можно скорее; использовать ее надлежит для уничтожения военного завода, окруженного домами рабочих; и сделать это следует без предварительного оповещения.
Отчасти Оппенгеймер был с этим согласен, отчасти – особенно, оказываясь вдали от Вашингтона, – питал сомнения. Но так ли уж оно было важно? Он помог выпустить эти силы на волю, и теперь от него зависело очень не многое. Лесли Гроувз, начальник Оппенгеймера, был генераломГроувзом. Лос-Аламос был проектом армии Соединенных Штатов. А армия создает оружие для того, чтобы его использовать.
Атомную бомбу ожидала скорая погрузка на борт самолета.
Глава 13. 8.16 утра – над Японией
Посвистывавшей и вращавшейся бомбе («вытянутому в длину мусорному баку с плавниками») потребовалось сорок три секунды, чтобы долететь от сбросившего ее Б-29 до точки взрыва. В середине бомбы имелись маленькие отверстия, из которых в момент сбрасывания выдернулись проволочки, – это запустило часовой механизм первой системы наведения. Ближе к хвосту бомбы в ее темной стальной оболочке находились другие, просверленные в Нью-Мексико отверстия, в которые во время свободного падения засасывался воздух. Когда до земли осталось чуть больше 2100 м, связанное с этими отверстиями барометрическое реле включило вторую систему наведения.
С земли Б-29 выглядел как маленькая серебристая фигурка, бомба же, имевшая три метра в длину и семьдесят сантиметров в ширину, была слишком мала, чтобы ее вообще можно было разглядеть. Она посылала вниз, в находившийся прямо под ней госпиталь «Шина», слабые радиосигналы. Малая их часть поглощалась стенами госпиталя, но бóльшая, отражаясь уходила обратно в небо. Рядом с крутящимися плавниками бомбы торчали из ее корпуса тонкие хлыстики радиоантенн. Они принимали возвращавшиеся сигналы, а фиксирующая их аппаратура использовала разницу во времени между посылкой и приемом сигналов для определения высоты бомбы над землей.
Последний из таких сигналов был принят на высоте в 580 м.
Согласно расчетам Джона фон Неймана и других математиков, если бы взрыв произошел намного выше, значительная часть созданной им тепловой энергии рассеялась бы в воздухе; при взрыве на меньшей высоте, бомба образовала бы в земле огромную воронку. Высота же, немногим меньшая 600 м, была идеальной.
Электрический разряд воспламенил бездымный порох, создав тем самым подобие обычного выстрела из пушки. Теперь малая часть полного количества очищенного урана полетела по размещенному внутри бомбы орудийному стволу. При первоначальном проектировании предполагалось использовать ствол очень тяжелый – обычный ствол из числа тех, какими пользовалась морская артиллерия США. Лишь спустя несколько месяцев Оппенгеймер и его сотрудники сообразили, что корабельные орудия делаются тяжелыми потому, что они должны многократно выдерживать отдачу, которая возникает после каждого выстрела. Для бомбы такая прочность была, разумеется, не нужной: ее «пушке» предстояло произвести только один выстрел. В итоге ствол расточили, после чего он стал весить уже не 2270 кг, а примерно в пять раз меньше.
Первый урановый сегмент пролетал по расточенному пушечному стволу расстояние в 1,2 метра, а затем ударял в основную массу урана. Никогда еще на Земле не создавалось такого состоящего из очищенного урана шара весом в несколько десятков килограммов. Внутри него находилось множество пребывавших в свободном состоянии нейтронов и, хотя атомы урана хорошо защищены своими электронными оболочками, на свободные нейтроны, электрического заряда не имеющие, электроны никакого воздействия оказать не могли. Как мы уже видели, нейтроны пронизывают внешний электронный барьер подобно космическим зондам, пролетающим, устремляясь к Солнцу, мимо планет, и хотя многие из нейтронов вылетали с другой стороны атомов, некоторые все же врезались в крошечные центральные ядра.
Обычно эти ядра, переполненные положительно заряженными протонами, не пропускают в себя налетающие извне частицы. Однако лишенные электрического заряда нейтроны остаются невидимками и для протонов. Нейтроны врывались в ядра, нарушая их внутреннее равновесие, расшатывая их.
Атомы добываемого на Земле урана имеют возраст, превышающий 4,5 миллиарда лет. Только очень мощная сила, действовавшая в то время, когда возникала наша планета, могла втиснуть заряженные протоны в столь малый объем. После образования атомов урана начало работать сильное ядерное взаимодействие, которое, словно склеивая протоны, удерживало их вместе столь долгое время: пока остывала Земля и формировались ее континенты; пока Америка отделялась от Европы и медленно заполнялся водой северный Атлантический океан; пока на другой стороне земного шара извергались вулканы, создавая то, что затем стало Японией. И теперь единственный дополнительный нейтрон уничтожал это устойчивое равновесие.
Как только дрожание ядер достигает уровня, на котором превозмогается поддерживающее их целостность сильное взаимодействие, в дело вступает обычное электрическое взаимодействие, заставляющее протоны разлетаться. Обычное ядро весит совсем немного, а его фрагменты и того меньше. Ударяя на большой скорости в другие атомы урана, они возбуждают их ядра не так уж и сильно. Однако здесь плотность урана достаточно высока для того, чтобы началась цепная реакция, и вскоре вместо двух разлетающихся фрагментов уранового ядра появляется четыре, затем восемь, затем шестнадцать и так далее. Масса атомов «исчезает», обращаясь в энергию их разлетающихся с огромной скоростью осколков. Начинает работать формула E=mc 2.
Вся эта последовательность множащихся ядерных распадов завершается всего за несколько миллионных долей секунды. Бомба еще падала во влажном утреннем воздухе, внешнюю поверхность ее еще покрывала тонкая пленка сконденсировавшейся влаги, поскольку лишь сорок три секунды назад бомба находилась на высоте в 9,5 км, теперь же, в 580 метрах над госпиталем, температура воздуха составляла около 27 оС. За время протекания большей части реакции бомба успела пролететь вниз лишь долю сантиметра; глядя на нее, можно было увидеть лишь, как странно вздувается ее стальная поверхность, указывая на то, что происходит внутри.
Прежде чем завершиться, цепная реакция проходит через восемьдесят «поколений» удвоения. В последних таких «поколениях» фрагменты разорванных ядер урана оказываются столь многочисленными и движутся так быстро, что они начинают разогревать, ударяя в него, окружающий их металл. Самыми важными становятся последние несколько удвоений. Представьте, что в вашем саду имеется пруд, в котором плавают кувшинки, и что число их каждый день удваивается. Через восемьдесят дней они полностью покроют поверхность пруда. Но в какой день половина ее будет все еще свободной, открытой для солнца и воздуха? В семьдесят девятый.
Начиная с этого момента, действие формулы E=mc 2прекращается. Никакая масса больше не «исчезает» и никакая энергия не рождается. Энергия движения ядер просто преобразуется в тепловую энергию, как это происходит, когда вы потираете ладонью о ладонь, чтобы согреть их. Однако фрагменты ядер урана «трутся» об окружающий их металл с огромной скоростью, которую обеспечивает коэффициент c 2. Очень скоро они обретают скорость, лишь в несколько раз меньшую скорости света.
Удары фрагментов ядер о внутренность металлической оболочки бомбы приводят к тому, что металл нагревается. Начинаются они при температуре, близкой к температуре человеческого тела – 98,6 F, или 37 оС; затем достигается температура кипения воды – 212 F, или 10 °C; затем кипения свинца – 56 °C. Однако цепная реакция продолжается, распадается все большее число атомов урана и температура достигает 500 °C (как на поверхности Солнца), а там и нескольких миллионов градусов (как в центре Солнца) – и продолжает расти. На краткое время в центре еще висящей в воздухе бомбы создаются условия, схожие с теми, что имели место на ранних этапах рождения вселенной.
Тепло рвется наружу. Оно пронизывает окружающую уран стальную оболочку и с такой же легкостью минует массивный, весящий несколько тонн корпус бомбы, – но затем наступает пауза. Продукты реакции до того горячи, что стремятся избавиться от энергии. И они начинают испускать рентгеновские лучи, очень сильные – какая-то их часть уходит вверх, какая-то в стороны, но наибольшая по широкой дуге устремляется к земле.
Взрыв разрастается, фрагменты вещества стараются охладиться. Они исторгают бóльшую часть своей энергии. А затем, через 1/10000-ю секунды, когда рентгеновские лучи разлетаются уже достаточно далеко, тепловой шар начинает разрастаться снова.
Только теперь взрыв становится видимым. Обычным световым фотонам не удается пробиться сквозь пелену рентгеновских лучей, наблюдаемым оказывается лишь свечение, возникающее вне этой пелены. Когда же становится зримой полная вспышка, кажется, что в небе образовалась прореха. И в ней появляется нечто, напоминающее одно из гигантских солнц, которые существуют в отдаленных частях нашей галактики. Оно заполняет небо, в несколько сот раз превосходя размерами наше обычное Солнце.
Этот неземной объект полностью выгорает примерно за половину секунды, затем он тускнеет и через две-три секунды исчерпывает себя полностью. «Исчерпывается» же он главным образом за счет выброса вовне тепловой энергии. Начинаются пожары – и, судя по всему, начинаются все они одновременно; у людей, находящихся на поверхности земли, обгорает и большими лоскутами отстает от тел кожа. Так начинаются первые из десятков тысяч смертей, которые предстоит увидеть Хиросиме.
На эту вспышку уходит примерно треть созданной цепной реакцией энергии. В скором времени срабатывает и вся остальная. Жар «неземного объекта» вытесняет обычный воздух, и он разлетается со скоростью, какой Земле видеть почти никогда не приходилось – разве что в далеком прошлом, когда в нее врезался огромный метеорит или комета. Скорость эта во много раз превышает то, что способен сотворить какой бы то ни было ураган, – воздух несется совершенно бесшумно, ибо он обгоняет любой создаваемый его колоссальным напором звук. За этой ударной волной следует вторая, несколько более медленная, а следом в образовавшуюся пустоту врывается атмосферный воздух. На краткое время плотность воздуха падает практически до нуля. И вдалеке от взрыва начинают гибнуть пережившие его живые существа – их тела, оказавшиеся, пусть и не надолго, в вакууме космического пространства, просто взрываются изнутри.
Небольшое количество порожденного взрывом тепла никуда не уходит, оставаясь в непосредственной близости к тому месту, где совсем недавно находились предохранители, антенны и бездымный порох. И через несколько секунд это тепло начинает, раздуваясь, подниматься вверх, а поднявшись достаточно высоко, рассеивается.
Вот тогда-то и появляется гигантское грибовидное облако. Первая работа, которую проделало на Земле уравнение E=mc 2, завершается.
Часть 5. До скончания времен
Глава 14. Как сгорает Солнце
Свет, вспышку которого породил в 1945 взрыв в Хиросиме, достиг орбиты Луны. Малая часть его вернулась, отраженной, на Землю, все остальное продолжило движение вперед, достигло Солнца и понеслось дальше, в бесконечную вселенную. Эту вспышку можно было различить даже с Юпитера.
Для галактики же в целом она представляла собой лишь ничтожнейший всплеск света.
Одно лишь наше Солнце каждую секунды «взрывает» эквивалент многих миллионов таких бомб. Ибо E=mc 2относится не только к Земле. Все наши крадущиеся диверсанты, озадаченные ученые и бесстрастные бюрократы это лишь капля, еле слышный шепоток, добавленный к мощи уравнения.
Эйнштейн и другие физики поняли это уже давно, а то, что первое применение уравнения произошло в сфере вооружений, было всего лишь случайностью, объясняющейся нуждами военного времени с его ускоренным развитием техники. В этой части книги мы перейдем к картине более широкой: поднимемся над земной техникой и покажем, как наше уравнение правит всей вселенной – от первых вспыхнувших в ней звезд и до завершения ее жизни.
Сразу после открытия радиоактивности в 1890-х ученые заподозрили, что уран или подобное ему «топливо» может работать во всей вселенной и, в частности, поддерживать горение нашего Солнца. Именно нечто столь мощное и требовалось, поскольку открытия Дарвина и геологические находки показывали, что Земля должна была существовать – и обогреваться Солнцем – в течение миллиардов лет. Уголь и иные привычные виды топлива такой большой энергии дать не могли.
К сожалению, никаких признаков наличия урана на Солнце астрономы найти не сумели. Каждый химический элемент создает отчетливый зримый сигнал, и оптическое устройство, именуемое спектроскопом (ибо оно раскладывает любое излучение на составляющие его «спектра»), позволяет эти сигналы идентифицировать. Однако направьте спектроскоп на Солнце и вы ясно увидите: ни урана, ни тория, ни других радиоактивных элементов там нет.
При анализе света далеких звезд – как и нашего Солнца – бросалось в глаза еще одно обстоятельство: в них всегда присутствовало железо, и в очень большом количестве. Ко времени, когда Эйнштейну удалось, наконец, оставить работу в патентном бюро, к 1909 году, уже имелись очень веские доказательства того, что Солнце примерно на 66 процентов состоит из чистого железа.
Результат этот обескураживал. Уран способен изливать, в соответствии с формулой E=mc 2, энергию, поскольку его ядро столь велико и до того переполнено частицами, что оно еле-еле удерживает их в себе. Железо – это совсем другое дело. Ядро атома железа является едва ли не самым совершенным и стабильным из всех доступных воображению. Шар, состоящий из железа, – даже расплавленного, ионизированного или газообразного, – не смог бы изливать тепло в течение миллиардов лет.
И неожиданно выяснилось, что использовать E=mc 2и другие связанные с этим уравнения для истолкования того, что происходит во вселенной, невозможно. Астрономам оставалось лишь выглядывать за пределы земной атмосферы, в огромный космос со всеми его звездами, и дивиться.
Человеком, преодолевшим это препятствие и позволившим E=mc 2вырваться из крепких пут Земли, была молодая англичанка Сесилия Пэйн, которой нравилось смотреть, как далеко способен зайти ее ум. Увы, первые ее преподаватели по Кембриджскому университету, в который она поступила в 1919-м, интереса к такого рода экспериментам не питали. Она сменила факультет, потом сменила его еще раз и в итоге стала специализироваться по астрономии, а когда Пэйн принимала какое бы то ни былорешение, результаты неизменно получались впечатляющие. Прозанимавшись астрономией всего несколько дней, она впервые оказалась ночью вблизи университетского телескопа и привела в ужас ночного дежурного. Он «сбежал вниз по лестнице, – вспоминала Пэйн, – и, задыхаясь от изумления закричал: «Там какая-то женщина вопросы задает!»». Однако ее это не обескуражило, и несколько недель спустя произошел еще один инцидент такого рода, также ею описанный: «У меня появился вопрос и я поехала на велосипеде к Обсерватории физики Солнца. Там я обнаружила молодого человека с копной спадавших на глаза светлых волос, – он сидел верхом на коньке крыши одного из зданий, занимаясь ее починкой. «Я приехала, чтобы спросить, – крикнула я ему снизу, – почему в звездном спектре не наблюдается эффект Старка?»».
Этотмолодой человек не стал спасаться от нее бегством. Эдуард Милн – так его звали – и сам был астрономом; он и Пэйн подружились. Пэйн пыталась увлечь астрономией своих друзей и подруг с факультета искусств и хотя те, по большей части, понимали меньше половины того, что слышали от нее, Пэйн все равно пользовалась у них большой популярностью. Ее квартирка в Ньюнем-Колледже почти всегда была переполнена людьми. Один из ее друзей писал: «…с удобством разлегшись на полу (кресла ей ненавистны), она заводит разговор о чем угодно – от этики до новой теории приготовления какао».
В то время в Кембридже преподавал Резерфорд, однако что ему делать с Пэйн, он не понимал. С мужчинами Резерфорд вел себя грубовато, но дружелюбно, а вот с женщинами – грубовато и едва ли не по-свински. На лекциях он обращался с Пэйн попросту жестоко, добиваясь того, чтобы у его студентов-мужчин эта единственная среди них женщина ничего, кроме смеха, не вызывала. От посещения лекций Резерфорда ее это не отвратило – на семинарах Пэйн неизменно удавалось доказать, что она ни в чем не уступает даже лучшим его студентам, однако и сорок лет спустя, уже уйдя в отставку с поста профессора Гарварда, она помнила ту лекционную аудиторию с рядами выкрикивающих грубости студентов, которые лезли из кожи вон, пытаясь сделать то, чего ждет от них их профессор.
Зато спокойный квакер Артур Эддингтон, также работавший в университете, был рад видеть ее на своих семинарах. И хотя осторожная сдержанность никогда его не покидала, – если он приглашал студентов на чаепитие, на них непременно присутствовала его незамужняя старшая сестра, – Пэйн, которой шел тогда двадцать второй год, переняла у Эддингтона его почти не выражавшееся в словах преклонение перед силой теоретической мысли.
Эддингтон любил показывать своим студентам, каким образом разумные существа, живущие на полностью окутанной облаками планете, могли бы постичь основные особенности не наблюдаемой ими вселенной. Он представлял себе ход их рассуждений так: там, наверху, могут существовать раскаленные сферы, поскольку в плавающих по космосу облаках изначального газа должны постепенно формироваться такие его скопления, которые обладают плотностью, достаточной для того, чтобы внутри них началась ядерная реакция, благодаря чему они вспыхнули бы – и обратились в солнца. Плотность этих раскаленных сфер была бы достаточной и для того, чтобы сила их притяжения удерживала вращающиеся вокруг них планеты. И если бы вдруг задувший на этой мифической планете ветер разорвал облака, ее обитатели, взглянув вверх, увидели бы то, что они и ожидали увидеть, – вселенную, полную раскаленных звезд с вращающимися вокруг них планетами.
Мысль о том, что кто-то из обитателей Земли сумеет разрешить проблему входящего в состав Солнца железа, подтвердив тем самым правильность нарисованной Эддингтоном картины, была волнующей. И когда он поставил перед Пэйн задачу, касающуюся внутреннего строения звезд и бывшую хотя бы начальным шагом к решению этой проблемы, «задача эта преследовала меня днем и ночью. Помню мои яркие сны – я находилась в центре [гигантской звезды] Бетельгейзе и отчетливо понимала, как просто все в ней устроено; однако при свете дня эта простота куда-то исчезала».
Впрочем, и при поддержке такого замечательного человека, возможности защитить диссертацию в этой научной области женщина в Англии не имела, поэтому Пэйн перебралась в Гарвард, где преуспела еще больше. Она сменила плотные шерстяные платья на более легкие, модные в Америке 1920-х; нашла себе научного руководителя, многообещающего астрофизика Харлоу Шепли; ей нравилась свобода, царившая в студенческих общежитиях, нравилась новизна тем, которым посвящались университетские семинары. Ее распирал энтузиазм.
Вот он-то и мог стать серьезной преградой на ее пути. Энтузиазм в чистом виде для молодых ученых опасен. Если вас волнует новая область исследований, если вам не терпится присоединится к тому, чем занимаются ваши профессора и однокашники, это обычно приводит к тому, что вы предпринимаете попытки приладиться к принятым ими подходам. Студенты, работы которых выгодно отличаются от всех прочих, предпочитают, как правило, этого избегать, сохранять критическую дистанцию. Эйнштейн относился к своим цюрихским профессорам без особого почтения, считая большинство их просто рабочими лошадками, никогда не ставившими под сомнение основания того, чему они учили студентов. Фарадей не мог довольствоваться объяснениями, оставлявшими за скобками его сокровенное религиозное чувство; Лавуазье оскорбляла расплывчатая, лишенная точности химия, которую он получил в наследство от своих предшественников. Что касается Пэйн, необходимая ей дистанция возникла, когда она получше познакомилась со своими веселыми однокашниками. Вскоре после приезда в Гарвард: «Я рассказала подруге о том, как мне нравится одна девушка, жившая в том же, что и я, общежитии Рэдклифф-Колледжа. Ее это шокировало: «Она же еврейка!» – воскликнула моя подруга. Я сильно удивилась… а после обнаружила такое же отношение и к студентам африканского происхождения».
Обнаружила она и то, что происходило в задних комнатах Обсерватории. В 1923 году слово «вычислитель» никаких компьютеров не подразумевало. Оно подразумевало человека, единственная задача которого состояла в том, чтобы проводить вычисления. В Гарварде оно прилагалось к сидевшим в этих задних комнатах сутулым старым девам. Некоторые из них обладали некогда дарованиями первоклассных ученых («Мне всегда хотелось заняться математическим анализом, – сказала одна из них, – но [директор] не позволил»), однако давно их утратили, поскольку работа их состояла в измерении местоположений звезд или каталогизации томов, содержавших полученные ранее результаты. Если они выходили замуж, их увольняли; если жаловались на скудость получаемого ими жалования – увольняли опять-таки.
Лизе Майтнер, приступая в Берлине к научным исследованиям, тоже столкнулась с определенными проблемами, однако они и в сравнение не шли со здешней дискриминацией женщин, вынуждавшей их вести одинокое существование и лишавшей всех радостей жизни. Некоторым из гарвардских «вычислителей» удалось за несколько десятилетий, в течение которых они гнули спину за своими рабочими столами, промерить более 100000 спектральных линий. Но что эти линии означали и как они соотносились с новейшими физическими открытиями, – это, как правило, считалось не их ума делом.
Пэйн не желала, чтобы и ее затолкали в их ряды. Результаты спектроскопии могут выглядеть бессмысленными там, где они перекрываются. И Пэйн задумалась: насколько методы, посредством которых ее профессора отделяют одни линии от других, зависят от того, что у этих профессоров уже имеется на уме. К примеру, пусть читатель этой книги получше приглядится к нижеследующим буквам, а затем попытается их прочесть:
э т а к
о е н е
в с я к
о м у п
о у м у
Задача не из самых простых. Ну, правда, если вам удастся разглядеть «Этакое не всякому…», дальше все пойдет легко. Идея докторской диссертации, над которой Сесилия Пэйн работала здесь, в Бостоне 1920-х, состояла в том, чтобы обосновать и развить новую теорию, позволяющую интерпретировать результаты спектроскопических измерений. Ее работа была намного сложнее приведенного мной примера, поскольку спектрограммы солнца всегда включают то, что получено от фрагментов немалого числа элементов, – плюс искажения, создаваемые огромной температурой.
То, что сделала Пэйн, можно продемонстрировать с помощью аналогии. Если астрономы убеждены в том, что Солнце содержит огромное количество железа (а это представляется разумным, поскольку железа очень много и на Земле, и в астероидах), тогда существует только один способ прочтения двусмысленных спектрограмм. Допустим, к примеру, что спектрограмма выглядит так:
невыгодножелезомторговадур
Вы проводите ее грамматический разбор и читаете:
невыгодно Железомторговадур
Странное «торговадур» вас особенно не волнует. Появление «дур» вместо «ть» могло оказаться результатом сбоя спектроскопа, или какой-то протекающей на Солнце странной реакции, или просто затесавшегося сюда осколка другого элемента. Чтобы все сходилось одно к одному – так вообще никогда не бывает. Однако Пэйн смотрела на результаты спектрографии без какой-либо предвзятости. Что если они, на самом деле, пытаются сказать нам следующее:
не Выг ОДножелез Омто Рг Ова Дур
Она снова и снова просматривала спектрограммы, выискивая такого рода двусмысленности. Все остальные ученые поддерживали одно прочтение спектральных линий, позволявшее говорить о присутствии железа. Однако можно было без особых натяжек прочитывать спектрограммы и по-другому, обнаруживая в них не железо, а водород.
Еще до того, как Пэйн дописала диссертацию, среди астрофизиков поползли слухи о полученных ею результатах. Прежнее объяснение данных спектроскопии сводилось к тому, что Солнце на две трети, если не больше, состоит из железа, а согласно интерпретации этой молодой женщины, более 90 процентов его составляет водород, а все остальное – обладающий почти таким же малым весом гелий. Если она права, это изменит все представления о том, как горят звезды. Железо настолько стабильно, что никто и представить себе не может, каким образом его можно преобразовать с помощью формулы E=mc 2, заставив генерировать всю тепловую энергию нашего Солнца. Но кто знает, на что способен водород?
Это знала старая гвардия. Ни на что он не способен. Его там нет и быть не может. Все карьеры этих людей – все их детальные расчеты, вся их власть и должности – зависели от того, что Солнце состоит из железа. В конце концов, разве эта женщина не оперирует спектральными линиями, полученными от внешней атмосферы Солнца, вглубь его не заглядывая? Может быть, ее интерпретация просто ошибочна, поскольку не учитывает происходящие в этой атмосфере сдвиги температуры, наличие в ней неких химических смесей. Научный руководитель Пэйн заявил, что она ошибается, – следом заявил то же самое и егопрежний научный руководитель, высокомерный Генри Норрис Расселл, а с ним спорить было почти бессмысленно. Расселл обладал редкостным самомнением, он никогда не допускал и мысли о возможности своей неправоты, – к тому же, в астрономической науке Восточного побережья от него зависело как большинство грантов, так и любая возможность получения работы.








