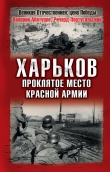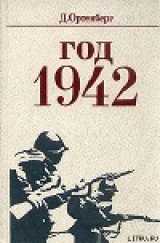
Текст книги "Год 1942"
Автор книги: Давид Ортенберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
"Мой муж с начала Отечественной войны находится в рядах Красной Армии. Жив он сейчас или нет, я не знаю. Пусть если не он, так его боевые товарищи узнают, что сделали со мной, советской женщиной, фашистские изверги.
29 ноября 1941 года меня и двух моих детей посадили в керченскую тюрьму. Я была беременна, со дня на день должна была разрешиться от бремени и уже не могла ходить. Немецкие солдаты, ворвавшиеся в мою квартиру, видели это. Однако они не посчитались ни с чем. Пинками вытолкали меня в сенцы, бросили на дроги, туда же кинули двух моих детей, и через полчаса я очутилась в сырой камере, где уже было около 30 человек – мужчины, женщины, дети.
Здесь, в тюрьме, я родила ребенка. Когда соседка по камере начала мне оказывать помощь, немецкий охранник закричал:
– Прекратить, буду стрелять.
За все девять дней тюрьмы мне давали только соленые бычки, а детям моим гнилую картошку. Нас мучила жажда. Сердце мое разрывалось, когда я видела, как дети умоляют немецкого часового дать им попить. Всякий раз вместо того, чтобы дать кружку воды, солдат нагло отвечал:
– Жить вам осталось недолго, проживете без воды.
На девятый день мне приказали раздеться до нижнего белья, взять детей и следовать во двор. На вопрос: "Куда вы меня ведете?" – немецкий солдат ответил пинком в живот. Вместе со мной вывели во двор еще несколько женщин с детьми. Они тоже были раздеты и стояли на снегу босиком. Прикладами винтовок нас загнали в грузовик, поставили там на колени и строго-настрого запретили поднимать голову. В таком положении нас вывезли за город, где уже была отрыта большая яма. Когда всех нас выстроили возле ямы, нервы мои не выдержали. Я обняла детей и крикнула, обернувшись к немецким солдатам:
– Стреляйте, сволочи, скоро вам будет конец...
И в этот момент раздались выстрелы. Пуля попала мне в левую лопатку и вышла через шею. Я упала в яму, на меня упали две убитых женщины, я потеряла сознание.
Спустя некоторое время пришла в себя и увидела рядом своих мертвых детей. Горе мое было так велико, что силы снова покинули меня. Лишь поздно вечером я очнулась. Крепко поцеловала детей и, высвободив свои ноги из-под трупов женщин, поползла в соседнюю деревню. На снегу оставались пятна крови. Почти через каждые десять метров я отдыхала.
Около полуночи меня подобрал старик крестьянин. Он спрятал меня в своей хате под кроватью и ухаживал за мной целую неделю, пока я немного не окрепла. По соседству жили немецкие солдаты. Старик каждую минуту рисковал жизнью. Он укрывал жену красноармейца, которая была расстреляна, но чудом уцелела.
Мне еще нет тридцати лет, а сейчас, после всех ужасов немецкой оккупации, я выгляжу старухой. Немцы умертвили трех моих детей, немецкая нуля оставила след на моем теле. Где найти слова, чтобы проклясть эту банду убийц, этих людоедов, пьющих кровь женщин и детей!..
Гор. Керчь, ул. Войкова. 8. Р. Велоцерковская".
И даже ныне, спустя сорок пять лет, когда перечитываешь это письмо, сердце сжимается и сыпятся проклятия на головы живых и мертвых фашистских злодеев.
"Где найти слова"?.. Их нашел Илья Сельвинский.
Журналистка Мария Архарова, работавшая с Сельвинским во фронтовой газете, рассказала:
– Помню, как застыл над этим рвом Илья Львович, и никогда не забуду его страдающих глаз. Мы были так оглушены всем увиденным, что возвращались в тяжелом молчании. Ни слов, ни слез не было, только судорожно сжималось горло и трудно было дышать.
Ночью Сельвинский написал эти стихи. Не очерк, не статью, а именно стихи. Он говорил, что писать об этом в прозе не в силах.
В них были не только горечь и боль, но и набатный призыв:
Но есть у нас и такая речь.
Которая всяких слов горячее:
Врагов осыпает проклятьем картечь,
Глаголом пророков гремят батареи.
Вы слышите трубы на рубежах?
Смятение... Крики... Бледнеют громилы.
Бегут! Но некуда им убежать
От вашей кровавой могилы.
Поэт звал никогда не забывать керченскую трагедию. И сам никогда не забывал, до конца своей жизни. Думаю, что именно поэтому уже после войны он дописал в этом стихотворении еще одну строфу:
Ослабьте же мышцы. Прикройте веки.
Травою взойдите у этих высот.
Кто вас увидел, отныне навеки
Все ваши раны в душе унесет.
Очередная моя поездка на фронт – 20-я армия. Взял с собой одного из наших литературных работников, Александра Кривицкого. За Волоколамском, у Лудиной горы, нашли командный пункт армии. Командовал ею человек, чье имя называешь с отвращением, – Власов. Может быть, об этой встрече и не стоило бы писать, но нельзя уходить от всего, что было тогда, а было не только благородное и хорошее, но и плохое, даже мерзкое.
В штабном блиндаже нас встретил мужчина высокого роста, худощавый, в очках с темной оправой на морщинистом лице. Это и был Власов. Посидели с ним часа два. На истрепанной карте с красными и синими кружками, овалами и стрелами он показал путь, который прошла армия от той самой знаменитой Красной Поляны, чуть ли не окраины Москвы, откуда немцы могли уже обстреливать из тяжелых пушек центр города. Рывок большой, быстрый совершила армия. Но сейчас наступление по сути приостановилось.
Втроем на крестьянских санях через оголенный, расщепленный и казавшийся мертвым лес поехали в дивизию, оттуда – в полк. Здесь идут бои местного значения: то берут какую-то безымянную высотку, то отдают, ночью ее снова будут атаковать. Очевидно, на многое рассчитывать не приходится.
Видели мы Власова в общении с бойцами на "передке" и в тылу – с прибывшим пополнением. Говорил он много, грубовато острил, сыпал прибаутками. Кривицкий запомнил и записал: "При всем том часто оглядывался на нас, проверяя, какое производит впечатление. "Артист!" – шепнул дивизионный..." Ну что ж, пришли мы к выводу, каждый ведет себя в соответствии с натурой, грех не самый большой.
Возвратились мы на КП армии вечером. Власов завел нас в свою избу. До позднего вечера мы беседовали с ним, потом, оставив Кривицкого здесь ночевать, ушли в штабной блиндаж. Ночью немцы открыли такой сильный артиллерийский огонь, что хаты ходуном ходили. И вот Власов звонит к себе в избу, будит Кривицкого и спрашивает:
– Вы что делаете?
– Сплю, – отвечает тот.
– Спите! И не беспокойтесь, я сейчас прикажу открыть контрбатарейную стрельбу...
Вот, подумали мы, какое внимание нашему брату-газетчику!..
Вспоминаю, что Власов то и дело употреблял имя Суворова, к месту и не к месту. От этого тоже веяло театром, позерством. Кстати, это заметили не только мы. Через неделю в 20-ю армию поехал Эренбург. Пробыл там двое суток. Встречался с Власовым. Впечатления совпали. Эренбург рассказывал мне, а потом в своих воспоминаниях написал: "Он меня изумил прежде всего ростом метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами – говорил он образно, порой нарочито грубо... У меня было двойное чувство: я любовался и меня в то же время коробило – было что-то актерское в оборотах речи, интонациях, жестах. Вечером, когда Власов начал длинную беседу со мной, я понял истоки его поведения: часа два он говорил о Суворове, и в моей записной книжке среди других я отметил: "Говорит о Суворове как о человеке, с которым прожил годы".
Дальнейшая судьба Власова, имя которого стало синонимом самой подлой измены, хорошо известна. Именно к нему применимы слова Горького: "Сравнить предателя не с кем и не с чем. Я думаю, что даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы".
Читатель может меня спросить: не хочу ли я сказать, что в те дни я почувствовал двоедушие Власова? Нет, таким прозрением я не обладал, да и не только я – люди, которые вместе с ним служили, не догадывались, что он таит в своей душе.
Когда мы узнали о предательстве Власова, Эренбург зашел ко мне, долго ахал и охал: мол, чужая душа – потемки. Он вспомнил поговорку, услышанную от Власова: "У всякого Федорки свои отговорки". Рассказывал, что, прощаясь, Власов трижды его поцеловал. Илья Григорьевич и сейчас тер щеку, словно старался стереть оставшийся там след от иудиных поцелуев...
Наш корреспондент по Калининскому фронту Леонид Высокоостровский прислал в редакцию "объявление": он снял его со стены дома в одном из освобожденных городов. "Объявление" написано немцем, видимо, недоучившимся русскому языку. Вот несколько строк из него:
"Все жители должны немедленно после возглашения бурмистра зарегистрироваться.
Исключения допущены с разрешением о невнушительности от охранной полиции...
Применять немецкий привет есть преимущество германских поданных...
Кто имеет типографию или тому подобное заведение для распространения производств умственных работ должен иметь на это разрешение.
Всем управным приказам выданные немецкими военными частями необходимо слушаться".
Среди различных запретов и такой:
"Знаки величия русского государства в занятой русской области вести и применять не разрешено".
Такие материалы сразу же передаются Илье Эренбургу.
Передали и это "объявление". А в сегодняшней газете появилась его статья "Знаки величия".
Писатель не стал комментировать "неграмотный и глупый бред прусского солдафона", но по поводу "знаков величия русского государства" сказал свое слово. Приведу его хотя бы в выдержках:
"Я не понимаю точного смысла этих отвратительных и наглых слов, но я хорошо понимаю их намерение: унизить наш народ. Жалкие потуги палача-на-час поколебать величие России!
В Ясной Поляне немцы хотели уничтожить наши "знаки величия", и для этого надругались над могилой Толстого. Но Толстой по-прежнему велик, и ничтожен презренный Гитлер...
Нельзя уничтожить "знаки величия русского государства" – они в сердцах каждого русского. Они неистребимы и в захваченных немцами городах. О славе прошлого, о вольности, о высоком искусстве говорят камни Новгорода. О великой борьбе русского народа шумит скованная льдом Березина. Партизаны в русских лесах – это "знаки величия". И спокойные лица русских героев, которых немцы ведут на виселицу, – это тоже священные "знаки величия русского государства".
Они хотят, чтобы русские перестали быть русскими – мыши пусть изгрызут Арарат! Из кровавой метели Россия выйдет с высоко поднятой головой – еще выше, еще прекрасней.
"Знаки величия"? Русский язык. Не тот, на котором пишут свои приказы полуумные немцы, нет. Тот, на котором писал бессмертный Пушкин.
"Знаки величия"? Память. Русские люди в захваченных немцами городах помнят и ждут. Трудно было ждать в октябре. Легче ждать в феврале: громко гремят орудия, тихо скрипят лыжи – это Красная Армия идет на запад".
Март
6 марта
Одним из главных событий истекшей недели продолжает оставаться сражение в районе Старой Руссы. Идет, как стали говорить, «добивание» группировки врага. Нелегкая это была задача: расчленять и уничтожать ее. Достаточно прочитать новые сообщения наших спецкоров, чтобы в этом убедиться. Викентий Дерман в корреспонденции «Ночной удар по фашистам в районе Старой Руссы» рассказывает, сколько сил и тактического искусства пришлось приложить для того, чтобы овладеть только одним укрепленным узлом противника. Неоднократные дневные атаки не приносили успеха. Лишь хорошо подготовленной ночной операцией, длившейся до самого утра, удалось сломить сопротивление врага.
Освобождаются новые и новые села и деревни, идет перемалывание техники и живой силы немцев. Вот что, например, рассказывается в статье "Судьба одной немецкой дивизии "весеннего резерва". Речь в ней о 5-й пехотной дивизии. Первый раз ее разгромили в августе 1941 года под Смоленском, где она потеряла почти две трети своего состава. Второй раз – в октябре на полях Московской битвы. Ее отправили для переформирования во Францию и срочно перебросили под Старую Руссу на помощь 16-й армии. И здесь ее тоже изрядно потрепали.
Но и нам это стоило немалых жертв. Каких-либо цифр наших потерь в газете нет, но достаточно прочитать корреспонденцию Е. Чернова из 11-го гвардейского артиллерийского полка, чтобы понять это: "...У нас три орудия получили повреждения... Начался неравный бой одного орудия против целой батареи. Вскоре разрывом снаряда был убит наводчик Черенков... Через несколько минут выбыли из строя еще два красноармейца. Месронян с оставшимися двумя бойцами отнес раненых в укрытие и снова открыл огонь..."
В репортаже о действиях вражеской авиации говорится, что немецкое командование бросает в бой большое количество самолетов. Транспортная авиация фашистов пытается снабдить окруженные части боеприпасами и продовольствием. Все верно. Но вот следовавшая за этим уверенная фраза: "Но и это не помогает немцам" вряд ли соответствовала действительности. Мы недооценили возможности немецкой авиации. Да и не только мы: в первую очередь фронтовое командование и Генштаб. Позже это стало ясно...
* * *
На первой полосе, там, где публикуется лишь краткая информация о событиях текущего дня, напечатана большая – на две колонки – корреспонденция "Как был взят город Юхнов". Исключение сделано сознательно. Уже много дней не было сообщений с Западного фронта об освобождении городов. Юхнов сам по себе городок небольшой, но, как известно, на войне свои измерения. Оперативное значение населенного пункта не всегда определяется его размером. Юхнов был у немцев одним из сильных и важных узлов обороны. После падения Калуги они создали линию обороны именно на юхновском рубеже. О боях на этих рубежах и рассказывает наш спецкор.
Надо признать, что не все было в этой корреспонденции договорено до конца, не сказано, что первая попытка в феврале прорвать оборону противника потерпела неудачу. Лишь в мартовские дни нашим войскам удалось разгромить юхновскую группировку врага, освободить город. Не смогли мы по вполне понятным причинам сказать и о том, что выполнить полностью задачу, поставленную войскам, – соединиться с частями, действовавшими южнее и восточнее Вязьмы, – не удалось.
Кстати отмечу, что Юхнов был последним городом, освобожденным войсками Западного фронта во время зимнего и весеннего наступления.
* * *
Я рассказывал о крестьянине Иване Петровиче Иванове из деревни Лишняги, повторившем подвиг Ивана Сусанина. А вот сегодня напечатан очерк нашего корреспондента по Южному фронту Лильина "Бомбардир-наводчик русской армии" о таком же старике, чей подвиг необычен и удивителен даже для столь щедрой на невероятное этой войны.
Один из полков Южного фронта ворвался в село и завязал бой на его окраине. Немцы ответили контратакой. Появились танки противника. Они шли но улице, где стоял дом местного крестьянина Семена Ильича Беличенко, артиллериста русско-японской и первой мировой войн. Натиск врага сдерживала наша рота. Ее прикрывала полковая батарея. Старик увидел, что орудийный расчет под обстрелом вражеских минометов поредел, кинулся к лейтенанту, командовавшему батареей, отрапортовал:
– Бомбардир-наводчик русской армии Семен Беличенко. Дозвольте послужить.
– Помогай, если можешь.
Семен Ильич стал подтаскивать снаряды.
Когда убило наводчика. Беличенко стал на его место. В конце улицы появились танки. Они шли гуськом. Беличенко навел орудие и выстрелил. То ли не подвел наметанный глаз, то ли просто удача выпала на его долю, но передний танк он подбил.
На другой день бой возобновился. Но не пришлось больше Семену Ильичу стоять возле пушки. Его ранило немецким снарядом. Беличенко отправили в медсанбат. Через несколько дней в полк передали по телеграфу приказ Военного совета фронта: "Объявите колхознику Семену Ильичу Беличенко, что за проявленную доблесть в бою он награжден орденом Красного Знамени". Приказ уже не застал в живых героя.
Это было более сорока лет назад. Увы, в очерке по понятным причинам не было указано название села и района. А ныне я отыскал в Центральном архиве Министерства обороны наградной лист и приказ командующего фронтом Р. Я. Малиновского о награждении Беличенко боевым орденом. Узнал, что сражался он в рядах 206-го полка 99-й стрелковой дивизии. Узнал и название села, откуда родом Беличенко и где был тот самый бой. Это Никифоровка Артемовского района Донецкой области. Написал в местную школу, где, полагал, как и во многих школах, должны быть следопыты. И вскоре получил ответ. Правда, скуповатый, как бы анкетные данные, но спасибо и за это.
Беличенко родился в семье крестьянина-бедняка. Пять лет прослужил в старой армии артиллеристом. После демобилизации работал путевым сторожем на железной дороге и был уволен за укрытие революционера, бежавшего из ссылки. А затем – действующая армия, русско-японская война. Там, под Мукденом, его батарея, в живых из которой остались три солдата, мужественно сражалась с японцами: сам Беличенко был ранен, награжден Георгиевским крестом. В первую мировую тоже служил в артиллерии. После войны вернулся в село, работал в сельском хозяйстве. Первым в деревне вступил в колхоз, где и трудился до конца своей жизни.
У Семена Ильича было семь сыновей и дочь. Три сына – участники гражданской войны: четверо ушли на фронт Великой Отечественной войны. Один сын не вернулся с гражданской, двое погибли в Отечественную войну...
Заслуживают внимания такие строки из наградного листа С. И. Беличенко: "Когда танки врага усилили нажим на наши боевые порядки и усилился минометный огонь и автоматный огонь, бойцы поколебались и дрогнули, тов. Беличонко... выкатил пушку на открытую огневую позицию, сам подкатывал снаряды, стрелял из орудия и корректировал огонь..."
Впервые в этом году появилось сообщение "Налет немецких самолетов на Москву": "В ночь с 5 на 6 марта группа немецких самолетов пыталась совершить налет на Москву. Огнем наших зенитных батарей и действиями ночных истребителей вражеские самолеты были рассеяны. Проникшие в район города два-три немецких самолета беспорядочно сбросили несколько бомб, причинивших незначительный ущерб гражданскому населению. Есть жертвы."
В нынешнем году это была не единственная попытка налета вражеской авиации на столицу. Конечно, немецкое командование отлично знало, что эти налеты ничего не решали. Но Геббельс поднял невероятную шумиху о "величайших" победах фашистской авиации над Москвой.
Однако и эти одиночные прорывы немецких самолетов к столице вызвали беспокойство. Сегодня я заезжал в Ставку и узнал, что у Сталина был резкий разговор с руководителями ПВО; он категорически потребовал, чтобы больше над столицей не появлялся ни один вражеский самолет. А мы, в свою очередь, стали шире публиковать материалы о тех летчиках и зенитчиках, которые преграждали немецким самолетам путь в Москву.
* * *
В эти дни на страницах газеты появились снимки нашего нового фоторепортера Георгия Хомзора. Одно время он работал в "Красной звезде" ретушером, затем перекочевал в "Известия", но вскоре был уволен.
Ныне причины его увольнения вызывают улыбку и веселые реплики, а тогда...
В тот злополучный для Хомзора день, 28 сентября 1939 года, в редакции ждали документы о заключении германо-советского договора. Хомзор приготовил карту-схему, на которой оставалось нанести только линию "границы между обоюдными государственными интересами" (как это было обозначено в договоре), и ждал. Документы пришли с опозданием. Хомзор быстро провел по карте черту, и на следующий день карта появилась в "Известиях". А через несколько дней германский посол прислал в Наркомат иностранных дел СССР протест: на карте, опубликованной в газете, два селения – Остроленко и Кристоноль – почему-то оказались на советской стороне.
Стали разбираться. Выяснилось, что в документах, полученных редакцией, эти населенные пункты действительно находились на германской стороне, но их названия воспроизводились на нашей стороне. И Хомзор, чтобы устранить эту "несообразность", перенес две точки, обозначавшие Остроленко и Кристополь, на нашу сторону.
Не знаю, что ответили послу, но сразу же последовал приказ об увольнении Хомзора. Тогдашний главный редактор "Известий" Я. Г. Селих позже рассказывал, что, когда доложили Сталину о случившемся, он ничего не сказал, только улыбнулся. Это, объяснил Селих, и спасло Хомзора от еще больших неприятностей.
А когда в январе сорок второго года Хомзор закончил военно-политическое училище, мы вытребовали старого краснозвездовца в нашу газету.
Вспоминая его работы, не могу не рассказать об одном любопытном эпизоде.
Отправили мы Хомзора на Калининский фронт. Когда он находился в одном из соединений, сюда приехал командующий фронтом И. С. Конев. Хомзор встревожился. Кто-то ему сказал, что комфронта не терпит, когда на него наставляют фотообъектив. Очевидно, пошутили, но наш спецкор спрятал "лейку". А Конев беседует с бойцами, вручает ордена и медали. Может ли настоящий фоторепортер стоять рядом и безучастно смотреть, как пропадают такие выигрышные кадры? Он вытащил "лейку" и стал щелкать.
– Вы кто? – спросил генерал.
Хомзор назвал себя. Ничего не сказал Конев. А на второй день фотокорреспондента срочно разыскали. Его вызывал к себе командующий фронтом.
Ни жив ни мертв примчался Хомзор на КП фронта. Думал, все та же история: нелюбовь генерала к "лейке". А Конев пригласил его сесть и спросил:
– Давно у нас?
– Месяца два.
– Что же не являетесь? Вчера снимали? Получилось что-нибудь? Можете показать?
Хомзор помчался в Москву. За день и ночь отпечатал с полсотни снимков старых и новых, – сделанных в войсках Конева. А на второй день был уже в блиндаже комфронта и показал ему фотографии. Генерал удивился: "Когда успели?" Он внимательно рассматривал каждый снимок:
– Это хорошо. Это здорово.
Отобрал несколько снимков и повесил у себя на стенке. А потом как бы невзначай спросил корреспондента:
– А как вы передвигаетесь?
– На попутных.
– Вот что, – сказал Конев, – машина у нас не проблема. – Вызвал адъютанта и распорядился выделить для Хомзора из резерва автобатальона "эмку". На этой машине Хомзор и колесил по фронту. А ордер на "эмку" за № 101 он до сих пор хранит у себя как своего рода сувенир военного времени.
Эта встреча Хомзора с Коневым имела продолжение в самом конце войны. В Центральном архиве Министерства обороны я ознакомился с наградным листом, заполненным Политуправлением 1-го Украинского фронта на Хомзора. Его представляли к награде орденом Отечественной войны II степени. На этом листе есть поправка, сделанная рукой Конева: вместо слов "Отечественной войны II степени" – "орден Красного Знамени". Награда для фоторепортеров редкая.
Конечно, такую высокую оценку Хомзор получил не только за калининские снимки, а за свой мужественный труд в годы войны. Об этом маршал прочитал в наградном листе, да и сам видел в "Красной звезде" снимки Хомзора.
11 марта
Главная тема репортажей последнего времени выражена в заголовках: «Умелое отражение вражеских контратак», «Вражеские контратаки отбиты», «Удары по контратакующим немцам» и т. п. Многочисленные сообщения спецкоров о вражеских контратаках не могли нас не волновать. Что за этим кроется, каков их характер, масштабы, цели? Я решил проконсультироваться в Перхушкове.
Зашел к Жукову. У него сидел начальник штаба фронта генерал Соколовский. Хотел дождаться, когда Георгий Константинович останется один, чтобы поговорить с ним, так сказать, с глазу на глаз, но комфронта задержал Соколовского:
– Послушаем, опять редактор приехал с тем вопросом...
С Василием Даниловичем мне не раз приходилось встречаться в Перхушкове. Интересный человек, колоритная фигура военачальника. Статный, с широкими плечами, чуть полный, хотя полнота его скрадывалась высоким ростом. Темные, чуть-чуть кудрявившиеся волосы. Глубокие светло-карие глаза. Когда он размышлял, на лбу появлялись морщинки. Часто хмурил брови, но они сразу же разглаживались. Малоулыбчив. Внешне нетороплив, четкие жесты. Был он, как говорится, штабист от бога. Все знал, все нити фронтовой жизни держал в своих руках. На столе у него мало бумаг, рассказывал по памяти... Конечно, я обрадовался, что в нашей беседе примет участие и Соколовский.
Что касается "того вопроса", о котором помянул Жуков, то имелось в виду вот что. Недавно я приезжал к нему, чтобы разобраться во фронтовой ситуации. Из всего видно было, что наше наступление замедлилось, можно сказать даже определеннее – затухает. А ведь Ставка не отменяла своих директив, требовала продолжать наступление и выполнить поставленную январским приказом задачу. Жуков дал тогда мне откровенный ответ: так оно и есть, больших перемен на фронте ожидать не приходится. Понятно, что возвращаться мне к этому разговору не было смысла:
– Нет, Георгий Константинович, – ответил я. – Сегодня нас волнуют немецкие контратаки...
Вот как вкратце объяснили мне ситуацию Жуков и Соколовский. В дни боев за Москву наши войска, сдерживая противника, вели беспрерывные контратаки, которые затем переросли в контрнаступление. Немцы такой задачи перед собой не ставят. Их контратаки носят ограниченный характер и имеют целью выиграть время, чтобы создать новую оборонительную линию. По крайней мере, в данное время.
Кстати, в штабе фронта я прочитал приказ по 59-му немецкому армейскому корпусу, добытому нашими разведчиками.
Там так и было сказано: "Открывать огонь по наступающим порядкам русских с ближних дистанций, срывать наступление, дабы в тот момент, когда оно ослабнет, контратаковать и удержать таким образом обороняемый рубеж".
Из этой беседы, дополненной нашими собственными материалами, и родилась большая трехколонная статья "Что представляют собою немецкие контратаки". Она раскрывала тактику противника в этом виде боя, детально прослеживала все виды и формы вражеских контратак, их масштабы и цели.
Как отражать контратаки немецких частей? Со статьей на эту тему в сегодняшнем номере газеты выступил полковник Н. А. Таленский, генштабист. Он недавно вернулся с фронта и как раз собрал большой материал о немецких контратаках. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что обе эти статьи сослужили свою службу для командования наших частей и соединений, и не было бы ошибкой, если бы над ними была поставлена, скажем, такая рубрика: "Руководство к действию". Во всяком случае, именно так мне сказал А. М. Василевский во время одной из наших бесед. И, как показалось, ему было лестно, что его генштабист так хорошо знает дело...
* * *
Корреспонденты по Юго-Западному фронту передали по телеграфу краткое сообщение о воздушном бое, разыгравшемся на одном из участков этого фронта. Семь советских летчиков капитана Б. Еремина на истребителях "Як-1" выиграли бой против 25 самолетов противника, из которых семь были "Ю-88" и "Ю-87", а 18 истребителей – "Мессершмитт-109". Эскадрилья сбила один "юнкерс" и четыре "мессершмитта". Наши летчики без единой потери благополучно сели на свой аэродром. В репортаже были названы имена всех семи летчиков.
Событие, как мы поняли, из ряда вон выходящее. Репортаж набрали на четыре колонки крупным шрифтом и под заголовком "7 против 25" поместили на второй полосе. В этом же номере дали передовую статью "Воевали не числом, а умением". Решили напечатать и фотографии летчиков. Достать их было поручено Савве Дангулову, о котором говорили, что в штабе ВВС он свой человек. Позвонил он туда, объяснил задачу. Там ответили, что фотографии могут дать, только их нужно выдрать из личных дел летчиков, на что требуется разрешение начальника управления полковника Василия Сталина. Дангулов и помчался к нему.
Они встречались не раз. В конце лета сорок первого года в редакции возникла идея напечатать статью о некоторых особенностях воздушных боев. Автором этой статьи Дангулов и рекомендовал Василия Сталина. В звании майора тот служил тогда в штабе ВВС инспектором – летчиком. Дангулову дали задание: побывать у В. Сталина, рассказать ему о намерениях редакции, если потребуется, помочь в работе над статьей.
Майор без лишних слов дал согласие, при подготовке материала высказал дельные мысли. Несколько дней спустя корреспондент положил мне на стол статью, которая тут же была направлена в набор.
Печатать ее без ведома Верховного мы не решились, хотя сам майор этого вопроса перед редакцией не ставил. Послали в Кремль. Обычно Сталин на наши письма отвечал сразу или на следующий день. А тогда молчание затянулось: ясно было, что Сталин не одобряет публикации статьи. Весьма возможно, что причиной тому была ситуация на фронте, к той поре осложнившаяся; не ко времени была такая статья. Возможно, была и другая причина: Сталин мог подумать, что автор статьи был выбран редакцией не без задней мысли...
И вот новая встреча. За эти полгода Василий стал полковником. Ну что ж, время военное, это естественно...
Первая полоса газеты, где предполагалось разместить фотографии семи героев, версталась последней, но время было уже на пределе. Мы ждали снимки с минуты на минуту. Прибыл Дангулов только через четыре часа. Вот что он рассказал:
– Явился я в штаб ВВС, к Василию Сталину, и был встречен сплошным фронтом адъютантов. Пришлось набраться терпения и ждать. Когда минул третий час ожидания, я стал громко возмущаться, тем более что из редакции уже дважды звонили. Кто-то доложил об этом полковнику. Меня вызвали в кабинет тут же: Василий Сталин был в гневе. Помню, как стремительно он шагнул ко мне навстречу. Я почувствовал приближение беды: не даст он портить личные дела летчиков. Но произошло чудо: полковник остановился как вкопанный: он меня узнал. Через десяток минут личные дела летчиков притащили прямо в его кабинет, он сам выдрал из них фотографии, вручил мне, взяв обещание сразу же вернуть.
А ныне, вспоминая этот эпизод, Дангулов заметил: "Я счастливый вернулся в редакцию со снимками. Только вот что мне не давало покоя: в соответствующих условиях достаточно было полугода, только полугода, чтобы человек так изменился..."
В сегодняшнем номере на всю первую полосу напечатаны фото семи летчиков, молодых, даже юных, – снимки-то были сделаны за несколько лет до войны! Под ними подпись: "Отважные патриоты – летчики, одержавшие победу над 25 вражескими самолетами (слева направо): командир эскадрильи капитан Б. Еремин, капитан И. Запрягаев, лейтенант М. Седов, лейтенант А. Саломатин, лейтенант В. Скотнов, лейтенант А. Мартынов и старший сержант Д. Король".
Рано утром, когда ротация выбросила первую тысячу экземпляров газеты, ко мне прямо-таки ворвался заместитель начальника фронтового отдела Борис Король и, показывая на последний снимок, воскликнул:
– Да это же мой родной брат, Дмитрий Король!..
Все очень обрадовались, словно отважный летчик был и нашим родственником. Поздравили, конечно, коллегу...
А сегодня поздно вечером я узнал, что подвиг семи обсуждался в Ставке и Сталин сказал, что его надо широко популяризировать в газетах. Вот, мол, так и надо воевать, не числом, а умением. Эти слова Верховного мне передал военком Генштаба Боков и прямо сказал, что реплику Сталина надо воспринимать как задание "Красной звезде".