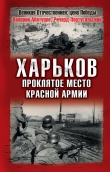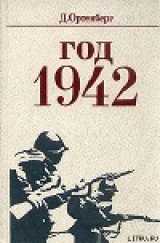
Текст книги "Год 1942"
Автор книги: Давид Ортенберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
– А вы похвалите севастопольцев и без моей телеграммы...
Наши "передовики", как мы называли авторов передовиц, сразу же засели за статью, которую назвали "Герои Севастополя". И все же мы нарушили указание Верховного. В передовой полностью привели текст телеграммы, выделив его жирным шрифтом. Но, правда, опустили подпись Сталина.
* * *
Вновь, после десятидневного перерыва, в сводках Совинформбюро появилось Харьковское направление. Ударные группировки противника начали наступление в районе Чугуева, Балаклеи и южнее Изюма – в направлении на Купянск. Публикуем подробный репортаж с Юго-Западного фронта. Наши корреспонденты пишут: "В ряде районов бои носят упорный характер, поскольку с обеих сторон введено большое количество техники..." Есть и сообщение, что противнику удалось, как было принято тогда выражаться в газетах, "вклиниться в наши позиции", то есть продвинуться вперед. Но в Генштабе я узнал, что войска получили приказ Ставки держаться, на удар отвечать контрударом. Решили: о том, что произошло, пока не печатать...
* * *
Опубликовано письмо Николая Тихонова "Ленинград в июне", занявшее в газете, как мы и договорились, больше места, чем предыдущее письмо, – два подвала. Перед читателями встают картины повседневной жизни блокадного Ленинграда, запечатленные рукой художника:
"Сияющее синее небо. Облака от залива белые, пушистые, летние. В трамваях, идущих из пригорода, на коленях у женщин охапки цветущей черемухи, в руках лопаты. Но эти загорелые руки роют не только окопы. Они работают сейчас на трудовом фронте – весь город занялся огородами. И девчонки в кокетливых платочках, и старые работницы, с лиц которых постепенно сошли тени голодной зимы, и мужчины, не пошедшие еще в армию, старики-бородачи, все с лопатами, все говорят о рассаде, о скороспелой картошке, моркови, капусте. В самом городе гряды вырастают на бульварах, на газонах, в крошечных садовых уголках, на пустырях между огромными безоконными задними фасадами домов, рядом с памятниками в общественных садах. Везде начинают зеленеть грядки..."
И картина заводского труда:
"Директору звонят из литейной, что снаряды ложатся все ближе. Как быть? Прекратить литье – об этом никто не думает. Он велит оставить минимальное количество добровольцев, а остальным уйти в укрытие. "Есть уйти в укрытие всем, кроме добровольцев!" Через час обстрел прекращается. Директор звонит: "Ну, как? Все в порядке? Кто оставался добровольцем?" Кто остался! "Все остались". Никто не ушел, работали нормально".
Вторая часть письма – рассказ о фронте. "Мы исходили вдоль и поперек ходы сообщений, напомнившие мне знакомые картины фронта первой мировой войны. Так вот во что превратилась "молниеносная война" Гитлера! Окопы против окопов, снайпер против снайпера, проволока против проволоки. И методическое истребление немцев, заставившее их забыть, как ходят люди во весь рост. На брюхе ползут они, спасаясь от пуль, в свои блиндажи и сидят там ночью, опасаясь удара... И никакой генерал не объяснит немецкому солдату, что же дальше, потому что дальше только поражение и неизбежный разгром..." Люди, защищающие Ленинград, – "это люди особой породы. Они остановили немца, закопали его в землю. Пусть он подымет голову – он ее потеряет незамедлительно!"
* * *
Леонид Высокоостровский прислал с Калининского фронта любопытную корреспонденцию "Партизаны сорвали маневр врага". Шла передислокация немецких войск с одного участка фронта на другой. Чтобы скрыть ее, немцы стали передвигаться небольшими колоннами по разным дорогам. Здесь их и застукали партизаны. Идет рассказ о том, как умело и доблестно партизаны это сделали. В одном месте взорвали мост. В другом устроили засаду. Маскировка. Внезапность. Огневые налеты. Словом, потеряв немало солдат и офицеров, немецкое командование больше не рисковало...
17 июня
Вернулся в Москву из далекого Ташкента Алексей Толстой. На второй день «по долгу службы» явился в редакцию. Его, как всегда, прежде всего интересовала обстановка на фронте: Керчь, Харьков. Севастополь, а также перспектива текущего года. Рассказал я, что знал, не так уж и много, но во всяком случае гораздо больше, чем сообщало Совинформбюро и что печаталось в нашей газете. Подвел к карте, занимавшей чуть ли не полстены в моем кабинете, показал новую линию фронтов, очерченную красными флажками. Что будет дальше? Что я мог сказать?
Конечно, был разговор и о том, что ему писать для газеты. И мне вдруг пришло в голову:
– Завтра открывается сессия Верховного Совета СССР для ратификации договора с Великобританией. Нужен очень ответственный репортаж. Не смогли бы вы взяться за это?
Попросил – и самому стало неловко: репортаж – Алексею Толстому! Писатель, видимо, почувствовал в моем голосе смущение и сразу же сказал:
– Напишу. Я ведь когда-то писал такие газетные вещи, в первую мировую войну. Дело для меня не новое. Старый репортер...
После окончания сессии Толстой сразу же пришел в редакцию. Репортаж был написан с писательской страстью. Главное, он дышал верой, верой в победу. Под таким заголовком и был напечатан.
Кстати, во время нашей беседы о предстоящей сессии, когда зашел разговор о поездке Молотова в Вашингтон, я поплакался Толстому, что никак не могу пробить очерк Симонова о том полете нашего бомбардировщика. Видно, Алексей Николаевич намотал на ус эту историю, и в том же репортаже появились строки о Молотове: "И туда и обратно он летел на нашем великолепном и грозном самолете, покрывшем расстояние от Москвы до Вашингтона немного больше чем в полсуток". А на публикацию этих строк разрешения мы не стали просить.
А еще через день был опубликован Указ о присвоении звания Героя Советского Союза "за отвагу и геройство, проявленные при выполнении задания Правительства по осуществлению дальнего ответственного перелета" экипажу бомбардировщика майорам Э. Пусепу, С. Романову и А. Штепенко. Может быть, не всем, но многим нетрудно было установить в подтексте связь между тем, что писал Толстой, и Указом...
* * *
Почти в каждом номере газеты печатаются корреспонденции, статьи, очерки о наших боевых комиссарах, политработниках, парторгах – об их работе в полках, ротах, на переднем крае. Вот и сегодня опубликована статья военкома полка Н. Кузьмина "Воспитание любви к своему оружию". Статья на неожиданную тему. Один из батальонов полка вел наступление. Комиссар батальона, заметив, что некоторые бойцы, продвигаясь вперед, редко стреляют, тут же спросил рядом лежавшего стрелка:
– Почему не стреляете?
– А зачем? Бьет наша артиллерия, бьют минометы. Этот огонь сильнее винтовочного...
Комиссар запомнил ответ бойца. Вскоре батальон занял оборону. Военком целый день просидел в первой линии окопов и видел, что некоторые бойцы и здесь редко ведут огонь по врагу. И он стал действовать. Беседами не ограничился. На рассвете два коммуниста ушли вперед, окопались и стали выслеживать противника. Один боец в этот день сразил двух немцев, а другой, парторг Гришин, – трех. И сразу же комиссар собрал коммунистов. Гришин рассказал об этом боевом дне, а комиссар потребовал, чтобы все партийцы стали настоящими стрелками...
Это был рассказ о том, как в полку стали ценить и уважать винтовку.
* * *
В эти дни опубликованы большие, размером в три полные колонки статьи начальника фронтового отдела "Красной звезды" полковника И. Хитрова "Некоторые вопросы вождения войск" и начальника танкового отдела подполковника П. Коломейцева "Танковый бой". Это был не просто рассказ об опыте боев какого-либо полка или соединения. Статьи отличались широким тактическим кругозором. Вдумчивые опытные офицеры, хорошо разбирающиеся в вопросах тактического и оперативного искусства, они за год побывали на многих фронтах, многое увидели, многое услышали, тщательно собирали все новое, что рождалось на нолях сражений, и теперь раскрывали все это читателям. Много доброго мы услышали об этих публикациях в Генштабе, в управлениях наркомата и на фронте. Как было нам, в редакции, не радоваться!
Заговорил о Коломейцеве и вспомнил вдруг такую деталь. Коломейцев любил в своих статьях выделять главные мысли жирным шрифтом, иногда этим злоупотреблял.
– Зачем? – как-то я спросил Петра Илларионовича. – Разве читатель сам не разберется, где главное?
– Так статья лучше смотрится, – смущенно ответил он.
Эту "слабость" мы, кажется, ему прощали.
* * *
В сегодняшнем номере Илья Сельвинский напечатал стихи "Севастополь Балаклава". Даже не знаю, как их назвать: героические, лирические или как-то еще. Пусть читатель сам решит. Но я могу определенно сказать – эти стихи о двух сражавшихся до конца плечом к плечу крымских городах брали за душу.
Как девушка, что ранена в бою,
Но не сдает позицию свою,
Военною овеянная славой,
Прильнувшая к заветному курку,
Стреляет золотая Балаклава
Из снайперской винтовки по врагу.
О, ей к лицу голубоватый мех
Порохового дыма. Ведь недаром
В боях руководит ее ударом
Тот юноша, что ближе всех
Который с ней, как с тополицей тополь,
Лихой, веселый, грозный Севастополь.
Любимые, родные города.
Вас только двое на просторах Крыма,
Но вы сражаетесь неукротимо,
И вами наша родина горда.
И гвардия, рубясь в огне и дыме,
Как знамя, подымает ваше имя,
Нет пары обоятельней, чем вы.
По всем краям, но всем раздольям мира
Вы стали, как трагедия Шекспира,
Эмблемою отваги и любви
И молодость клянется величаво
Дружить, как Севастополь с Балаклавой.
Так пусть же эта песня долетит
До ваших губ, и боевою службой
В огне оберегает вашу дружбу,
Как вашу силу – орудийный щит.
Держитесь гордо. Никогда Россия
У недруга пощады не просила.
* * *
Лидице. В Военном энциклопедическом словаре о ней написано: "Горняцкий поселок в Чехословакии, в 16 километрах северо-западнее Праги, уничтоженный немецкими фашистами 10 июня 1942 года. Жители Лидице были обвинены в причастности к покушению на шефа протектората Чехии и Моравии Р. Гейдриха. Мужчины Лидице были расстреляны, женщины и дети отправлены в концлагеря, поселок сожжен". Об этой трагедии мы сразу же узнали. Поздно вечером Илья Эренбург показал мне сообщение, в котором рассказывалось, как фашистские изверги расправились с мирным чешским поселком и его жителями. Илья Григорьевич просил оставить в номере 70-80 строк. Через час он принес свою статью. Вот строки из нее, пылавшие ненавистью к гитлеровским палачам:
"В Чехии немцы снесли с лица земли город Лидице... Германский протектор подписал указ: "Название Лидице навеки вычеркнуто из всех регистров".
Но вот по Праге идут немецкие палачи, и на всех дверях видят одно слово: "Лидице, Лидице, Лидице". В тот час, когда немцы жгли несчастный город и закапывали тела расстрелянных, миллионы чехов дали обет: "Палачи будут наказаны". Германия не забудет слово "Лидице". Это слово отныне бессмертно. С ним на устах будут люди сражаться. С ним будут судить. С ним будут карать...
У нас есть свои Лидице: Минск, Киев, Феодосия. Одесса. Мы ничего не забываем... Мы не забудем о слезах русских женщин. Мы не забудем о слезах матерей других народов. Чешские матери, мы вспомним и ваши слезы. Мы еще не раз скажем немецким палачам: "Вот вам – за Лидице!"
С этого дня на всех наших фронтах и Лидице стало символом беспощадной мести немецким фашистам...
22 июня
Минул год с тех пор, как гитлеровская Германия напала на нашу страну. Такой дате, естественно, надо было бы посвятить весь сегодняшний номер газеты. В этот день – понедельник – «Красная звезда» выходная.
Итоги первого года войны мы подвели 21 и 23 июня, в двух номерах газеты. Материалов для них оказалось предостаточно. Прежде всего отмечу большую трехколонную статью М. И. Калинина "Год войны". Для нас он писал постоянно и, думаю, не без интереса. А тем более в особо важные даты. Его статья – политический и военный итог первого года Отечественной войны, обзор событий на фронте и в тылу. Особенно сильно звучат заключительные слова статьи:
"Советский народ не строит себе никаких иллюзий насчет легкости победы над коварным, озверелым врагом, который будет изо всех сил спасать свою шкуру. Враг еще располагает значительной военной техникой. Чем безнадежнее будет положение гитлеровской банды, тем на большие авантюры она будет пускаться. Но гибель гитлеризма неминуема.
Советский народ полон трезвой, непоколебимой уверенности в победе и знает, что эту победу надо завоевывать каждый день на фронте и в тылу, на фабриках, шахтах, в колхозах, на передовых позициях, в окопах, в партизанских отрядах. Никакие жертвы и лишения не остановят советских людей в их железной решимости уничтожить своего смертельного врага. Наша задача насколько возможно это ускорить".
Годовщине войны посвящена передовая и, конечно, статья Ильи Эренбурга, озаглавленная кратко и просто "Июнь". Это публицистический рассказ о том, что пережил наш народ за минувший страшный год. Он написал со страстью, с большой художественной силой: "Год тому назад, накануне войны. Красная Армия была частью государства... Теперь вся Россия – это Красная Армия... Мы многое потеряли за этот год: мир, уют, города, близких. Мы многое за этот год обрели: ясность взгляда, плодотворную ненависть, огонь патриотизма, завершенность, зрелость каждого человека"... И такая же трезвая, как и в статье Калинина, оценка перспектив войны: "Наши испытания не кончены. Нелегко откажутся немцы от своей преступной мечты быть "герренсфольк" "народом господ". Они еще жадно смотрят на Кубань, где зреют нивы богатого урожая. Они еще косятся на дворцы Ленинграда... Нам предстоит дважды трудное дело: отбить и прогнать...
Россия в гимнастерке, обветренная и обстрелянная, – это все та же бессмертная Россия... она заглянула в глаза победе... Она не где-то вдали, она рядом – в твоем блиндаже, в твоем окопе, у твоей батареи. И мы теперь говорим: победа с нами".
Это все – 21 июня. А в следующем номере газеты на первой полосе сообщение Совинформбюро "Политические и военные итоги года Отечественной войны". Мы, понятно, знали, что готовится такой документ в Центральном Комитете партии и Ставке, и, откровенно говоря, волновались: верна ли была в предыдущем номере оценка, которую мы дали и прошлому и настоящему, верно ли мы сказали о перспективе. Успокоились лишь тогда, когда получили официальный текст итогов. Он, естественно, был составлен обстоятельно, широко. Документ – не статья! И все же "огрехов" у нас не оказалось...
* * *
А вчера, когда я корпел над очередным номером газеты, появился у меня Михаил Шолохов, наш постоянный корреспондент. Как всегда, в полной полевой экипировке – военной, выцветшей на солнце гимнастерке, с портупейными ремнями, поясом с командирской бляхой и пистолетом, он был по-казачьи строен: не писатель, а боевой офицер. На лице загар, в глазах тень усталости от фронтовых странствований...
Я никогда не спрашивал Шолохова: что принес для газеты? Ниже я объясню – почему, но на этот раз я не мог удержаться:
– Михаил Александрович! Есть что для "юбилейного" номера?
– Есть... – И положил мне на стол 12 страничек, напечатанных на машинке, над которыми стоял заголовок "Наука ненависти".
Я отодвинул все свои бумаги в сторону и сразу же стал читать. Эта тема была жгучей всю войну для армии, народа и, понятно, для газеты. Не было почти ни одного номера "Красной звезды", чтобы мы к ней не обращались. Сколько было выступлений Алексея Толстого, Ильи Эренбурга, Константина Симонова и других наших корреспондентов, сколько было документов, фотографий напечатано за минувший год! Выступил в газете и Шолохов еще в августе 1941 года.
В один из этих дней мне принесли сообщение нашего спецкора о страшном изуверстве гитлеровцев. На Смоленском направлении, близ Ельни, разгорелся ожесточенный бой. Когда наша часть перешла в контрнаступление, немцы выгнали из домов женщин и детей и, заслонив ими свои окопы, продолжали вести бой. Как раз в это время у меня сидел Шолохов. Я показал ему это сообщение. Увидел, как запылало его лицо гневом. А в завтрашнем номере газеты появилась его небольшая статья, в которой каждое слово стреляло гневом и ненавистью к фашизму.
А вот ныне – очерк на целую газетную полосу. Сюжетная линия повествования – рассказ лейтенанта Виктора Герасимова о том, что он увидел и пережил в немецком плену. Очерк поразил меня силой чувств, в котором со множеством психологических деталей показаны страдания советских воинов, оказавшихся в лагерях смерти. Не буду пересказывать очерк. Хочу лишь отметить: его важность ныне была исключительной. Но, пожалуй, мне легче всего это сделать словами Алексея Толстого. У меня на столе лежала как раз статья Толстого "Убей зверя!", подготовленная для того же номера газеты, что и очерк Шолохова. Вот заключительные строки статьи Алексея Николаевича:
"Товарищ, друг, дорогой человек, на фронте и в тылу, если ненависть твоя стала остывать, если ты к ней привык – погладь, хотя бы мысленно, теплую головку твоего ребенка, он взглянет на тебя ясно и невинно. И ты поймешь, что с ненавистью свыкнуться нельзя, пусть горит она в тебе, как неутомимая боль, как видение черной немецкой руки, сжимающей горло твоего ребенка".
"Наука ненависти" и звала к тому, чтобы ненависть не остывала, чтобы с ней не свыкались.
Обстановка на фронте резко изменилась. После харьковского окружения и в дни начинавшегося нового наступления немецких войск вновь, как и летом прошлого года, со всей остротой встал вопрос о плене. Вновь надо было напомнить, что плен – хуже смерти. "Наука ненависти" с исключительной силой предупреждала, какие страдания, душевные и физические, ждут того, кто очутился вольно или невольно в плену, звала сражаться с врагом до последнего дыхания.
Это я и сказал Михаилу Александровичу. Ответил он всегда подкупающей улыбкой.
А теперь, отступая от сюжетной линии своего повествования, хочу рассказать, почему еще мы были рады выступлению Шолохова. С первых же дней работы специальным корреспондентом "Красной звезды" Шолохов бывал на разных фронтах, но далеко не всегда его поездки завершались корреспонденциями, очерками. Они давались ему с большим трудом. Писателю, привыкшему неторопливо обдумывать каждое слово, трудно было писать в номер. Михаил Александрович сам болезненно переживал это. Помню такой случай. Не раз наша газета писала о воздании воинских почестей погибшим воинам. На эту тему печатались статьи, корреспонденции, передовицы. Попросили мы и Шолохова выехать на фронт, посмотреть, как там это происходит. Отправился он в путь, побывал в полках и дивизиях, но очерк, увы, не получился. Спустя много лет, вспоминая этот эпизод, он говорил своему биографу Исаю Лежневу, что газетная работа ему никогда не удавалась.
– Особенно остро я ощутил это во время Отечественной войны. Я не умею скоро писать. Никакой я не газетчик. Нет хлесткой фразы, нет оперативности, столь необходимой для газетной работы.
В такой прямой форме и, по-моему, даже с явным преувеличением Шолохов нам подобных признаний в годы войны не делал, но мы сами старались без особой необходимости не загружать его оперативными заданиями. Вскоре после включения Шолохова в краснозвездовский строй я однажды сказал ему:
– Михаил Александрович, как вы отнесетесь к такому предложению: ездить по фронтам и писать только то, что вам будет по душе?
Он посмотрел на меня своими синими, лучистыми глазами, кивнул головой. И отправился моложавый полковой комиссар по фронтам, как бы сейчас сказали, в автономное плавание, к героям своих будущих произведений, сражавшихся за Родину.
Нам, конечно, хотелось, чтобы об увиденном Шолохов рассказывал сразу, но все же мы не торопили писателя. Пришло время, и вот сегодня опубликована его "Наука ненависти".
Получили очерк Николая Тихонова "Ленинград сражается". Выслал своевременно, но он задержался в пути. Опубликовали на следующий день. Это тоже итоги за минувший год. Нет в очерке ни одной строки, не заслуживающей внимания. Все интересно, все важно. Но я хочу рассказать о том, что произвело на меня и, смею думать, на всех читателей особое впечатление.
"Среди населения захваченных советских районов спешно распространялась подлая газетка... Писаки из рижских белогвардейцев и прибалтийских немцев печатали вздор о том, что немцы ворвались в Ленинград... Один партизанский отряд, не имевший рации и получивший в деревне такую немецкую грязную газетку с известием о взятии Ленинграда фашистами, собрал экстренное собрание. После долгого обсуждения партизаны, не имевшие связи с другими отрядами, написали краткий протокол этого совещания. "Слушали: сообщение немецкой газетки о взятии немцами Ленинграда. Постановили: считать, что Ленинград не взят и не может быть взят никогда".
Впервые было откровенно рассказано о тех муках, которые пережили ленинградцы в минувшем году.
"Ленинградцы несли неслыханные трудности. На весах истории их паек в сто граммов серого хлеба (таков был прежде этот паек) перетянет любые мешки с золотом... Братские могилы умерших за время блокады, могилы, говорящие о непреклонном духе бойцов, горожан, останутся навсегда памятником массового героизма. Без света, без воды, без дров в лютую зиму жил город и работал непрерывно на оборону... Они увидели бедствия, каких не помнит мир... Пережили – и не смутились духом, не ожесточились сердцем, не замкнулись в молчании...
Начинается второй год нашей Великой Отечественной войны. Оглядываясь на прошедшие месяцы, мы видим, как возмужали юноши, как выросли дети, как помолодели старики. Но мы видим и поседевших от горя мужчин и женщин. Мы видим еще, скольких с нами уже нет. Всех коснулась война – и старых, и молодых, и совсем юных...
Настанет день, и на ленинградских улицах заалеют флаги победы. И летописцы Ленинграда положат на стол большую бессмертную книгу о страданиях, славе, подвигах и победе славного, трудового Ленинграда!"
Эти вещие слова стали действительностью...
* * *
Новый автор появился на страницах нашей газеты – поэт Павел Антокольский. Его стихи тоже посвящены году войны и озаглавлены "Двадцать второе июня".
Кончайся, кончайся, обугленный год!
Стань прошлым! Историк напишет,
Как, встретив злейшую из непогод,
Страна еще яростней дышит...
Еще одна примечательная публикация – нашего военного обозревателя полковника Михаила Толченова «Год тому назад в Бресте».
Ныне хорошо известно все или почти все о брестской эпопее. О ней талантливо написал после войны Сергей Сергеевич Смирнов. Крепости присвоено звание Героя. А в мемориальном комплексе восстановлена картина героической борьбы защитников крепости. Но в те дни, о которых я рассказываю, мы в сущности ничего не знали о подвиге Бреста. Несколько слов в сводке Главного Командования Красной Армии от 24 июня 1941 года о том, что немцы заняли Кольно, Ломжу и Брест. И ничего больше. Но вот вчера Толченов зашел ко мне и показал трофейный документ: "Боевое донесение о взятии Брест-Литовска", составленное штабом 45-й немецкой пехотной дивизии и попавшее год спустя в наши руки. Это было свидетельство врага. Помимо воли авторов ожила история стойкости, самоотверженности и героизма защитников Бреста.
Приведу несколько выдержек из этого документа, опубликованных в "Красной звезде":
"...Там, где русские были выбиты или выкурены, через короткий промежуток времени из подвалов домов, из-за водосточных труб и других укрытий появлялись новые силы, стреляли превосходно, так что потери значительно увеличились..."
"Личным наблюдением командир дивизии в 13.50 убедился, что ближним боем пехоты крепости не взять..."
"Около 9.00 из 4-й армии прибыла радиоагитмашина, из которой стали разъяснять русским бесполезность их сопротивления и призывали к сдаче в плен... С наступлением темноты русские пытались сделать мощные вылазки... Стало ясно, что русские, готовые к дальнейшим боям, отклоняли любую капитуляцию..."
"25 июня. Чтобы уничтожить фланкирование из дома комсостава, на центральном острове, которое действовало очень неприятно, туда были посланы 81-й саперный батальон с поручением – подрывной партией очистить этот дом. С крыши дома взрывчатые вещества были спущены к окнам, а фитили были зажжены, были слышны стоны раненых русских, но они продолжали стрелять..."
"30 июня. Подготавливалось наступление с бензином, маслом и жиром – все это скатывалось в бочках и бутылках в окопы форта, там это нужно было поджигать ручными гранатами и зажигательными пулями".
Фашисты вынуждены сквозь зубы признать подвиг защитников Бреста. Боевое донесение штаба 45-й дивизии заканчивалось словами:
"Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз доказана при взятии Брест-Литовска.
Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и настойчиво, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению".
Такова была истина о взятии немцами Бреста, наполняющая наши сердца гордостью и восхищением первыми героями Отечественной войны – героями Бреста! Так, собственно, и сказано в сегодняшнем номере газеты.
Что же касается того сообщения нашего Главного Командования от 24 июня о Бресте, его можно объяснить только неразберихой, существовавшей в донесениях с фронтов в первые дни войны. Брестская крепость пала не 22 июня, а 20 июля. Целый месяц отстаивали крепость герои от бешено атаковавшего ее врага!!
Борис Ефимов нарисовал для этого номера карикатуру. Кладбище. На нем в ряд стоят надгробные памятники. На них надписи: "3-недельный поход на Москву", "Надежды на раскол антигитлеровского блока", "2-месячный поход до Урала" и др. А одно из этих надгробий изображено в виде молнии, уткнувшейся острием в землю. И надпись: "Блицкриг". У надгробий стоит Гитлер, и слезы у него капают на нос и с носа. У лужи слез – Геббельс и толстый, как бочка, Риббентроп, вытирающие платком слезы. Надпись под карикатурой: "Похороненные надежды". Подпись: "Как мало прожито, как много перебито..."
25 июня
Несколько дней назад ко мне зашел рослый, стройный, одетый в военную форму с тремя «шпалами» старшего батальонного комиссара на петлицах, по-юношески подтянутый Евгений Петров. Я рад был увидеть его в стенах нашей редакции, хотя еще не знал, что его привело ко мне. Вообще-то он был частым гостем в «Красной звезде». Приходил обычно за материалами для Совинформбюро, где работал корреспондентом для зарубежной печати. Но то, что я услышал на этот раз, было для меня совершенно неожиданным. Петров уселся напротив меня, вынул из кармана гимнастерки и молча протянул мне сложенный вчетверо лист бумаги. Оказывается, одна из центральных газет, командирует его в Севастополь. Увидев мое недоумение, Петров сказал:
– Не удивляйтесь! Как видите, командировка у меня от другой газеты, невоенной. У нее не всегда хватает смелости, а я еду туда, где обстановка очень сложная. Я хочу писать все, как есть. Если будете печатать, давайте командировку, очерки из Севастополя пришлю вам...
Легко догадаться, как было воспринято предложение известного писателя, в те дни – главного редактора "Огонька". Я рад был новому корреспонденту, да еще в сражающемся Севастополе. Тем более что его предложение соответствовало духу нашей газеты. Мы и сами не любили разжижать газету киселем полуправды.
Командировку Петрову подготовили быстро. Вручая ему предписание, я спросил, сколько времени потребуется ему на сборы. Он ответил, что готов отбыть хоть сегодня, было бы на чем. Решили, что он вылетит самолетом до Краснодара, где размещается штаб фронта, оттуда на машине нашей корреспондентской группы доберется до Новороссийска, затем отправится в Севастополь – морем. Я сразу позвонил командующему ВВС А. А. Новикову, и он приказал взять писателя на борт первого же самолета, отправлявшегося в Краснодар.
За день до этого Толченов показал мне сообщение берлинского радио: немцы утверждали, что Севастополь уже взят и они являются его полными хозяевами. В связи с этим мы решили послать в Севастополь фоторепортера Виктора Темина с наказом сделать снимки города и немедленно вернуться в Москву. Он был уже в пути. Я рассказал об этом Петрову: возможно, им удастся встретиться.
Все было сделано, как намечено. Вскоре Петров благополучно прибыл в Новороссийск и морем, на лидере "Ташкент", прорвался в осажденный Севастополь. Нелегким был этот поход. Петров назвал его образцом "дерзкого прорыва блокады", который навеки войдет в народную память о славных защитниках Севастополя как "один из удивительных примеров воинской доблести, величия и красоты человеческого духа". "Ташкент", имея на борту красноармейцев и боеприпасы, отправился в рейс в два часа дня. Более скверную погоду для этого трудно было придумать: чистое небо, палящее солнце и совершеннейший штиль. Немцам не стоило труда обнаружить корабль. Тридцать вражеских бомбардировщиков четыре часа нещадно бомбили его. Ночью его атаковали торпедные катера. Спасли хладнокровие, выдержка и высокое искусство капитана и экипажа.
К счастью, все кончилось благополучно. В Севастополе Петров видел все, что там происходит, беседовал с защитниками города и, вернувшись в Новороссийск, сразу же по военному проводу передал очерк "Севастополь держится". Сегодня он опубликован в газете.
Петров написал так, как задумал и как надо было для нас писать. Первые же строки погружают нас в атмосферу севастопольского сражения:
"Сила и густота огня, который обрушивает на город неприятель, превосходит все, что знала до сих пор военная история. Территория, обороняемая нашими моряками и пехотинцами, невелика. Каждый метр ее простреливается всеми видами оружия. Здесь нет тыла, здесь есть только фронт. Ежедневно немецкая авиация сбрасывает на эту территорию огромное количество бомб, и каждый день неприятельская пехота идет в атаку в надежде, что все впереди снесено авиацией и артиллерией, что не будет больше сопротивления. И каждый день желтая, скалистая севастопольская земля снова и снова оживает и атакующих немцев встречает ответный огонь... Город держится наперекор всему – теории, опыту, наперекор бешеному напору немцев...
Самый тот факт, что город выдержал последние двадцать дней штурма, есть уже величайшее военное достижение всех веков и народов. А он продолжает держаться, хотя держаться стало еще труднее".
И особое мужество нужно было, чтобы написать в конце очерка:
"Когда моряков-черноморцев спрашивают, можно ли удержать Севастополь, они хмуро отвечают:
– Ничего, держимся!
Они не говорят: "Пока держимся". И они не говорят: "Мы удержимся". Здесь слов на ветер не кидают и не любят испытывать судьбу. Это моряки, которые во время предельно сильного шторма на море никогда не говорят о том, погибнут они или спасутся. Они просто отстаивают свой корабль всей силой своего умения и мужества".