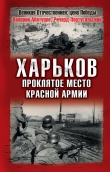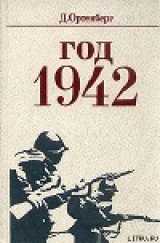
Текст книги "Год 1942"
Автор книги: Давид Ортенберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 35 страниц)
И не было ни одного случая – ни одного! – чтобы на просьбу редакции кто-либо из писателей не откликнулся. Уже после войны, в дневниках и письмах Мариэтты Шагинян, Константина Паустовского и других я прочитал, с каким воодушевлением принимали они наши заказы. Вот, к примеру, очерк Аркадия Первенцева. Я уже рассказывал о катастрофе с самолетом, на котором он и наш спецкор писатель Евгений Петров возвращались из Севастополя. Петров погиб, а Первенцева вытащили из-под обломков машины изувеченного, с перебитым позвоночником, обожженным лицом и раненой головой. Его отправили на лечение в Пермь. Я послал ему телеграмму с просьбой написать очерк о тружениках Урала. Он выполнил нашу просьбу, написал яркий очерк "Город на Каме".
"Я вернулся на Урал после нескольких месяцев отсутствия. Мне посчастливилось видеть героический Севастополь. Я видел пылающий юг, познал горечь прощания с родными станицами Кубани. Мохнатый от инея "Дуглас" принес меня снова на Урал. Я видел разрушенные города и горящие села, огненную линию фронта и прифронтовье – огромные затемненные пространства России.
Но вот здесь опустилась ночь, и город вспыхнул не языками пожаров, как Севастополь или Сталинград, а мирными огнями жилищ, уличных фонарей, веселых трамваев. Как странно сейчас видеть освещенный город. Глубокий тыл! Как необъятна наша отчизна. Кама катит и катит свои могучие воды, трещит лед. Отсветы пламени мартенов вспыхивают на реке. Город трудится день и ночь. Суровые и тяжелые будни.
Но наступит праздник. По улицам уральских городов пройдете вы, возмужавшие в сражениях уральские батальоны. На простреленных ваших знаменах будет вышито слово – победа. В ваши колонны, солдаты великой войны, по праву станут солдаты тыла, рядом с вами прошагают ваши счастливые жены и дети. Вы разойдетесь по своим жилищам и прижмете к груди своих родных. Будет о чем рассказать друг другу".
Можно себе представить, с каким волнующим чувством читали фронтовики-уральцы, и не только они, эти строки!..
13 декабря
На фронте, как сообщает Совинформбюро, без перемен. Однако «В последнем часе» публикуется сводка о трофеях наших войск и потерях противника под Сталинградом и на Центральном фронте с начала наступления. Цифры внушительные.
Вчера началось сражение с немецко-фашистскими войсками в районе Котельникова: здесь противник перешел в наступление, пытаясь деблокировать окруженную группировку Паулюса.
* * *
Сегодня и в минувшие несколько дней в газете много места заняли партизанские материалы. "Непокоренный край" – так называется корреспонденция К. Токарева об оккупированном немцами районе на северо-западе нашей страны. Четыре экспедиции были посланы фашистскими карателями в этот край, но покорить его не смогли. Чувствуя свое бессилие, немецкий комендант решил обратиться к партизанам с "дипломатическим воззванием": предложил им сдаться, обещая... прощение. На это воззвание, расклеенное на стенах домов, телеграфных столбах и придорожных деревьях, партизаны наклеили листовки с ответом:
"Господин комендант и прочая немецкая сволочь! Вы спрашиваете: что нам нужно? С удовольствием разъясняем: катитесь отсюда к чертовой матери, пока мы не добрались до вас. И всем своим передайте: скоро придет сюда Красная Армия и всем вам устроит капут. Молитесь господу богу, чтобы он заранее принял ваши паршивые души. А ваши собачьи кости мы уж сами закопаем. На это у нас хватит русской землицы. Партизаны".
Опубликованы корреспонденции наших спецкоров о бесчинствах фашистов в захваченных ими районах Ленинградской и Орловской областей, Северного Кавказа. Есть статьи командиров партизанских отрядов, подписанные, понятно, не их именами, а условными буквами "К", "М". С Брянщины прислал корреспонденцию Крайнев. Он все еще в Брянских лесах. Наш боевой товарищ среди партизан! Как этим не гордиться! И мы с гордостью печатали его.
Во всех материалах раскрывается тактическое искусство партизан. За шестнадцать месяцев они многому научились. Партизанское движение приняло такой размах, что немцам, как они сами об этом заявляют, приходится вести новую войну на занятой территории.
С наступлением зимы создались еще более благоприятные условия для боевых действий народных мстителей (этому посвящена передовица "Партизаны, громите тылы врага зимой"). Что же это за условия? Передовица на это отвечает так. В зимнее время немцы жмутся к дорогам, боясь увязнуть в снегах. Вот эти дороги и надо сделать для них дорогами смерти. Как действовать? Становиться на лыжи и "появляться, как ветер, как грозный смерч, откуда их никак не ждут". Один из тактических приемов – выгонять немцев из домов, пусть замерзают. Таких вояк уже успели запечатлеть наши фоторепортеры.
А вот пример, как надо действовать партизанам, приведенный в передовице. Орловские партизаны совершили дерзкий налет на один из городов области. Быстрота и натиск обеспечили им успех. Ворвавшись вечером в город, они истребили 150 солдат и офицеров местного гарнизона. Народные мстители удерживали город несколько часов. За это время они успели освободить из тюрьмы всех заключенных туда граждан, произвели пополнение своего отряда – в него влилось сорок новых воинов. Потери храбрецов исчисляются двумя убитыми и пятью ранеными. Выполнив задачу, партизаны исчезли, словно растаяли в тумане...
Есть в газете выступления на военные темы. Например, "Как немцы минируют проволочные заграждения" и "Борьба за коммуникации зимой", написанные нашими корреспондентами. Выступил в газете А. Юмашев со статьей "Радио в воздушном бою". Тема очень важная: в то время далеко не все освоили эту форму связи, а некоторые наши летчики и их командиры игнорировали ее.
18 декабря
Четыре дня мощная ударная группировка противника ведет наступление в районе среднего течения Дона, пытаясь прорваться к окруженной армии Паулюса. Об этом сообщают наши корреспонденты. В репортаже Высокоостровского читаем: «Немцы предприняли ряд контратак, введя в бой свежие силы и танки... Противнику удалось потеснить наши подразделения... Неприятель, подтянув резервы, добился численного превосходства... Вклинился в расположение наших войск...» Конечно, сообщения глуховатые, нет картины сражения. Контрнаступление названо контратакой, дивизии – подразделением. Разве из этого узнаешь масштабы и значение событий, происходящих в этом районе? Но лучше, считали мы, хотя бы это, чем ничего. Будем ждать официальных сообщений, тогда и нам можно будет развернуться.
* * *
Есть в номере материал, положивший начало большому патриотическому движению в нашей стране. Это письмо колхозника артели "Стахановец" Новопокровского района Саратовской области Ферапонта Головатого. Вот выдержка из этого письма:
"Провожая своих двух сыновей на фронт, я дал им отцовский наказ беспощадно бить немецких захватчиков, а со своей стороны я обещал своим детям помогать им самоотверженным трудом в тылу... Желая помочь героической Красной Армии быстрее уничтожить немецко-фашистские банды, я решил отдать на строительство боевых самолетов все свои сбережения..."
Сегодня же получен ответ Сталина на это письмо. Ответ заверстан на первой полосе, над передовой. А сама передовая называется "Спасибо колхознику Ферапонту Головатому!".
Почин Ферапонта Головатого нашел широкий отклик в стране. Со всех концов приходят письма колхозников, многих советских людей, в которых они сообщают, что внесли в Госбанк свои сбережения на постройку самолетов и танков. Эти письма, а также ответы Сталина на каждое письмо публиковались в газете. Их было так много, что они почти ежедневно занимали по целой полосе, а порой и больше. Каждой эскадрилье, танковой колонне, а иногда самолету, танку присваивались имена того района или области, труженики которых собрали средства на их строительство.
Помню и такую историю. Алексей Толстой обратился к правительству с просьбой передать премию, присужденную ему за роман "Хождение по мукам", на постройку танка и разрешить назвать его "Грозный". Алексей Николаевич объяснил: название он связал с именем Ивана Грозного, о котором написал драматическую повесть. Об этой повести он говорил: "Она была моим ответом на унижения, которым немцы подвергли мою Родину. Я вызвал из небытия к жизни великую страстную русскую душу – Ивана Грозного, чтобы вооружить свою "рассвирепевшую совесть". Незадолго до этого мне позвонили и попросили разыскать Толстого, с ним хотел поговорить Сталин. Неседа у них была не длинной. Речь шла о повести писателя. Сталин ее прочел и отозвался одобрительно. А теперь, получив письмо Толстого, Сталин, видно, понял, почему писатель просил назвать танк "Грозный". В своей ответной телеграмме Толстому, опубликованной в "Красной звезде" и других газетах, он писал: "Ваше желание будет выполнено".
Прошло немного времени, и Алексей Николаевич с группой писателей, тоже передавших свои премии на строительство танков, выехал под Москву для вручения боевых машин их экипажам.
Опушка леса с высокими елями, упиравшимися тонкими верхушками в серое низкое небо. Импровизированная трибуна из свежеструганных досок на небольшой снежной полянке. Перед трибуной выстроились "тридцатьчетверки". На рубчатой броне башни командирской машины – яркая белая надпись: "Грозный". У машины четверо танкистов. Трое совсем еще молодые парнишки в черных комбинезонах и шлемофонах. Четвертый, постарше, в фуражке и защитных очках, Павел Беляев, командир машины, в прошлом ивановский ткач. Краткий митинг. Алексей Николаевич торжественно передает экипажу свой танк и обращается к нему с душевным напутствием. Танки прогремели мимо трибуны, прошли вдоль опушки леса и, круто развернувшись, остановились на полянке. А затем в избушке, убранной свежими еловыми ветками, – незатейливый банкет и проводы: танкисты уходят на фронт...
А вот как был назван истребитель, построенный на деньги саратовского колхозника, мы тогда не догадались узнать. Не узнали также, кому он был вручен. Это мне стало известно только теперь, и рассказал мне об этом генерал-лейтенант В. Еремин, тогда, в 1942-м, капитан, командир знаменитой эскадрильи, той самой, которая вступила в бой с 25 вражескими самолетами и о подвиге которой мы писали в мартовских номерах "Красной звезды".
А рассказал мне Еремин вот что. Позвонил ему командующий военно-воздушными силами Юго-Западного фронта генерал Т. Т. Хрюкин, и между ними состоялся необычный диалог:
– Как дела? – спросил Хрюкин.
– С самолетами тяжело. Моторов не хватает.
– Тут колхозник купил самолет. Решением Военного совета ты назначен летчиком этой машины.
– Разве самолеты продаются?
– А тебе нужен?
– Конечно!
– Тогда получай предписание и отправляйся на завод в Саратов. Скажешь, чтобы тебе дали самолет Головатого.
Прибыл Еремин на завод. Увидел свой истребитель. На фюзеляже большими буквами выведено: "Ферапонт Головатый". Это сделали на заводе, но инициативе рабочего коллектива. Прибыл туда и Головатый. Он торжественно вручил самолет Еремину.
Воевал Еремин на этом самолете над Севастополем до самого освобождения города. А дальше – ресурсы машины были исчерпаны. В это время Головатый внес свои деньги еще на один самолет и тоже торжественно вручил его Еремину на заводском митинге. На этой машине провоевал летчик до конца войны. А после войны самолет поставили в музей, на его фюзеляже красуется 17 звезд – но числу сбитых Ереминым вражеских машин.
Вот, оказывается, какое продолжение имели письма Головатого и ответ Сталина, опубликованные в сегодняшнем номере газеты!
* * *
В июле этого года мы напечатали стихотворение Александра Твардовского "Отречение". Поэт в ту пору работал в газете Западного фронта "Красноармейская правда". В течение полугода после этого он не давал о себе знать.
Но вот вчера Александр Трифонович пришел в редакцию. Впервые я его увидел. Он был высокий, плотный, офицерская форма сидела на нем как влитая. Внимательные серьге глаза смотрели испытующе. Он подошел к моему столу, где я корпел над какой-то версткой, вынул из полевой сумки несколько листиков со стихотворным текстом, напечатанным на машинке, вручил мне и сказал:
– Я знаю, что вы не любите Теркина, но все же я принес...
Признаться, подобное вступление меня несколько удивило. Но я ничего не ответил, усадил гостя в кресло, а сам стал читать стихи. Прочитал раз, потом снова. Стихи мне очень понравились, я вызвал секретаря, сказал, что они пойдут в номер, попросил сразу же их набрать и прислать гранки. А затем, повернувшись к Твардовскому, сказал:
– Александр Трифонович! А это ведь не тот Теркин, которого я не любил...
А "тот" Теркин был не Василий, а "Вася Теркин", удалой боец, герой частушек, которые сочиняли поэты, в том числе и Твардовский, для газеты Ленинградского фронта "На страже Родины" во время войны с белофиннами.
"Вася Теркин", действительно, мне не нравился. Выглядел он фигурой неправдоподобной – и в огне не горел, и в воде не тонул. Совершал он сверхъестественные подвиги: то накрывал пустыми бочками белофиннов, беря их в плен, то "кошкой" вытаскивал вражеских летчиков из кабин самолетов, то "врагов на штык берет, как снопы на вилы"... Словом, это был своего рода Кузьма Крючков, широко известный лихой казак, не сходивший с лубочных плакатов времен первой мировой войны. Война на Севере была тяжелой, стоила немало крови, и легкие победы Васи Теркина были далеки от реальности.
Не по душе был Вася Теркин не только мне, но и всем нам в "Героическом походе", в том числе и нашим поэтам Суркову, Безыменскому, Прокофьеву. Они тоже сочиняли частушки под коллективным псевдонимом "Вася Гранаткин"; это были сатирические стихи, бичующие недостатки в боевой жизни и солдатском быту. Наше отношение к Васе Теркину тогда было известно Твардовскому. А теперь я имел возможность объясниться с ним самым откровенным образом. Разговор у нас был долгим. Твардовский мне сказал, что по этому поводу и в самой редакции "На страже Родины" возникали дискуссии, да и самого Твардовского этот образ не удовлетворял.
А сейчас передо мною был уже сверстанный двухколонник "Кто стрелял" совсем другие стихи и другой Василий Теркин: умный, сильный, веселый, выхваченный, можно сказать, из самой солдатской жизни. Не Вася Теркин – боец необыкновенный, а Василий Теркин – боец обыкновенный, как его окрестил сам Твардовский. Такой герой не мог не понравиться.
Так начался у нас в "Красной звезде" "Василий Теркин".
Потом Твардовский снова и снова приносил нам главы своей поэмы.
* * *
Получен и ушел в набор для завтрашнего номера газеты очерк нашего нового автора, украинского писателя Леонида Первомайского "В излучине Дона" – о том, что он увидел на дорогах войны, направляясь на грузовой машине на передовую. Проехал он одну станицу, другую и с удивлением обнаружил, что ни в одной из них нет жилья. Вместо домов – только фундаменты из желтовато-серого камня да черные тыны, за которыми чернели деревья, оставшиеся от былых садов. И ни следов пожара, ни следов бомбежки. Ничего этого нет.
Что же случилось?
Оказывается, в этих станицах обосновались немцы. Они собирались зимовать на Дону и по-своему устроились. Хотя и считали себя завоевателями, но боялись жить в домах и, как троглодиты, стали зарываться в землю. Вырыли рядом с домами, во дворах, землянки с ходами сообщений и траншеями, словом целый подземный городок. Для своих землянок разобрали дома, стащили туда всю обстановку этих домов...
Это увидел не только писатель, но и женщины, возвращавшиеся в станицу. Три женщины попросились в машину; двое уместились в кузове, а третья встала на подножку. И вот поразительный рассказ писателя:
"Сначала они молчали, удивленные всем, что им пришлось увидеть. Потом стоявшая на подножке заговорила навзрыд, ни к кому не обращаясь, вряд ли думая о том, что кто-нибудь слышит ее:
– Ничего нет, одна городьба осталась... Звери лютые! По миру пустили...
Она причитала, надрываясь, и было в этом надрывном плаче и удивление как это люди могли сделать такое? – и надежда, что все это обернется сном и пройдет, как сон. Стоит, мол, только открыть глаза, чтобы все стало, как прежде...
– А моя хата? – закричала она, всем телом наваливаясь на кабину водителя, без остановки гнавшего машину через станицу. – Стой! Тут моя хата была... Стой!
Она не дождалась, пока машина остановится, и не сошла с подножки, а упала в грязный снег и на коленях поползла к тому месту, где за повалившимся черным тыном стоял когда-то ее дом. От дома не осталось и следа. Только гора прелого камыша, – то, что было крышей ее гнезда, – лежала, занесенная снегом, посреди двора, да несколько полуобгоревших деревьев сиротливо ютились за тыном.
– Вишеньки мои! – обхватила дерево руками женщина, – вишеньки родимые..."
И умчалась машина с писателем к хутору Вертячему, где в эту холодную, мерзлую непогодь кипел горячий бой. Чувство боли и горечи за судьбу этих женщин долго не покидало его...
20 декабря
Сегодня появилось сообщение «В последний час» – о наступлении наших войск в районе среднего течения Дона. Успехи большие. За пять дней продвинулись вперед на 75-120 километров. А это значит, что контрнаступление противника с целью деблокировать окруженную группировку провалилось. На этот раз были точно указаны границы фронта.
На первой полосе – портреты командующих фронтами генералов Н. Ф. Ватутина и Ф. И. Голикова. Все как будто бы в порядке. Но вот какая история произошла с фото командующих армиями. Об этом мне рассказал Боков, недавний комиссар Генштаба, а ныне заместитель начальника Генштаба. Когда он зашел к Сталину по текущим делам, Верховный, указывая на первую полосу газеты, сердито спросил:
– Почему нет портретов командующих армиями? Что, забыли или не читали сводку?
Сводку Боков читал и даже принимал участие в ее составлении. В ней были добрые слова и о наших командармах: "В боях отличились войска генерал-лейтенанта Кузнецова В. И., генерал-лейтенанта Лелюшенко Д. Д., генерал-майора Харитонова Ф. М.". Словом, "прокол" и Генштаба и самой редакции...
Разыскали мы их портреты и заверстали в завтрашний номер газеты. Но все равно получилось нескладно. Под фото – только фамилии и звания командующих армиями, без объяснения, почему они напечатаны. Конечно, кто запомнил вчерашнюю сводку, понял, почему они даны. А если кто пропустил ее или запамятовал?..
Сообщение Совинформбюро пришло поздно ночью, но нам нетрудно было заверстать три корреспонденции с этих фронтов: они давно были набраны, сверстаны и лежали, выражаясь газетным языком, в загоне. Наши спецкоры хорошо поработали. Не будет преувеличением, если я скажу, что читатель получил ясную и обстоятельную картину сражения. Почти полосу заняли материалы спецкоров. Но и этого нам казалось мало.
На фронт вылетел Марк Вистинецкий, и для следующего номера уже получен его очерк "На поле боя". Имя Вистинецкого не часто появлялось на страницах газеты, хотя писал он много. По должности он числился у нас литературным секретарем, писал в основном передовые статьи, и его из-за этого величали "передовиком". Отличались его передовые публицистическим накалом, а главное, писал он их очень быстро и обогнать его мало кто мог. А что это означало для газеты в ту пору, не трудно понять. Часто важнейшие события нагрянут поздно ночью, а откликаться на них надо сразу же. Бывало, писать передовую надо было за час-полтора до выхода номера. В этих случаях за перо брался Вистинецкий.
Не раз он просил меня и даже требовал, чтобы его послали хотя бы на денек-два на фронт. Не может, объяснял он, писать передовые, не понюхав пороху. Вот и третьего дня зашел он ко мне и с обидой, настойчиво сказал:
– До каких пор вы будете меня держать в... тени?
В общем, выехал он на Юго-Западный фронт и передал очерк о том, что видел на полях сражений в среднем течении Дона. А через пару дней пришла его новая корреспонденция "Как были разгромлены четыре вражеских дивизии". Это разбор операции, в которой с большой эрудицией раскрывалось оперативное искусство наших военачальников в руководстве большим сражением.
Любопытна концовка корреспонденции:
"К рассвету все было закончено. Перестрелка стихла. На юго-восток потянулись колонны наших частей, разгромивших врага. На север поплелись многочисленные колонны пленных. Четыре неприятельских дивизии прекратили свое существование... Когда мы прибыли сюда вкоре после боя, высоко в небе кружился немецкий самолет. Он долго петлял над полем, не открывая огня и не сбрасывая бомб. Очевидно, этот самолет был прислан, чтобы разведать, что же здесь произошло, куда девались четыре гитлеровских дивизии. Наши бойцы, посмеиваясь, говорили: "Смотри, смотри, обрадуешь Гитлера"...
* * *
В номере очерк Симонова "Полярной ночью". Это, разумеется, с Севера. На этот раз в Мурманск Симонов отправился по своей инициативе. Он хотел посмотреть, какие перемены с героями его очерков произошли на этом фронте за год; видно, прикипел к этим краям. Кроме того, газете нужен разнообразный материал, убеждал он меня. Была у него еще одна цель: хотел еще раз отправиться в плавание на подводной лодке, но теперь уже не к немецким морским базам в Румынии, как это было летом прошлого года, а к Норвегии. В это он, конечно, меня не посвятил, но выдал его случайно фоторепортер Халип, с которым Симонов вместе выезжал в командировку. Халип спросил у меня, должен ли он ждать в Мурманске, пока Симонов вернется после подводного плавания, или ему возвращаться в Москву? Поход на лодке – дело опасное и длительное. Но долго там сидеть мы Симонову не дали. Вернулся он и отчитался очерком "Полярной ночью".
Это была необычная история, быть может, единственная за войну. Во время боевого полета на бомбежку вражеских позиций был убит летчик. И вот стрелок-бомбардир младший лейтенант Н. Д. Губин, мало что умевший в пилотном деле, привел самолет на свой аэродром и посадил его в странном положении опираясь на нос и одно крыло. Сила очерка – в тонком раскрытии человеческого характера, проявившегося в критические минуты боя.
Читается очерк, как новелла, а помещенная над подвалом на две колонки фотография Губина, сделанная Халипом, подтверждает истинность необычайного происшествия.
Новеллой можно назвать и присланный с Северного Кавказа очерк Петра Павленко "Имя героя". Сюжет его тоже необычен. Старый учитель осетинского селения Христофор Кучиев, провожая своих бывших учеников в партизанский отряд, закончил свое напутствие просьбой к каждому принести по камню на площадку, где проходили проводы. Молодежь весело носила камни. Всем было интересно, чем кончатся проводы. Каждый партизан надписывал на приносимом камне свое имя.
– Вы не школу ли хотите за один день построить, учитель? – спросил его один из уезжающих.
– Нет, сынок, со школой повременим. На этом месте, дети, я построю жилой дом, – сказал Кучиев. – Я постараюсь, чтобы он выглядел достойно и чтобы тот, кто будет в нем жить, не стыдился своего жилища, а дорожил им.
– Но кто это будет? – спросили ребята заинтересованно.
– Я думаю, дети, может быть, и нам повезет. У нас, дети, 50 человек на войне. Верю, что вы вернетесь домой со славой. А может быть, один из вас станет сказочным героем. И вот для него, пока вы там воюете, построю я дом. Всем миром будем строить его, все ваши отцы и деды вложат свой труд в постройку, а когда дом будет готов, на фронтоне его начертим золотом: "Здесь живет Герой Советского Союза, сын наших мест, – любовь наша – такой-то. Слава ему!" А теперь, дети, на коней и в путь. Это мой последний с вами урок. Не забывайте своего старика.
Уже после войны зашел у меня разговор с Петром Андреевичем об этом очерке. Я его спросил:
– Скажи откровенно, эта история – сказка или быль? Павленко клялся и божился, что здесь не было выдумки.
Правда, на проводах партизан он не был. Но в этом селении провел целый день. Сам видел эти камни. Писателю, так хорошо знавшему и любившему Кавказ, не трудно было восстановить картину того дня в осетинском селении.
* * *
Любопытную заметку прислали братья Тур: "Мелкие жулики". Суть ее в том, что в грязной газетенке "Кубань", издающейся в Краснодаре прохвостами из предателей, появилось объявление: "Вниманию жителей! На городском почтамте начался прием посылок в Сочи, Гагры, Сухуми, Батуми, Поти и другие города побережья. Посылки принимаются как продовольственные, так и вещевые. Вес и размер не ограничен. Своевременная доставка обеспечивается немецкими властями".
Расчет прост: посылки незамедлительно будут переправлены в Германию.
Вот как комментируют это объявление писатели: "Странно, что среди адресов, куда немецкой администрацией принимаются посылки, не перечислены Москва. Новосибирск... Они с тем же правом могли быть названы в этом жульническом объявлении, как и Сочи, Гагры, Сухуми, Батуми и Поти, советские города, которых немцам не видать как своих ушей. Почему не открыть прием посылок на Луну? Или на другие планеты солнечной системы? Врать так врать!.."
26 декабря
В сегодняшней газете под рубрикой «В последний час» напечатаны сразу три сообщения. Первое – «Наступление наших войск в районе Среднего Дона продолжается». Второе – «Новый удар наших войск юго-западнее Сталинграда». И третье – «Наступление наших войск на Северном Кавказе». В дни таких событий мой путь всегда лежит в Ставку. Там я встретился с Жуковым. Дел у него было, конечно, невпроворот, но и наше, газетное, дело он уважал.
– Что, передовую будешь писать? – так встретил он меня.
– Да, Георгий Константинович, если поможешь. Характеристика, оценка событий и задачи войск. Больше мне ничего и не надо...
Говорил Жуков, как всегда, размеренно, четко, не спеша. Успевай только запоминать и записывать. После этой встречи появилась передовица "Неотступно преследовать и уничтожать врага". В нее вошло многое сказанное Жуковым, правда, выраженное стилем наших передовых статей:
"В районе Среднего Дона наступление наших войск продолжается с неослабевающей силой и в масштабах, присущих крупнейшим современным операциям. Каждый день боевых действий сопровождается захватом десятков населенных пунктов, множества пленных и трофеев... Тот факт, что в короткий срок у врага отбито также много тысяч автомашин, лошадей и целый ряд крупных складов, говорит о разгроме тылов противника.
Но больше всего об искусстве наших наступающих войск, их неодолимой активности говорят темпы движения вперед. Современная маневренная операция характеризуется, прежде всего, быстротой ее развития. Части Красной Армии, несмотря на ожесточенное сопротивление врага, набрали высокие темпы продвижения... В среднем на отдельных направлениях наступление идет со скоростью более чем 20 километров в день. Нужно помнить, что наши войска наступают сейчас в условиях бездорожья, по снежной целине. Зима – тяжелое время года для наступления. Но это не останавливает советских воинов. Один за другим падают укрепленные рубежи врага с их развитой сетью противотанковых и противопехотных заграждений, сложной системой дзотов, траншей, ходов сообщений и мощного огня".
А дальше разговор был у нас о задачах войск. Приведу для примера лишь одно соображение Жукова:
– В широкой полосе наступления могут порой оставаться отдельные неподавленные очаги сопротивления противника. Из-за них главные силы не могут и не должны задерживаться. Наоборот, самый верный способ покончить с ними – двигаться безостановочно вперед, к наиболее важным пунктам и рубежам, согласно поставленной задаче. Но это вовсе не значит, что неподавленными очагами сопротивления можно пренебрегать.
Задача заключается в том, чтобы шел одновременный процесс преследование отступающего противника с целью его полного разгрома и окончательная ликвидация неподавленных опорных пунктов...
И эта мысль нашла отражение в передовой.
Напечатана статья Миколы Бажана. Называется она "Сыны Украины в боях с немцами". Писатель повествует о том, как украинцы – летчики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы – сражаются с врагами. Называет имена, рассказывает об их подвигах. Многие нам известны, мы о них уже писали. Но знали далеко не всех героев. Вот что рассказывает Микола Бажан об одном из неизвестных нам героев:
"Мы будем стоять на зеленых горах над Днепром. Могучей аркой повиснет через реку новый мост. Небо будет светлым, безоблачным. И мы вспомним тогда, как в этом небе черным стремительным облаком несся на мост, забитый танками, орудиями, серыми колоннами немецких войск, горящий советский самолет. Его вел летчик Вдовиченко. Он должен был разбомбить мост, по которому переползали на левый берег Днепра фашистские полчища. Самолет был подбит и вспыхнул. Летчик с тремя своими друзьями – такими же сыновьями Украины, как и он, – уверенно и точно направил свою машину. Тяжело нагруженная бомбами, она упала на самую середину моста. Мост рухнул. Летели в воду танки, солдаты, орудия. Левый берег был для немцев надолго отрезан. Это было в тяжелые сентябрьские дни 1941 года"...
* * *
Во время беседы с Жуковым, когда я уже собирался уходить, Георгий Константинович меня задержал:
– Заинтересуйтесь командиром 24-го танкового корпуса Бадановым. Сегодня будет подписан Указ о награждении его орденом Суворова. Первый орден Суворова.
Заскочил к операторам Генштаба. Там я узнал немного, но самое главное. Начав наступление северо-западнее Богучара, корпус В. М. Баданова прошел с боями 300 километров, уничтожил до 7000 вражеских солдат и офицеров, захватил огромное количество имущества, в том числе на станции Тацинской эшелон разобранных новых самолетов; на аэродроме его танки раздавили свыше двухсот транспортных самолетов, готовых к полету к окруженной группировке в Сталинграде...
Вернувшись в редакцию, я сразу же послал телеграмму нашему спецкору по Юго-Западному фронту с просьбой немедленно – так и было написано в депеше "немедленно" – прислать обширную корреспонденцию о корпусе и его командире. Заодно приготовили портрет Баданова. А вечером мы получили сразу три документа: о преобразовании 24-го танкового корпуса во 2-й гвардейский, о присвоении Баданову звания генерал-лейтенанта и о награждении его орденом Суворова. Все это поставили на первую полосу, а рядом – большой портрет комкора.
Надо бы откликнуться на такие сообщения, но вот незадача: спецкоры ничего не прислали, – к ним, вероятно, еще и телеграмма-то наша не дошла. Но выход нашли. Посадили нашего танкиста Коломейцева писать передовую. Он хорошо знал Баданова, бывал в его корпусе. Словом, в очередном номере "Красной звезды" появилась передовая "Первый орден Суворова", посвященная 2-му гвардейскому танковому корпусу и лично генерал-лейтенанту Василию Михайловичу Баданову.