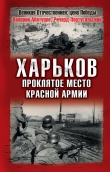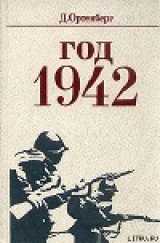
Текст книги "Год 1942"
Автор книги: Давид Ортенберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
* * *
Завершает полосы этого номера очерк писателя Натана Рыбака "Завод в степи". Сколько ныне уже читано-перечитано о подвиге тружеников тыла в годы Отечественной войны. Ничего нового я не добавлю, пересказав тот очерк. Но ведь это печаталось тогда, в горячие дни, по свежим следам. Приведу из очерка только один факт:
"В степи, за городом растут новые корпуса заводов... В мирное время эту огромную работу можно было бы с напряжением осуществить минимум в 2 года, строители это сделали за 6 месяцев... Стахановец Рахматулин за два дня выполнил норму на бетонировании полов на 870 процентов..."
19 мая
Наступление на Харьковском направлении продолжается. Наши спецкоры вновь сообщают об усиливающемся сопротивлении противника. Он подтянул авиацию, танки, корпусные и армейские резервы, беспрерывно контратакует. Командующий 38-й армией К. С. Москаленко, рассказывая о Харьковском сражении, в котором он принимал участие, вспомнил реплику бойцов, метко оценивавших обстановку тех дней:
– Ожил проклятый фашист, перезимовал...
Когда сдавался в набор "В последний час", в Генштаб пришло сообщение, что накануне из района Краматорска противник неожиданно нанес удар но нашим войскам и продвинулся километров на двадцать. Не мог я тогда знать, чем все это угрожало, да и в самой Ставке не все было ясно. Военный совет Юго-Западного фронта по-прежнему оценивал обстановку оптимистически. И все же мы убрали излишне радужные эпитеты, заменили заголовки репортажей на более соответствующие реальной обстановке. Решили не давать общего обзора хода боевых действий, пока ситуация не определится.
Михаил Розентрельд в своей новой корреспонденции продолжает описание боя за крупную железнодорожную станцию, которую мы обозначили, по понятным причинам, буквой "Н". Называлась корреспонденция "Последние дни 208-го немецкого полка" – заголовок точно раскрывает ее содержание.
По-соседству с Розенфельдом на газетной полосе – фоторепортаж Михаила Бернштейна. Один из первых снимков, которые он прислал и которые были опубликованы в газете, – длинная шеренга пленных...
В эти дни опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена Отечественной войны. Даем статут и описание ордена. Почти целую полосу заняло перечисление, за какие именно подвиги награждаются этими орденами. Например, за определенное количество сбитых самолетов, потопленных кораблей, уничтоженных танков и орудий противника... И даже за такие, вполне конкретные боевые успехи: "Кто сумел восстановить поврежденный самолет, совершивший вынужденную посадку на территории противника, и выпустить его в воздух", "Кто ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его" и др. Словом, высокой наградой отмечались за самые разные проявления отваги и мужества, что не могло не воодушевлять наших воинов. К тому же это был первый орден, остававшийся в семье погибшего.
Конечно, на Указ мы откликнулись прежде всего передовой статьей. Автор этой передовой в библиотеке имени В. И. Ленина раскопал документ времен гражданской войны – памятку в связи с учреждением первого советского ордена "Красное Знамя". В памятке говорилось: "Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак отличия, должен знать, что он из среды равных себе выделен волею трудящихся масс как достойнейший и как лучший из них; что своим поведением он должен всегда и везде, во всякое время являть пример сознательности, мужества, преданности делу Революции. Он должен помнить, что на него смотрят другие как на образец, что по нему учатся бескорыстному исполнению долга, что то Красное Знамя, символ которого он носит на груди, дорого для всего пролетариата как знамя, пропитанное кровью рабочего класса и крестьянства".
Мы привели эти слова в передовице и сказали, что и новый орден обязан быть для нас таким же дорогим и каждый, кто будет им награжден, должен достойно носить его на груди...
Кстати отмечу, что статута строго не придерживались, и вполне справедливо: разве можно (да и надо ли было) уложить в параграфы бесчисленные подвиги, совершаемые нашими воинами?!
22 мая
В сводках Совинформбюро появилось новое направление Изюм-Барвенковское. Это – левое крыло Юго-Западного и правое крыло Южного фронтов, там немецкие войска начали наступление. Прибыл первый репортаж нашего корреспондента Лильина. Сообщение тревожное: «В течение нескольких дней на Изюм-Барвенковском направлении идут упорные бои... Сосредоточив... крупные силы, немецко-фашистское командование пытается развить успех наступления одновременно на ряде участков. Ожесточенные вражеские атаки не прекращаются».
В тяжелейших условиях сражаются наши воины. Нельзя без волнения читать корреспонденцию о подвиге, суть которого в том, чтобы вызвать на себя огонь собственной артиллерии.
На одной из высоток обосновалась рация, корректировавшая огонь нашей батареи. Начальник рации Тягушев и радист Синельников расположились на ближайшем гребне, откуда хорошо просматривалась вражеская сторона. Не раз немцы атаковали высоту, но безуспешно. Начали последнюю атаку. И вот запись по часам и минутам в штабном журнале:
"В 4 часа 40 минут Тягушев передал на командный пункт:
– Немцы окружают нас. Дайте огонь по восточному, южному и западному склонам высоты.
Через 25 минут:
– Дайте огонь по самой высоте. Немцы поднимаются все выше.
В 6 часов 35 минут:
– Враг приближается. Патроны у нас на исходе. Разрешите уничтожить документы и рацию.
Начальник связи старший лейтенант Митрич ответил:
– Документы уничтожьте, а рацию держите до последней возможности.
Тягушев продолжает передавать:
– Усильте огонь по высоте.
– Огонь меткий. Немцы пачками взлетают в воздух. Продолжайте бить.
В 7 часов 48 минут Тягушев говорит в последний раз:
– Фашисты окружают наш блиндаж. Снаряды здорово покрошили их. Немцев осталось немного, но и нас здесь только двое. Выпускаем последние патроны. Прощайте, дорогие товарищи!"
Связь прекратилась.
Когда наша пехота, используя удары артиллеристов, снова заняла высоту, командиры кинулись к блиндажу. Они увидели взорванную рацию и тела героев-радистов...
Но как упорно ни сражаются наши войска, остановить врага не удается.
В Ставке ничего утешительного мне не сказали. Операторы, вижу, прочерчивают на карте линию фронта, отодвигая ее на восток, изгибая дугой вокруг 6-й и 57-й армий: явная угроза их окружения.
* * *
В сегодняшнем номере газеты новые указы – о введении гвардейского звания и значка, а также нагрудных знаков отличников. История их происхождения мне хорошо известна.
Недели три назад комиссар оперативного управления Генштаба бригадный комиссар Иван Николаевич Рыжков, добрый друг и, я бы сказал, помощник нашей редакции, рассказал, что вместе с Василевским был у Сталина. После разговоров по оперативным делам Верховный сказал им:
– Мы установили для дивизий и полков гвардейские звания. Дали им знамена, поощрили повышенным окладом. А как отличить гвардейца, выделить от других? Может быть, установить звание "гвардеец" и дать гвардейский значок? Подумайте...
Позже мне позвонил начальник Главного управления тыла Красной Армии генерал А. В. Хрулев и пригласил что-то посмотреть. Сразу же поехал к нему. А там на столе уже были разложены образцы знаков. Все это отвезли в Кремль. Знаки гвардейцев Верховный сразу же одобрил, а вот на знаках отличников задержался. Походил по кабинету и снова возвратился к ним. Их было много... И "Снайпер", и "Отличный пулеметчик", и "Артиллерист", "Кавалерист", "Связист-дорожник", и даже "Отличный интендант".
Как раз за этого интенданта Сталин и зацепился. Хрулев мне потом рассказывал, что Верховный даже его упрекнул, что он "своих" проталкивает. Сталин отобрал первые семь знаков и сказал:
– А с теми обождем. Будут ваши интенданты хорошо воевать, наградим их орденами...
Кстати, по поводу звания "гвардеец". Указом для воинов гвардейских соединений и частей установлены воинские звания от "гвардии красноармеец" до "гвардии генерал-полковник". Так с этого дня обозначалось в служебных удостоверениях и других документах. Эти звания присваивались навечно. Но, вспоминая те годы, я вижу, что так не получалось. Если, например, гвардейца переводили в негвардейскую часть, приставка "гвардии" исчезала. И сейчас немало ветеранов с орденами и медалями на груди, но без гвардейских знаков, хотя это почетное звание им было когда-то присвоено...
* * *
В этом же номере опубликован Указ о награждении работников Генштаба орденами Ленина и Красного Знамени. Среди них много знакомых: А. М. Василевский (в этот же день ему было присвоено звание генерал-полковника), С. М. Штеменко, тогда полковник, а после войны начальник Генштаба, и другие. Это награды за Московскую битву. Предложил отметить особо отличившихся генштабистов Сталин. Накануне он сказал Шапошникову:
– Всех наградили за Москву, а Генштаб забыли...
И вот Указ...
* * *
На фронт регулярно приходит пополнение, много еще не нюхавших пороху. Поэтому животрепещущей темой для газеты было воспитание стойкости. Сегодня как раз под таким заголовком опубликованы записки командира полка подполковника С. И. Азарова. Это прямой, откровенный, острый разговор человека, который на своем горбу вынес тяготы первого года войны. Да, пишет он, встречаются среди новобранцев те, кого трудно оторвать от земли во время атаки, те, кто кланяется каждой пуле, когда нужно и не нужно. Подполковник рассказывает, советует, учит: не каждый из этих бойцов безнадежен. Более того, считает он, нет среди них безнадежных. В каждом можно пробудить мужество, воспитать стойкость. Но здесь одни призывы, так называемая голая агитация не поможет. Он приводит примеры из боевого опыта:
Недавно один политрук роты предложил трех "ненадежных" бойцов перевести в тыл. Вряд ли нужно доказывать, что это линия наименьшего сопротивления и явное нежелание всерьез работать над воспитанием людей. Плавать учат на глубине. Воевать надо учиться в бою. "Я лично всецело одобряю инициативу другого политрука роты, тов. Прудникова, который считает своим долгом таких недостаточно осмелевших еще бойцов почаще посылать в наиболее рискованные операции, конечно, под наблюдением опытных товарищей. Бойца всегда нужно воспитывать так, чтобы никакие трудности и опасности не были для него в диковинку, чтобы они не обрушились на него, как снег на голову..."
К этой статье дана редакционная врезка: "Автор данной статьи подполковник Семен Иванович Азаров, командир N полка, пал смертью храбрых на поле боя. Статья для "Красной звезды" написана им за несколько дней до смерти". Самой гибелью в бою, подтвердившей правду каждой своей строки, он как бы оставлял завещание живущим и сражающимся...
* * *
Неделю тому назад Александр Поляков пришел ко мне и стал убеждать, что ему надо поехать на Северо-Западный фронт. Там сражаются "его" пять "КВ", которые он сопровождал с Урала до Старой Руссы и вместе с ними вступил в бой. Как они там? Нужно посмотреть, а быть может, и написать. Какой редактор не загорится такой идеей? А сегодня уходит уже в набор его корреспонденция "Пять "КВ". Мы узнаем, что на счету этой маленькой группы кировских броненосцев немало побед – уничтоженных немецких танков, орудий, сотни вражеских солдат и офицеров. О том, как они воевали, рассказали корреспонденту не только его старые друзья-танкисты и боевые донесения, но вмятины на броне танков от вражеских снарядов. Пришлось пережить танкистам и горькие потери: погиб политрук Харченко, ранены командир танка Чиликин, Кононов, Мащев, заживо сгорел экипаж Калиничева, о котором столько добрых слов написал Поляков в своих очерках "От Урала до Старой Руссы".
Ныне батальон, в состав которого входили уральцы, стал своеобразной академией фронтового опыта. В качестве преподавателей – знакомая четверка уральцев. Учеба проходит в ближайшем тылу, недалеко от передовой. Полигоном танкистам служит кладбище немецких машин, которое в расписании фигурирует под названием "Полевой класс № 6". Порой раздается и боевая тревога – и танкисты мчатся к передовой, чтобы отразить атаку противника...
И еще один материал привез Поляков. Однако это не корреспонденция, и даже не очерк, а новелла об одной удивительной истории из жизни этой пятерки. Называлась новелла "Трофей". После одного боя, когда экипаж "КВ" овладел деревней, к нему приблудился пойнтер.
– Собака, ребята, немецкая. Вот номер и надпись на ошейнике, проговорил Дормидонтов.
Все успели заметить на собачьей шее белый медальончик в форме щитка со штампованным номером и надписью...
– Так вот, ребята, – продолжал Дормидонтов, – за собакой буду ухаживать я. Командир уже разрешил держать ее в батальоне.
– Тогда давай ей кличку дадим, – предложил кто-то, и со всех сторон как дождь посыпались предложения:
– "Фашист", "Адольф", "Гитлер", "Геббельс" – и еще ворох имен в этом роде.
– Нет, ребята, это все не годится, – перебил друзей Дормидонтов. В его синих глазах замелькали веселые искорки. Притворно серьезным тоном он продолжал:
– Товарищи! Не к лицу собаке носить такое имя. Это же оскорбительно для нее.
Громкий взрыв хохота покрыл слова Дормидонтова.
– Так как же мы ее назовем? – забеспокоились танкисты.
– Знаете, как назовем, – заговорил опять Евгений. – Она ведь вместе с другим немецким имуществом нами завоевана. Это наш трофей. Так давайте и назовем ее "Трофей".
Дормидонтов приручил собаку. Ее научили таскать донесения, переносить пулеметные диски, обернутые тряпкой... И вот после одного боя танк Калиничева не вернулся на базу.
Долго ломали себе голову: что же делать? И вдруг кто-то в батальоне предложил послать "Трофея" через линию фронта поискать машину. Пойнтер нашел ее. Вернулся обратно с отрывком записки в зубах. А там было написано: "...хоть сколько-нибудь. Хотя бы с "Трофеем". Мы еще живы. Расстреливаем последние. Набили штук сотню гадов, не сдаемся и не сдадимся. Калиничев". Три рейса с дисками совершил к танку "Трофей". В третий раз он вернулся с опаленной в нескольких местах шерстью и запиской, прикрепленной к ошейнику:
"Дорогие товарищи! Спасибо вам, спасибо "Трофею". Вот какая собака! Она помогла нам подстрелить еще с полсотни кровавых собак. Прощайте ребята. Последние минуты. Обливают бензином. Умрем, но победа за нами! Передавайте привет родным. "Трофея" спускаем в нижний люк. Он такой. Он прорвется. Прощайте, Калиничев, Дормидонтов, Шишов, Соловьев". Вот на какой трагической ноте закончилась новелла!
* * *
И неизменно в номере небольшая статья Ильи Эренбурга. Называется она "Конец Габке". Писатель вывел на чистую воду брехунов из немецкого радио. В нашей газете было сообщение, что один из партизанских отрядов прикончил гитлеровского генерал-лейтенанта Габке. А немецкое радио заявило, что генерал-лейтенант Габке здравствует, и заклеймило "измышления советской печати". В эти дни одна из наших частей, наступающих на Харьковском направлении, захватила среди прочих документов надгробное слово пастора 294-й германской дивизии, произнесенное им на похоронах генерал-лейтенанта Габке. Со свойственным ему сарказмом Эренбург пишет:
"Следует предположить, что свою речь пастор произнес над мертвым генералом, а не над здравствующим. Таким образом, "измышлениями" занималось немецкое радио: оно уверяло, что Габке жив, а Габке в это время уже не мог протестовать – Габке лежал в холодной земле".
Для вящей убедительности писатель привел даже отрывки из проповеди пастора...
* * *
Должен вернуться к керченской катастрофе. Ничего в газете в те дни не было опубликовано; мы не объяснили, что же там произошло. Конечно, могут сказать: а стоило ли вообще рассказывать о том поражении? Не только стоило, но мы обязаны были это сделать. Ведь в более трагический период войны, когда советские войска отступали на всех фронтах, когда немецкие войска прорвались к Москве, газета не молчала, писала о неудачах и поражениях. Делали это иногда даже невзирая на строгие команды сверху.
Но корреспонденты молчат. В Ставке тоже нет ничего подходящего для газеты. Что же случилось с нашими спецкорами? Ведь там два таких боевых человека – Петр Павленко и Александр Вейленсон. Вчера утром наконец мне позвонил Бейленсон из Краснодара, сказал, что они едва вырвались из Керчи, Павленко в госпитале. Досталось им тяжелого сверх всякой меры.
Пришел приказ отступать. Корреспондентам сказали, чтобы они немедленно отправились в тыл. Войска отходили в беспорядке. Транспорта не было. И вдруг Павленко упал, с ним случился сердечный приступ. Его спутник, человек физически сильный, взвалил писателя на плечи и нес три километра, пока не добрался до КП фронта. Там тоже была неразбериха. Вейленсон нашел представителя Ставки Л. З. Мехлиса. Узнав, что случилось с Павленко, он написал две записки: одну – командиру береговой охраны, чтобы Павленко на катере направили через пролив, другую – чтобы на Таманском полуострове выделили машину. А Бейленсону приказал сопровождать Петра Андреевича до Краснодара. Под нещадной бомбардировкой они переправились на тот берег. Там Бейленсон довез писателя до госпиталя.
А ведь, напомню, посылали мы Петра Андреевича на юг поправить здоровье. Поправился, называется. И все же недолго он пролежал в госпитале. Не в его натуре было отлеживаться...
27 мая
В сводках Совинформбюро не упоминается наше наступление на Харьков. Вместо этого указывается, что советские войска «закрепились на занимаемых рубежах». Главным направлением сейчас стало Изюм-Барвенковское, там наши войска ведут тяжелые оборонительные бои. В газете это нашло отражение в репортажах К. Буковского и Т. Лильина. Сообщения крайне тревожные: «Вчера происходили крупные танковые бои... Вражеские танки почти не уходят с поля боя... Танковые бои идут почти непрерывно, они носят исключительно ожесточенный характер...» О масштабах сражения можно судить и по корреспонденции майора В. Красноголового. Только на одном участке, сообщает он, противник бросил в бой около 250 танков.
В этих условиях понятно, почему сразу же в газете появились передовицы: "Всю мощь огня против немецких танков", "Вся артиллерия должна бороться с немецкими танками", статья "Пехота против танков" и др.
* * *
Вернулся из Мурманска Симонов и положил мне на стол последний северный очерк "Американцы". О летчиках союзных держав у нас уже печатались очерки, в том числе и самого Симонова. А этот – впервые о моряках. Я позволю себе рассказать о нем подробнее, ибо читатель не найдет его ни в сборниках, ни в Собрании сочинений писателя. Очерк начинается такой зарисовкой:
"По русскому городу ходят веселые рослые парни в кожаных, проеденных морской солью пальто, в толстых бархатных морских куртках с пестрыми шарфами, небрежно повязанными на загорелых шеях. К ним уже привыкли здесь к их веселым любопытным глазам, к отрывистой речи, к их любви покупать бесконечные сувениры. Больше всего они любят игрушечный магазин: они заходят туда и покупают раскрашенных деревянных лошадок, кустарные игрушки, деревянные чашки, разрисованные яркими цветами, – всякие забавные пустяки, которых мы давно не замечаем и которые они видят впервые... Ничего, что это пустяк, – он станет памятью о суровом времени, об их первом боевом крещении".
Много у Симонова было встреч с американскими моряками в те дни. "Все они смелые моряки и хорошие ребята". Но особенно запомнились писателю двое из них. С капитаном Кларенсом Маккой он беседовал на борту его корабля.
– О, жаль, что вы не были здесь час назад. – сказал капитан Симонову. в то время, когда русский истребитель сбил над гаванью немца. В этот момент стоило посмотреть на ребят. Давно, наверное, ни одного немца так весело не провожали в могилу. Все ребята кричали и свистели, а Саймон, кок-филиппинец, вот этот, который сейчас в белой куртке идет по палубе, так он просто плясал от удовольствия...
Не менее колоритной фигурой оказался Норман Эдвард Дорленд. Он стал солдатом уже давно, в 1936 году, когда поехал сражаться в батальоне Линкольна в Испании. Воевал там больше года. Когда его ранили под Мадридом, у него в руках была только винтовка. Выздоровев после ранения, он попросил, чтобы его сделали пулеметчиком. Да, он злопамятен, не без юмора замечает Симонов, он хотел отплатить за свою рану так же, как за раны друзей. И он отплатил!
В очерке нет живой речи моряка, Симонов ее пересказывает, но и в этих строках чувствуется живой голос американца:
"Нет, он не будет говорить, что всем легко и что это был легкий рейс. Нет, рейс был трудный, но все, кого он знает в команде, готовы пойти в следующий рейс, и еще в следующий. Они готовы снова и снова ходить сюда и возить оружие для своих русских товарищей. Если бы это зависело от него, то он бы возил этого оружия еще больше, чем его возят сейчас, несмотря ни на какие опасности".
Эта последняя фраза, как говорится, с подтекстом.
31 мая
Поздно вечером пришла сводка Совинформбюро. В ней лишь две строки: «В течение 31 мая на фронтах ничего существенного не произошло». Но, увы, в это время как раз и произошло много существенного. Сражение на Юго-Западном закончилось не в нашу пользу. Вновь возникло слово «окружение», печально памятное нам по первым месяцам войны и исчезнувшее в последнее полугодие. Немецким войскам удалось на этом фронте замкнуть кольцо вокруг нашей группировки. В этом кольце мужественно сражались наши воины с превосходящими силами противника. Несколько тысяч человек вышло из окружения. Но много наших воинов погибло или попало в плен, среди них ряд видных командиров.
Причины поражения на Юго-Западном и Южном фронтах хорошо известны. Наше поражение в Харьковском сражении явилось прежде всего результатом недостаточно полной оценки командованием Юго-Западного направления и фронта оперативно-стратегической обстановки, отсутствие хорошо организованного взаимодействия между фронтами, недочеты в управлении войсками. К тому же командование направления не всегда объективно информировало Ставку о действительном положении на фронте... Это наступление, как выяснилось, напрасно затевалось.
Конечно, в ту пору я далеко не все знал и понимал. Вспоминаю, что когда я в Перхушкове завел с Жуковым разговор о харьковских делах, он рассказал мне не так много и не столь откровенно, как написал об этом после войны. Не сказал, что не был согласен с развертыванием нескольких наступательных операций, в частности и на Харьковском направлении, и об этом говорил Сталину на заседании ГКО. Но фраза, которая тогда, во время разговора в Перхушкове, у него вырвалась, многое мне открыла:
– Не надо было там начинать...
Отмечу, что в нашей газете, как, впрочем, и в других, о ходе событий нет ничего определенного. Не назывались города и населенные пункты, за которые шли бои или которые мы оставляли, не печатались и карты театра битвы, как это мы делали в прошлом. Почему? Взять грех на свою душу было бы легче всего.
Вспоминаю свою беседу с секретарем ЦК партии А. С. Щербаковым, который был начальником Совинформбюро и к тому времени стал и начальником ГлавПУРа. Я сказал, что откровенный разговор, который мы вели на страницах военной газеты во время поражения сорок первого года, был проявлением не слабости, а силы нашего государства и армии. Правда, война не снижала, а подымала дух людей, вселяла веру в нашу победу. Александр Сергеевич ответил:
– Тогда была другая обстановка. Тогда дело шло о судьбе нашей страны. А эта операция носила частный характер. Решено публиковать только то, что дает Информбюро. Придерживайтесь наших сводок...
Я хорошо чувствовал, когда Щербаков говорит от своего имени, а когда передает указания Верховного, никогда на него не ссылаясь. Я понял, что на этот раз он передает указания Сталина. Не мог Александр Сергеевич, да и не только он, тогда предполагать, что наше поражение на Харьковском направлении обернется наступлением противника на Сталинград и Северный Кавказ и вновь встанет вопрос о судьбе Родины.
Однако уроки из харьковского поражения надо извлекать. Для этого у нас был испытанный метод – передовые статьи. Приведу пример. Как известно, разведка наших фронтов (да и в центре) проглядела подготовку армейской группы Клейста к наступлению, сосредоточив большие силы в районе Краматорска. Поэтому удар врага и оказался совершенно неожиданным. И вот в сегодняшнем номере газеты передовица "Непрерывно вести разведку", а за ней другая – "За образцовую воздушную разведку". Это все уроки харьковского сражения. Еще одна передовая "Стойкость в бою". Есть в ней точные, подтвердившиеся затем в ходе событий слова: "Нынешним летом фронты отечественной войны станут ареной больших упорных и ожесточенных сражений..."
* * *
Злой рок преследовал нашу редакцию на Юго-Западном фронте. В прошлом году в так называемом киевском окружении мы потеряли пять корреспондентов. Теперь из харьковского окружения не вернулись в редакцию два наших спецкора. Погиб Михаил Розенфельд. Последней его видела военный корреспондент журнала "Фронтовая иллюстрация" Наталья Бодэ. Она рассказала:
– Было жарко, помню, мы уже скатывали шинели и ходили нараспашку. Солнце припекало. Шли в наступление. Это было под Харьковом, у станции Лихачеве. Настроение у всех боевое. Вдруг встречаю Михаила. Он, как всегда, веселый, возбужденный.
– Получен приказ из штаба армии отправить вас отсюда! Мне это не улыбалось. Я заупрямилась. Но он мягко и настойчиво приказал:
– Немедленно... Сейчас же!
И заставил меня сесть в самолет.
Михаил стоял на аэродроме, полный сил и бодрости, со своей неизменной дружеской улыбкой – таким я его и запомнила.
А утром в Ахтырке я узнала, что немецкие танки прорвали фронт и часть, в которой находился Розенфельд, попала в окружение...
Погиб и Михаил Бернштейн, прошедший огонь и воду на Халхин-Голе, и на финской войне и в самые трудные месяцы Отечественной войны. Не было такой горячей точки, где бы он со своей "лейкой" не побывал, и, казалось, нет такой пули, которая его не обошла. Где он сложил голову – неизвестно. Мне рассказали, что ему, как корреспонденту "Красной звезды", было предоставлено место на последнем самолете, вырывавшемся из окружения. Но он отдал его раненому, а сам остался на взлетной полосе. Это я услышал из уст человека, который прилетел на том самолете. Мы хорошо знали Мишу, знали, что он на это был способен.
* * *
Вернулся с Юго-Западного фронта наш авиатор подполковник Николай Денисов и сдал статью "О весенней воздушной тактике немцев"; она опубликована в сегодняшнем номере газеты и заняла три колонки. Статья эта результат наблюдений, вернее, изучения Денисовым воздушных сражений на Юго-Западном фронте, а также в Керчи, где он тоже побывал. Интересная, содержательная и, несомненно, полезная статья. Она имеет, свою предысторию и свое продолжение, о которых стоит рассказать.
По неписаному правилу, каждый корреспондент, выезжая на фронт, захватывал с собой свежие номера "Красной звезды". В эту поездку Денисов взял с собой пачку газет, где как раз и была напечатана его статья о воздушной тактике противника. Добравшись под Купянск, до штаба истребительной дивизии, он отдал газеты в политотдел, и они были разосланы по полкам и эскадрильям. Наутро, пробираясь лесочком к самолетным стоянкам, Денисов случайно подслушал, как командир полка А. Грисенко, давая указания комэскам на боевой день, сказал:
– Вчера привезли "Красную звезду". Пусть летчики прочитают в ней статью Денисова. Это пригодится...
В этой связи вспомнил я один случай, который произошел с Денисовым. Но пусть он сам об этом расскажет:
"Как-то я, – писал он в своей мемуарной книжке "Срочно в номер", узнав, что редактор снял с полосы мою корреспонденцию об авиаторах, насколько это позволяла воинская субординация, запротестовал. Сгоряча даже выпалил:
– Если мои материалы не подходят для публикации, то лучше откомандируйте меня в войска, на фронт.
– Бескрылый вы человек, – едко возразил на это редактор, – если при первой же неудаче опускаете руки. Корреспонденцию напечатать можно, но погоды она не сделает. Надо стараться писать так, чтобы авиаторы искали газету с вашими статьями...
Замечание подстегнуло, заставило относиться более самокритично к дальнейшей журналистской работе. И вот результат – совет командира полка прочитать мою статью. Значит, кое-чему научился".
Когда Денисов вернулся в редакцию, он не без гордости – вполне законной – рассказал мне о том эпизоде в лесочке под Купянском. В ответ я лишь улыбнулся, не напомнив ему тот наш разговор. Но он понял меня без слов...
Вчера в "Красной звезде" напечатана статья "Опыт воздушных боев на Харьковском направлении". Автор ее полковник А. Грисенко. В тридцать восьмом году он воевал с японскими империалистами в небе Китая и опубликовал очерк под псевдонимом Ван-Си. В эту войну – командир 2-го истребительного полка. Было о чем рассказать испытанному летчику! Забегая вперед, скажу, что в конце лета этого года Денисов, вернувшись из Сталинграда, рассказывал, что Грисенко сбили, сам он, раненный в ногу, прыгнул с парашютом. В госпитале ему ампутировали ногу. Все решили, что больше летать он не будет. Но Грисенко решил по-другому. Об этом тоже рассказал Денисов. Был он на полевом аэродроме возле реки Прут. Там залюбовался виртуозным полетом какого-то истребителя. Машина приземлилась, подрулила к капониру. Выключив мотор и расстегнув карабины парашютных лямок, из кабины, осторожно перенеся ногу через борт, выбрался летчик. Встав на крыло, он снял шлем. Это был Грисенко.
Выписавшись после ранения из госпиталя, тут же, за воротами он выбросил трость, которой его снабдили врачи, и, стараясь держаться на протезе как можно прямее, явился в штаб Военно-Воздушных Сил к генералу Ф. Я. Фалалееву, под командованием которого воевал еще на Юго-Западном фронте. Просьба была одна – вернуть его в строй. Вместе пошли к главкому. После обстоятельного разговора тот согласился со всеми доводами и назначил Грисенко командиром истребительной дивизии.
– Молодые летчики зовут меня "деревянной ногой", – шутливо говорил полковник...
Людмила Павличенко! Кто на фронте не слышал о ней?! Впервые ее имя появилось в репортаже нашего спецкора Льва Иша из Одессы. Мы узнали, что до войны она, историк по образованию, закончила снайперскую школу Осоавиахима, добровольно ушла на фронт. Теперь Павличенко в Севастополе. Там Иш снова встретился с этой боевой девушкой. Часто бывает в ее землянке, порой – и на ее огневых позициях: накапливает материал для очерка. Сегодня этот очерк "Девушка с винтовкой" опубликован в газете.