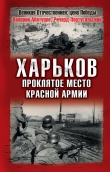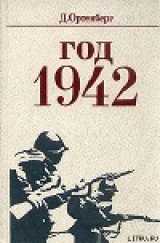
Текст книги "Год 1942"
Автор книги: Давид Ортенберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
И суровое, бескомпромиссное предупреждение: "Внуки или будут прославлять подвиги героев 1942 года, или они проклянут нас, изнывая в плену..."
Сегодня же будут сказаны еще более суровые слова в приказе Сталина № 227, в приказе, потрясшем всю армию...
* * *
Наш ленинградский летописец Николай Тихонов точно выполняет обещание. Несколько ранее я получил письмо, в котором он сообщил, что пришлет очерк "Ленинград в июле" в конце месяца, "когда июльский облик города будет раскрыт богаче". "Сейчас у нас, – писал мне Тихонов, – громадная эвакуация и тишина перед бурей. Город освобождается от лишних ртов. Мы, как говорят моряки, списываем на Большую землю всех детей, стариков, инвалидов..."
Кстати, в этом письме Николая Семеновича были строки, вызывавшие у нас гордость и радость за нашего автора: "Ответственность наша, писателей, сегодня очень велика. Я только что получил письмо с фронта, где в одной роте прорабатывался, как пишет политрук, мой рассказ "Ленинград в июне", и бойцы вынесли такую резолюцию: "В ответ на патриотизм ленинградских женщин, стариков-бородачей и школьников мы еще лучше укрепим свой оборонный рубеж, еще лучше овладеем наступательной техникой и в скором будущем погоним бешеных фашистских собак от нашего славного Вердена – города Ленина!"
И таких писем – не одно. Хочу писать ярче, глубже – единственное мое устремление..."
Да, таким ярким и глубоким был рассказ Тихонова "Ненависть", напечатанный накануне. Таким был и полученный сегодня очерк "Ленинград в июле".
Казалось бы, у ленинградцев свои боли и горести, свои заботы, но сегодня их взоры, как и взоры всей страны, обращены на юг, где решается судьба Родины. "Далеко на юге развертывается грандиозное сражение, и Ленинград взволнованно прислушивается к этим раскатам орудий на Дону, потому что Нева – сестра синего Дона, а Ленинград – брат Ростова и Сталинграда. За одно дело мы бьемся все вместе, одну родную землю защищаем. Нам нужна стойкость и ненависть! Надо остановить врага и сломать его!"
Так заканчивается очерк "Ленинград в июле".
30 июля
Эти дни ознаменовались чрезвычайным событием: в армии обнародован приказ Сталина № 227, который известен под девизом «Ни шагу назад!». Обычно номера приказов помнят лишь в канцелярии. 227-й и сегодня вам назовет каждый фронтовик.
Приказ был издан в связи с глубоким прорывом немцев к Волге и Кавказу. С предельной правдивостью в нем объяснялось то отчаянное положение, в какое попала наша страна. Говорилось о смертельной угрозе, вновь нависшей над нашей Родиной. Приказ требовал в корне пресекать все разговоры о том, что "у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке... Такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам", они ослабляют нас и усиливают врага, ибо, если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.
В приказе приводятся ошеломляющие цифры: "У нас стало намного меньше территории... стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн. населения, более 800 млн. пудов хлеба в год и более 10 млн. тонн металла в год. У нас уже сейчас нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину...
Пора кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв".
Что же сейчас надо делать? Приказ № 227 дает суровый ответ:
"Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, в батальонах, в полках, в дивизиях, в танковых частях, авиаэскадрильях. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину..."
Я знаю, что приказ составляли по указанию и под диктовку Сталина. Да, собственно, можно было и не знать, но не трудно было догадаться, кто является автором приказа.
Приказ был подписан Сталиным 28 июля. Вчера вечером он уже был у меня в руках. Отодвинув все другие дела, засел за передовую. Казалось, писать ее было не так уже и трудно – надо просто-напросто добросовестно пересказать приказ № 227, и дело с концом! Но над текстом стоял гриф "Строго секретно". Поэтому, когда передовая была набрана и сверстана, я послал ее Сталину: так ли мы сделали? Через два часа мне вернули передовицу. Никаких вычерков и добавлений в ней не оказалось. Только некоторые строки Сталин подчеркнул красным карандашом, а это означало – набрать жирным шрифтом. В том числе слова из приказа "Ни шагу назад! Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, стойко удерживать каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности".
Вслед за передовой почти подряд шли другие материалы, посвященные приказу № 227, его главному требованию – установлению строгого порядка и железной дисциплины в войсках. Здесь я должен напомнить о нашей передовой "Долг командира", опубликованной неделю назад. Поздно ночью в этот день я встретился с Боковым. Не успел еще с ним поздороваться, как он сразу же сообщил:
– Сталин отметил вашу передовую...
Боков имел в виду передовицу "Долг командира".
Читая приказ, я понял, почему та передовая получила одобрение Верховного. Она от первого до последнего слова была посвящена обязанности, долгу командира установить строгий порядок, железную дисциплину в подразделениях, частях, соединениях. Словом, в передовице был дух будущего приказа.
Читатель может спросить: не предвосхитила ли газета приказ № 227, коли я провожу такую параллель? Нет, этого я не говорю. Просто эта тема была подсказана нам жизнью...
* * *
Особо хотелось бы сказать о таких строках приказа, вписанных Верховным: "Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на Восток ".
Суровые, горькие и даже жестокие слова, о которых ранее почему-то стеснялись вспоминать, хотя и сам приказ, и само время уже стали достоянием истории. Не буду сейчас входить в обсуждение, справедливы или несправедливы эти слова, адресованные армии, но фронтовики сорок второго года могут подтвердить, что, если бы их не было, вряд ли приказ так взволновал всех, потряс солдатские души, вызвал такой взрыв чувств, столь резкий перелом в психологии воинов.
В передовице эти строки не дословно приведены: слишком необычными и неожиданными они были. А вместе с тем и обойти их нельзя. В передовой эта мысль выражена по-иному, но тоже резко и определенно: "Родина вручила воинам Красной Армии вместе с боевым оружием и свою судьбу. И тот, кто дрогнул на поле боя вместо того, чтобы стоять насмерть, будет проклят Родиной, как отступник, который отдает свой народ под ярмо немецких угнетателей".
Передовая была не единственным выступлением газеты на эту жгучую тему. С неделю назад мы обратились с просьбой к Александру Довженко написать очерк о тяжелом положении на фронте, о долге советского воина перед своим народом, да такой очерк, чтобы он перевернул душу солдата.
Под вечер 31 июля у меня в кабинете раздался звонок – я услышал голос Довженко:
– Вашу просьбу выполнил. Привез рассказ...
Вскоре он был в редакции.
Александра Петровича до этой встречи я видел только в гражданском костюме. Теперь он предстал перед нами в военной форме. Худощавый, с чуть впалыми щеками, с красивой головой и седоватыми кудрями, опускавшимися на лоб, прокаленный степным солнцем, он выглядел бывалым фронтовиком. Пехотная форма с тремя "шпалами" на петлицах шла ему, и чувствовал он себя, видать, в ней свободно. Не долго распространяясь, он вынул из полевой сумки рукопись: рассказ "Ночь перед боем". Были у меня в то время Карпов и еще кто-то из работников редакции, и мы упросили Александра Петровича прочитать рассказ вслух. У него был грудной голос, читал он с мягким украинским акцентом. Мы слушали затаив дыхание, а когда он закончил, долго не могли произнести ни слова, потрясенные драматической силой произведения.
Я спросил писателя: читал ли он приказ № 227? Нет, он еще не знал этого приказа. С большой прозорливостью и смелостью он изобразил думы народные. Рассказ был написан сочным, колоритным языком, затрагивал самые тонкие струны человеческой души. Довженко описывал разговор украинских дедов-рыбаков у переправы на Десне с отступающими бойцами. Они, эти деды, с непримиримой беспощадностью, с горечью и едким сарказмом говорят о тех, кто забыл свой воинский долг и отдает родную землю на заклание врагу.
Командир-танкист Петро Колодуб в ночь перед боем рассказывает молодым бойцам о своей встрече с дедами на Десне в те дни, когда наши войска отступали:
" – Тикаете, бисовы сыны? – спросил нас дед Платон Пивторак, выходя из сеней с веслом, сетью и деревянным черпаком. – Богато я уже вас перевез. Ой, богато, да здоровые все, да молодые, да все – перевози да перевози... Савка! – крикнул Платон в соседнюю хату. – Пойдем, Савка. Надо перевозить нехай уже тикают. Га?! Пойдем, пойдем, это, мабуть, последние!..
– Э-ге-е! Что-то вы, хлопцы, не той, не как его, не туда будто идете, сказал дед Савка и хитро посмотрел на нас. – Одежда вот на вас новая, да и торбочки, и ремни, эге, и сами молодые, а заворачиваете не иначе не туда, га?..
– Не знаю, чего они так тикают? – сказал дед Платон, идя с Савкой к реке, как будто нас тут вовсе и не было.
– Чего они так той смерти боятся. Раз уж война, так ее нечего бояться. Уж если судилась она кому, так и не сбежишь от нее никуда...
– Душа несерьезная, разбалованная... Это казна-що, не люди... сердился Платон. – Ну, сидайте, повезем. Чего стали? – Он уже стоял с веслом возле челна.
– Повезем уже, а там – что бог даст. Не сумели соблюсти себя, так уже повезем, тикайте, черт вашу душу бери... Куда ты шатаешь? Челна не видел, воин? – загремел дед на кого-то из нас...
Мы молча уселись в лодку, и каждый стал думать свою невеселую думу.
– Эге! – подхватил Савка. – А не знают, трясца их матери, что уж кому на войне судилось помереть, так не выкрутишься, никакой челн тебя не спасет. Не догонит пуля, догонит воша, а война свое возьмет... Бери влево! Быстрина велика, – захлопал Савка веслом...
– А ци думают спастись, а оно гляди, выйдет на то, что долго будут харкать кровью. Это же все доведется забирать назад!
– А доведется, – подхватил Платон и со всей силой гребнул веслом три раза. – Шутка сказать, сколько земли надо отбирать назад. А это же все кровь!
Я смотрел на деда Платона и с трепетом слушал каждое его слово. Дед верил в нашу победу. Он был для меня живым и грозным голосом нашего мужественного народа"...
Пересказать "Ночь перед боем" так же трудно, как трудно пересказать стихи. Мы сразу сдали рассказ в набор. Вскоре была верстка – "стояк" на четыре полных колонки. Вместе с Довженко, стоя у моей конторки, мы вычитывали слово за словом, строчку за строчкой весь текст. Я спросил Александра Петровича, где он встречал этих дедов.
– Это сама жизнь, – объяснил он.
– Коли так, – сказал я, – может, снимем подзаголовок "рассказ". Пусть его читают как очерк, как документ.
– Да, так, пожалуй, будет лучше, – согласился Довженко.
Когда верстка была вычитана, я вызвал Мишу Головина, который параллельно с нами читал полосу. У него, опытного и придирчивого стилиста, оказалось несколько небольших поправок. Когда мы их согласовали, Головин как бы между делом заметил:
– Горько будет нашему бойцу читать это...
Я навсегда запомнил неожиданный, полный философского смысла ответ Александра Петровича:
– Лучше горькая правда, чем сладкая ложь и даже сладенькая полуправда. Одна учит, а другая утешает...
Довженко был тысячу раз прав! Хотя в рассказе действительно немало горести, но каждая его строка звала в бой, укрепляла душу.
1 августа газета напечатала "Ночь перед боем". И в тот же вечер в редакцию позвонил секретарь ЦК партии. Он спросил: "Где Довженко? Передайте ему благодарность Сталина за очерк. Он сказал народу, армии то, что теперь надо сказать".
В армии с волнением читали "Ночь перед боем". Люди связывали сюжет рассказа с идеей приказа № 227. Но только мы знали, что Довженко задумал и написал рассказ, когда еще не было этого приказа. Просто писатель был на войне, видел, что происходит, и мужественно рассказал обо всем, ничего не утаивая и не смягчая.
* * *
Из поездки на фронт возвратился Константин Симонов и вручил мне очерк "В башкирской дивизии". Сказал, что напишет еще два очерка. А на второй день принес не очерк, а стихи "Безымянное поле". Это стихотворение он начал писать, прочитав приказ № 227, еще в пути. Первые беспощадные, горькие строфы стихотворения были созвучны приказу, как бы дополняли его еще одним мотивом – голосом погибших воинов:
Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.
Мы мертвым глаза не закрыли,
Придется нам вдовам сказать,
Что мы не успели, забыли
Последнюю дочесть отдать.
Не в честных солдатских могилах
Лежат они прямо в пыли.
Но, мертвых отдав поруганью,
Зато мы – живыми пришли!..
Но за этими строками – неожиданный поворот темы: поэт словно бы вступил в спор с приказом. Он взял под защиту солдата, которого, как сказано в приказе, население страны якобы «проклинает... за то, что он отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей»:
Ты, кажется, слушать не можешь?
Ты руку занос надо мной...
За слов мою страшную горечь
Прости мне, товарищ, родной.
Прости мне мои оскорбленья,
Я с горя тебе их сказал,
Я знаю, ты рядом со мною
Сто раз свою грудь подставлял.
Я знаю, ты пуль не боялся,
И жизнь, что дала тебе мать,
Берег ты с мужскою надеждой
Ее подороже отдать.
Ты, верно, в сорочке родился,
Что все еще жив до сих пор,
И смерть тебе меньшею мукой
Казалась, чем этот позор...
Не успел я дочитать эти строки, как Симонов стал объяснять. «Безымянное поле» было рождено потрясением, которое он, как и все мы, вся армия, испытал, прочитав приказ № 227. А этими строфами он не собирался оспаривать приказ, наоборот: это – суд над самим собой.
Было в приказе № 227 беспощадное требование: "Паникеры и трусы должны истребляться на месте". Однако в жизни в те боевые дни было вовсе не так. Задача борьбы с трусами и паникерами решалась по-другому. Им давали возможность загладить свою вину в штрафных подразделениях, на передовой, в огне боя, своей кровью, так сказать, искупить свою вину. Было именно так, как писал Александр Твардовский в своих стихах "Отречение", которые он сегодня принес в "Красную звезду" и которые сразу же были опубликованы:
И на глазах друзей-бойцов,
К тебе презренья полных,
Свой приговор, Иван Кравцов,
Ты выслушай безмолвно.
Как честь, прими тот приговор.
И стой. И будь, как воин,
Хотя б в тот миг, как залп в упор
Покончит счет с тобою...
А может быть, еще тот суд
Свой приговор отложит.
И вновь ружье тебе дадут.
Доверят вновь. Быть может.
И как правило, уходили штрафники в бой, многие сражались мужественно, восстанавливая доверие народа, боевых товарищей, которое под огнем значило не меньше, чем жизнь...
* * *
На первой полосе сегодняшнего номера газеты опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского. О том, что такой Указ будет, я знал. И к этому событию мы готовились. Прежде всего, заказали военным историкам очерки о русских полководцах. Авторы обещали принести их дней через десять. Но вот за два дня до получения Указа позвонил автор очерка об Александре Невском и сказал, что материал он еще не освоил, ему нужно дополнительное время.
Как раз в эти дни с Северо-Кавказского фронта в Москву вернулся Петр Павленко. Зашел ко мне. Я ему и говорю:
– Ты киноповесть об Александре Невском писал?
– Писал!
– В "Красной звезде" подписывал свои очерки псевдонимом А. Невский?
– Подписывал! Было дело, а что?
– Надо тебе Невского отработать.
– То есть как "отработать"?
Я рассказал о нашем проколе с очерком об Александре Невском и попросил написать этот очерк в самом срочном порядке. Дня за два, не больше.
Павленко сел за работу. Ровно через два дня принес очерк, и мы успели напечатать его в сегодняшнем номере "Красной звезды". Жаль, конечно, что пришлось начать не с очерков о Суворове и Кутузове: их мы получили позже. Однако жалеть, что мы заменили автора, не пришлось. Павленко написал такой яркий очерк, с таким знанием материала, что любой историк мог бы ему позавидовать!
В связи с учреждением орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского вот что хотелось отметить. Обстановка на фронте тяжелейшая. Армия отступает и отступает. И вдруг приказ о полководческих орденах! По статуту орденом Суворова, например, "награждаются командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне". То же в отношении орденов Кутузова и Александра Невского.
И вот законный вопрос: можно ли без несокрушимой веры в победу в дни тяжелейших поражений учреждать такие, можно сказать, победные ордена? В этом Указе – незыблемая уверенность в нашей окончательной победе над врагом! Так это и было тогда воспринято в стране и на фронте.
Второй фронт! Теперь уже яснее ясного, что США и Великобритания уклоняются от взятых на себя обязательств, затягивают его открытие. Не раз мы порывались сказать об этом на страницах газеты. Особенно "неистовствовал" Илья Эренбург: эта тема была, так сказать, его прерогативой. Но его статьи, где он то прямолинейно, то косвенно подвергал критике наших союзников, неизменно снимались. Нам говорили: "Не будем дразнить гусей, обождем..."
И вот опять Илья Григорьевич принес статью, где приводит слова немецкого летчика, попавшего в плен: "У нас никто не принимает всерьез разговоров о втором фронте. Не потому, что второй фронт не опасен для Германии, напротив, он очень опасен, но потому, что никто больше не верит, что англичане действительно хотят помочь своему союзнику". "Можно, конечно, – комментирует писатель, – с полным равнодушием отнестись к рассуждениям немецкого летчика. Однако последние события показывают, что германское командование рассуждает, как этот пленный: продолжается переброска немецких дивизий из Франции в Россию".
Это – на той стороне, а как у нас, на фронте? "Где же второй фронт?" спрашивают бойцы Красной Армии. Они видят перед собой одно: немецкие дивизии, переброшенные из Франции..." Кстати, немецкие пропагандисты засыпают наши войска листовками, в которых вещают: "Союзники вас обманут".
Особенно резкой критике писатель подверг объяснение американцев и англичан о затяжке второго фронта: мы, мол, не хотим предпринимать ничего необдуманного; нам надо все подсчитать, все взвесить. Эренбург напоминает, что война без жертв не бывает: "Не теряя ничего, нельзя все обрести..."
Хорошая, важная, считали мы, статья. Послали ее наркому иностранных дел В. М. Молотову. Буквально через час нарком позвонил и сказал:
– Печатать обождите. Еще не пришло время. Сами вам скажем...
Но статья не "погибла". Эренбург через Совинформбюро послал ее в Англию и там ее опубликовали...
Август
5 августа
В сводках Совинформбюро ничего утешительного: бои идут в районе Клетской, Цимлянской, Сальска и Кущевской. Сообщения наших корреспондентов и того хуже: оставлено Котельниково, прямая угроза нависла над Армавиром. Почти в каждом репортаже тревожные сигналы: «Противник все время подбрасывает резервы», «Численное превосходство на стороне врага». И даже рассказывая об успешных контратаках в районе Сальска, наш спецкор Черных указывает: «Однако положение на юге тяжелое...»
Более подробно обстановку на фронте я узнавал из "частных" писем корреспондентов. Вот что писал, например, Высокоостровский:
"Южнее Клетской бои идут недалеко от Дона. Но немцы пока не могут овладеть берегом. Серьезным стало вчера положение восточней Цимлянской. Немцы захватили Котельниково и распространяются на северо-восток... Думаю, что о Сталинграде могут заговорить во весь голос..."
В другом письме, полученном сегодня, он сообщает:
"Вчера произошел крупный танковый встречный бой в 70 км юго-западнее Сталинграда. Даю корреспонденцию, описывающую этот бой. Район, в котором произошел бой и где он еще продолжается. Информбюро называет районом Котельниково. Однако это уже на полпути от Котельникова до Сталинграда. Сообщаю для того, чтобы редакция смогла сориентироваться в случае смены названия района Информбюро..."
На этом же листке Высокоостровский нарисовал схему района боев.
Кстати, отвечая на мои упреки, почему запаздывает материал, корреспондент объяснил: "Каждый день даем информацию, но очень плохо со связью. Телеграф работает редко. Часто информация и даже оперативные документы штаба идут самолетом. Многие ваши телеграммы из Москвы тоже получаем самолетом в оригинале".
Теперь все понятно. Наши войска отступают, и вместе с ними передвигаются штаб фронта, управления, узел связи...
Исчез со страниц газеты Юго-Западный фронт. Мы-то знаем, в чем дело. 12 июля, после Харьковского сражения, он был расформирован. В связи с угрозой Сталинграду Ставка образовала Сталинградский фронт, но об этом в открытой печати сообщений нет. Все материалы, поступающие с нового фронта, пока обозначаем "Действующая армия" – так, как это было в первые месяцы войны. Вскоре, однако, в газете появится и название нового фронта.
Горькие, тревожные дни! Я покривил бы душой, если бы сказал, что никто не испытывал чувства растерянности. И все же в стране и армии ни на минуту не угасала вера, что мы выстоим. Широкие массы не знали и не могли знать все, что предпринимается Ставкой Верховного Главнокомандования, чтобы задержать, остановить врага. А в сообщениях Совинформбюро – только удручающие вести. "Красная звезда", считали мы, обязана была во весь голос сказать, что нельзя вешать голову, причем сказать честно, правдиво, не скрывая трудностей и опасностей, что надо крепить веру в наши силы, в мудрость и волю партии, в окончательную победу над врагом.
Здесь уместно привести слова Виктора Гюго: "Отчаяться – все равно что бежать с поля боя". Выло горько, тревожно, но отчаяния не было! Было желание во что бы то ни стало устоять перед натиском врага, нанести ему такой удар, который подорвет его наступательные действия.
Илья Эренбург сказал об этом с огромной эмоциональной силой в статье "Помни!": "Если кто-нибудь тебе скажет, что немец победит, плюнь ему в глаза: это трус, это человек, рожденный для рабства, это не человек – это немецкая пешка..."
* * *
Немецко-фашистские войска наступают, продвигаясь вперед к Сталинграду и Кавказу. Но каждый шаг стоит им больших потерь. В этих сражениях наши войска перемалывают живую силу и технику врага. Нет почти ни одного репортажа спецкоров, где бы об этом не шла речь. Вот, к примеру, сообщение Коротеева из Воронежа о разгроме 75-й немецкой дивизии. Он назвал цифры убитых немецких солдат и офицеров – свыше шести тысяч! Быть может, это число преувеличено. Но потери враг несет немалые.
А вот через день мы получили корреспонденцию спецкора Лильина, в которой даны подробности разгрома 75-й дивизии противника. Умелый маневр, мощная контратака, геройство и самоотверженность – вот что принесло успех нашим частям. О доблести советских воинов говорит хотя бы такой факт. Командир полка был дважды ранен, но не ушел с поля боя. Остался в строю и дважды раненный комиссар полка...
Да, каждый день сражений рождал героев. И не одиночек! Героизм был поистине массовым. Далеко не обо всех газета была в силах рассказать. Сообщали лишь о самом значительном и ярком.
В этой связи упомяну корреспонденцию Высокоостровского о подвиге воинов 33-й гвардейской дивизии, которой командует полковник А. Утвенко. Это имя уже было нам хорошо знакомо: оно не раз появлялось на страницах газеты. Полк, которым командовал Утвенко, отличился в августе 1941 года в Смоленском сражении. Отличился он и при разгроме войсками Жукова ельнинской группировки противника в том же году. Жуков заметил этого широкоплечего, круглолицего, с украинским говорком боевого офицера. Сразу же после Ельнинского сражения ему, тогда майору, было – через ступеньку – присвоено звание полковника, такое в армии бывало очень редко. А вскоре он был назначен командиром дивизии. С Утвенко мы с Симоновым вскоре встретимся в Сталинграде. А Симонов с ним подружится, впечатления от встреч с Утвенко он использует, работая над книгой "Дни и ночи". "...В последнее время я работал над романом о войне, писал Симонов ему позже. – Должен тебе сказать, что в романе, хотя и нет прямых фотографий, но в значительной степени участвуешь ты и некоторые из твоей части, как прообразы героев романа..." А теперь Утвенко воюет в районе разъезда "74", на пути от Котельникова до Сталинграда. Воюет хорошо, инициативно, как говорится, с умом. Можно сказать, что эти бои тоже были немеркнущей страницей Сталинградской битвы.
* * *
В последние дни все чаще появляются сообщения о боевых действиях донских и кубанских казаков, об их стойкости, упорстве, отваге. Об этом, решили мы, надо рассказать подробнее. Срочно вызвали из Тулы Павла Трояновского, где он работал в 50-й армии Западного фронта. Разговор был короткий:
– Павел, вы долго еще собираетесь сидеть в Туле?
– Согласно приказу, – лукаво ответил он, сообразив сразу, к чему вопрос. – Сижу в Туле, а сам гляжу на юг.
– Вот как раз там вы нужны. Там хорошо воюют казаки. Поезжайте к ним и напишите. Через три дня жду первый материал.
Точно в назначенный срок пришла его корреспонденция о боевых действиях, правильнее сказать – о подвиге казачьей дивизии Тутаринова. Но мы напечатали не корреспонденцию, а передовую, в которую почти полностью вошел материал Трояновского. А сделано это было для того, чтобы придать большее значение тому примеру стойкости и упорства, которые являли собой боевые действия дивизии. Передовую мы так и назвали: "Пример упорной и стойкой борьбы". В ней говорилось:
"Дивизия, которой командует Тугаринов, оборонялась так, что временами трудно было понять, кто же наступает на этом участке фронта – казаки или немцы".
Заключалась передовица фразой:
"Боевой опыт наших передовых соединений учит: стойкость, порядок, железная дисциплина – вот подлинно непреодолимая преграда для врага".
Именно этого и требовал от армии приказ № 227. И действия казаков были впечатляющим примером того, как надо его выполнять.
* * *
Очерки, которые привез Симонов, и были написаны о тех воинах, которые в дни наших неудач и поражений, в труднейшей обстановке показывали образец воинского умения, самоотверженности и, что особенно важно, стойкости. Писатель видел героев в деле на Дону. Правда, он скромно назвал привезенные материалы корреспонденциями, но это были глубокие, психологически точные очерки. Точные! В те дни это было особенно важно.
Первый из них, уже упоминавшийся, назывался "В Башкирской дивизии". Второй – "Воля командира" – опубликован в сегодняшнем номере. Это рассказ о подвиге лейтенанта Василия Козлова. Оказавшись в тылу врага со своим спешенным эскадроном в почти безвыходном положении, он пристроился позади немецкой цепи и бесшумно двигался за ней в высокой ржи. А когда приблизился к нашей передовой, Козлов скосил немецкую цепь пулеметом и почти без потерь вышел к своим.
В третьем очерке – "Единоборство", который он сегодня положил на мой стол, тоже необычайная история. В одном из полков Симонов встретил молодого алтайского парня из Ойрот-Туры, командира батареи 76-миллиметровых пушек лейтенанта Илью Шуклина. Сидел с ним за котелком супа из молодой картошки и подробно расспрашивал о том, как его батарея подбила во вчерашнем бою 14 немецких танков. Свои пушки он поставил на прямую наводку, а сам, сидя верхом на коне, корректировал огонь; писателю он объяснил, что выбрал такой "наблюдательный пункт" потому, что здесь, в степи, "сверху видней танки".
Прочел я очерк и хотел отправить в набор. Но Симонов придержал меня:
– Слушай! Шуклин молодой, замечательный и скромный парень. Беседовали мы с ним долго, и не только о бое, товарищах, но и вообще о жизни. Он попросил, если возможно, передать от него солдатский привет отцу и матери, а также девушке... Не возражаешь, если я вставлю это в корреспонденцию?
– А чего возражать? Ведь ты это делаешь не впервые...
Такой случай с Симоновым действительно был – в осажденной Одессе, куда он выезжал в командировку вместе с фоторепортером Яковом Халипом в августе прошлого года. Там они встретились с командиром батареи капитаном А. Деннинбургом. Во время беседы комбат сказал:
– Воюют три моих брата и сестра. Вся семья, можно сказать, на фронте.
И шутки ради обронил такую фразу:
– Вы, газетчики, все можете. Вот написали бы в газете: мол, так и так, воюет под Одессой командир Деннинбург и передает боевой привет родным и друзьям, особенно жене Таисии Федоровне и сыну Алексею...
Симонов выполнил эту просьбу – привел слова Деннинбурга в корреспонденции, добавив от себя: "И на его обветренном лице появляется застенчивая, грустная улыбка человека, давно не видевшего свою семью". У какого редактора поднялась бы рука вычеркнуть этот абзац? Не вычеркнул его я, хотя он как будто прямого отношения к обороне Одессы не имел. Много лет спустя мы узнали, что привет, посланный через газету из осажденной Одессы, все-таки дошел до жены артиллериста и доставил ей, а также сыну несказанную радость...
А теперь Симонов дописал и в этом донском очерке такие строки:
"А потом, задумавшись, он (Шуклин. – Д. О.) вдруг начинает вспоминать о событиях совсем недавних, не имеющих отношения к войне, – о матери и отце, живущих в далеком городе Ойрот-Тура, о товарищах-комсомольцах из города Ойрот-Тура, где он был членом бюро райкома комсомола, и о девушке Вале Некрасовой, которая уехала на Дальний Восток в военно-морской флот и последнее письмо прислала с дороги, из Новосибирска.
И мне хочется, чтобы, прочитав этот номер газеты, отец и мать Шуклина были горды своим сыном, чтобы комсомольцы Ойрот-Туры вспомнили своего товарища, на которого им нужно быть похожими, и чтобы девушка Валя Некрасова знала, что ее любит настоящий, хороший человек с верным глазом и крепкой рукой солдата".
Хорошо поработал Темин. К очерку "Единоборство" дано его фото. Подпись: "На Дону. Артиллеристы, уничтожившие 14 немецких танков. В первом ряду (слева направо): командир батареи лейтенант И. Шуклин, красноармейцы Ю. Каюмов, Н. Лончаков. Второй ряд: М. Панин, В. Шлонов и К. Вяткин". Очень симпатичные, совсем молодые ребята во главе со своим командиром с озорными мальчишескими глазами.