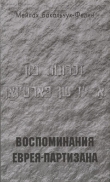Текст книги "Мемуары везучего еврея. Итальянская история"
Автор книги: Дан Сегре
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Я спросил, почему образок понимает только по-пьемонтски. Она рассмеялась и объяснила мне, что такие святые, как Антоний Падуанский, понимают все языки, даже если они никогда их не учили, ну в точности как Иисус. Это последнее имя было мне знакомо, поскольку я слышал, как его время от времени произносили в нашем доме приглушенным голосом, точно это был обанкротившийся родственник. Я подумал, что пришло время прояснить картину. Аннета выглядела смущенной до крайности. Она объяснила, что Иисус был Божьим сыном, что много лет назад его распяли римляне вследствие предательства его ученика Иуды, что он умер на кресте, а потом воскрес и что от него зависит спасение рода людского. «И даже тех, кто не знает о его существовании?» – спросил я. «Разумеется», – ответила Аннета. В этот момент, раскрасневшись и слегка вспотев, она сняла со стены черное с серебром распятие и дала мне поцеловать его. Это показалось мне странным, но отнюдь не отталкивающим, так как распятие имело сильный привкус лакрицы. Но не Аннета побудила мою мать к крещению. Ее обращение в католицизм было результатом драматических событий времен Первой мировой войны и моего отбытия в Палестину в 1939 году.
Мамина сестра, воспитывавшаяся, как и она, в монастырской школе, крестилась – я думаю, в 1908-м или 1909 году – после долгой борьбы с семьей. В отличие от моей матери, послушной и склонной к мистицизму, тетка обладала беспокойным и агрессивным нравом. Еще будучи совсем молоденькой девушкой, она страстно влюбилась в туринского адвоката, ярого католика, принадлежавшего к аристократической семье. Насчет его происхождения бродили различные ложные слухи, вызванные частично завистью, частично его резким, как внешним, так и психологическим, отличием от двух его братьев. Один из них, известный врач, жил, окруженный атмосферой святости, другой поднялся до высших ступеней иерархии итальянского военного флота. Когда адвокат встретил мою тетку, никто из его семьи еще не успел прославиться. Этот факт, разумеется, вовсе не способствовал согласию родителей на брак их дочери. Их противодействие только усилило ее страсть. Тетка угрожала покончить с собой или удрать с любовником – угроза вполне естественная в буржуазной романтической атмосфере того времени. Вторая возможность была бы еще более позорной для семьи, чем самоубийство, поэтому после смерти моего деда разрешение было дано. Моя тетка крестилась и вышла замуж, а вхождение в семью дяди-христианина сделало внутрисемейные отношения еще более сложными, чем прежде.
Этот матримониально приобретенный дядя был длинным, тощим и страдал от частых приступов ревматизма. Строгий и властный, как подобает его профессии, он не испытывал излишней симпатии к евреям. После убийства Маттеотти [12]12
Джакомо Маттеотти (1885–1924), итальянский политик, социалист. В 1924 г., выступая в итальянском парламенте, обвинил фашистскую партию в фальсификации парламентских выборов и через несколько дней после этого был похищен и убит.
[Закрыть]он открыто порвал с фашистской партией, которую вначале поддерживал: жест, свидетельствующий как о его политической дальновидности, так и о его крепких моральных устоях. Он определенно не был антисемитом, но для него буржуазно-утилитарный конформизм, развившийся в моей семье по отношению к режиму Муссолини, делало «определенный тип евреев» (по его выражению) невыносимым. Я слишком мало был с ним знаком, не отдавал себе отчета в наших внутрисемейных интригах и не мог высказывать своего мнения о тех суждениях в его адрес, которые я часто слышал вокруг. Его длинное скуластое лицо, агрессия в голосе, которую он часто использовал, чтобы подчеркнуть свою мысль, делали его малопривлекательным. Я его боялся. Перед отъездом в Палестину я пришел к нему попрощаться. Он позволил себе неприятное высказывание в адрес евреев, и это послужило мне основанием порвать с ним, что было несправедливо. После войны он дал мне знать, что хочет встретиться со мной и уладить все недоразумения. Я отказался и был явно не прав. Один из первых пьемонтских интеллектуалов, примкнувших к фашистской партии, и один из первых, кто вернул свой партбилет – поступок решительный и нехарактерный для людей его положения, – он мог бы просветить меня по поводу многих политических и семейных вопросов, на которые я не мог найти ответа в семейных архивах. Но было нечто иное, о чем я узнал только по возвращении из Палестины и из-за чего между нами возник барьер: дядя сыграл важную роль в жизни моей матери.
К моменту, когда вспыхнула Первая мировая война, отец оказался освобожденным от воинской службы и как мэр, и как первенец овдовевшей матери. Сыновний долг не позволил ему в свое время осуществить желание учиться в военной академии. В 1916 году, через полгода после вступления Италии в войну, для него, ярого националиста, проповедующего участие в боевых действиях, было невозможно оставаться дома. Он чувствовал себя пристыженным всякий раз, когда должен был принести в дома поселка известия о смерти близких, известия, поступавшие все чаще и чаще. Событием, побудившим его пойти наконец на фронт добровольцем, оказалась смерть его любимого коня. Когда началась война, армия реквизировала лошадей. Одна за другой они покидали конюшню и отправлялись на фронт, ухоженные, послушные, полные энергии: сначала серая кобыла, на которой отец выезжал на охоту, потом Байар и Арлекин, пара рысаков, запрягавшихся в ландо. Остался только Мавр, замечательный шестилетний вороной мерин, родившийся и выращенный в нашей конюшне. Моему отцу удалось записать его рабочей лошадью, хотя Мавр не тащил за собой ни бороны, ни плуга. Никогда я не мог понять, почему армии, застрявшей в траншеях, понадобилось так много верховых лошадей. Как бы то ни было, все три первые отцовские лошади были отправлены на фронт, и вскоре пришли открытки, извещавшие об их смерти. Каждый раз какой-то офицер, романтик или меланхолик, посылал моему отцу выражение сочувствия, подобающее скорее по отношению к погибшим людям, чем к животным. Но в тот первый год крестьяне, заполнившие окопы, немного значили. Италия, разжиревшая за сорок лет мира, нуждалась, похоже, в хорошем, по выражению Черчилля, кровопускании.
В начале 1916-го пришли за Мавром. Перед тем как распрощаться со своим любимцем, отец его сфотографировал. Фотография головы, увеличенная до натуральных размеров, была заключена в раму и повешена на месте Мавра в теперь уже пустой конюшне. Позже ее перенесли в мансарду. Под стеклом пожелтевшей от времени фотографии вставлена военная открытка, датированная двенадцатым апреля и подписанная неким полковником Де Паоли из кавалерийского эскадрона. «Прославленный юрист! – писал он. – С глубоким сожалением сообщаю Вам о том, что Мавр пал смертью храбрых. Разорвавшаяся граната убила его, семерых солдат и старшего сержанта. Мавр был храбрым и верным животным и служил на благо Родине. Пожалуйста, примите заверения в моей самой искренней симпатии». Через три недели отец записался добровольцем в ближайшем призывном участке.
Отец был невысок, поэтому его записали в пехоту. Несколько недель он отслужил рядовым солдатом, а потом начальство выяснило, что у него университетский диплом, и отца послали на офицерские курсы, а оттуда прямо на фронт. Как и многие другие, он молча переносил тяготы окопной жизни, веря в то, что он выполняет свой моральный и исторический долг. У меня нет никаких его писем того периода: вернувшись с фронта, он уничтожил их. Сомневаюсь, что он вел там дневник, как это делали некоторые из его кузенов. Я благодарен отцу за его скромность; сегодня, когда я читаю письма некоторых своих родственников, нашедшие путь в прессу, мне становится крайне неловко за их слащавую банальность, вымученный романтизм и кроющуюся за напыщенными фразами духовную пустоту людей, которых я уважал и чьим гостеприимством часто пользовался. Еще задолго до принятия фашистских расистских законов этот стиль демонстрировал пустоту гражданской морали, свойственную поколению евреев, которые потеряли как прогрессивные социальные убеждения, так и подлинную религиозную и культурную веру. Яркая вспышка патриотизма привела итальянское еврейство к участию со всем пылом в Рисорджименто и заставила их верить, что национализм представляет собой героический эпилог столетий дискриминации. С достижением политического объединения Италии это пламя погасло. Только в школьных учебниках новая Италия осталась эпической и чистой страной Мадзини [13]13
Джузеппе Мадзини (1805–1872), итальянский патриот, писатель, философ и революционер. Посвятил свою жизнь идее объединения Италии, за что его называли «душой Италии».
[Закрыть], Гарибальди и Кавура [14]14
Камилло Бенсо ди Кавур (1810–1861), граф, итальянский политический деятель, премьер-министр Сардинского королевства, сыгравший огромную роль в объединении Италии. В 1861 г. стал первым премьер-министром объединенной Италии, но вскоре скончался.
[Закрыть]; на практике новое государство оказалось дезорганизованным и переполненным крупными аферами и финансовыми скандалами. Евреи, недавние пришельцы, были меньшими оппортунистами, чем прочие, благодаря своему нежеланию демонстрировать богатства, нажитые в эпоху огромных возможностей, открывшихся для высших итальянских финансовых кругов. Моя семья, по крайней мере, хотя и отошла от тысячелетних еврейских традиций, продолжала придерживаться стиля жизни, объединяющего идеалы Рисорджименто с древними еврейскими принципами дисциплины. Тем не менее я убежден, что во время войны у большинства из моих родственников чувство еврейской идентичности превалировало над прочими. В случае моего отца это определенно так и было; среди книг его библиотеки я нашел одну сильно потрепанную, с пятнами грязи и пота, всю в карандашных пометках, что свидетельствует о том, что книгу отец держал на своем теле. Это была одна из тех книг, посредством которых итальянские раввины того времени надеялись спасти иудаизм при помощи лингвистических трюков. Идея состояла в возрождении древнееврейского языка с помощью прямого перевода на итальянский. В той отцовской книге каждое слово молитв, написанное еврейскими буквами, было отделено от последующего вертикальной черточкой, и под каждым словом, между разделительными черточками, давалось его итальянское значение. Как можно было молиться по такому тексту, остается выше моего понимания, потому что, в отличие от итальянского, на иврите пишут справа налево. Слова перевода не только втиснуты между черточками, но и следуют одно за другим в неправильном порядке. Они напоминают строй муравьев, касающихся друг друга передними лапками; получается визуальное и смысловое несоответствие, в результате которого текст выглядит так, как будто он написан для умственно отсталых заик. Но каждая страница этого молитвенника была прокомментирована на полях моим отцом, и многие слова были подчеркнуты, как ни в одной другой книге его библиотеки. Я часто представляю себе, как отец сидит на камне в сырой грязи траншеи, ожидает атаку или проверяет амуницию, и ищет опоры для мужества и надежды в этой магии, образованной смесью латинских и еврейских букв. Эти странно написанные слова потеряли свое первоначальное значение, и даже если кое-что и сохранилось, все равно перевод разрушил принадлежавший им ритм. Но для отца, в тех обстоятельствах, они должны были превратиться в мистическую связь с древним и удаленным миром, о котором он ничего не знал. Лицом к лицу с процессом самоубийства еврейской цивилизации в безумной войне, которую он проповедовал, цивилизация его предков казалась крепче и достойнее доверия. Одно совершенно точно: в Йом Кипур 1916 года мой отец категорически отверг все попытки своих однополчан заставить его есть или пить перед тем, как повести свой взвод в одну из бесполезных смертельных атак. Много раз он рассказывал мне о том страшном дне. Тридцать человек пошло в атаку, только шесть из них вернулось. Счастливый жребий принес ему короткий отпуск. Он поспешил домой и там узнал, что моя мать решила перейти в католичество. Только после моего возвращения из Палестины в 1945 году отец рассказал мне всю историю ее первой попытки крещения, о которой у меня были до того лишь обрывочные сведения.
Изумленный тем, что остался жив, отец отправился в ближайший к фронту город, чтобы отмыться от вшей, и послал моей матери длинную восторженную телеграмму, извещающую о его скором прибытии. Поэтому он был крайне удивлен, не увидев ее на железнодорожной станции. Его кузнец, слишком старый, чтобы быть мобилизованным, ждал его с шарабаном. Этот кузнец, которого звали Карлин, родился и вырос на одной из наших ферм. Он считал себя – впрочем, как и мы считали его – членом нашей семьи. Отец с тревогой спросил его о здоровье своей жены, но Карлин не мог дать удовлетворительного ответа. Он продолжал повторять, что Мадамин выглядела на протяжении последних месяцев несколько возбужденной, что ее часто видели в обществе Аннеты, что она долгими часами молилась в церкви о своем муже. Поселковый чиновник показал ему газету, где описывался героизм взвода, которым командовал отец, и его страшные потери. Действительно, это должен был быть ужасный день. Очевидно, молитвы Мадамин помогли ему вернуться невредимым. Она делала добрые дела, помогала беженцам, жертвовала много денег местным неимущим и проводила целые вечера за шитьем вместе с монахинями сиротского монастыря. Отец знал о религиозных наклонностях жены, но не мог себе представить, что вместо теплой встречи, причитающейся вернувшемуся домой солдату, она, полная напряженного волнения, объявит ему о своем решении перейти в католичество. Никогда в жизни он не испытывал такой жуткой боли. Отец не пытался спорить с любимой женщиной. Уязвленный в своей мужской и еврейской гордости, он заперся в библиотеке на целые сутки, отказываясь, к ужасу Аннеты, есть в столовой и принимать друзей и фермеров, пришедших приветствовать его. Когда он велел старому садовнику поспешить за местным священником, по поселку пополз слух, что в нашем доме произошло нечто весьма серьезное.
Священник, старый друг семьи, с которым отец провел немало вечеров за шахматами и вином, был единственным в поселке человеком, до сих пор еще не пришедшим приветствовать офицера, который вернулся с фронта. Мой отец полностью доверял ему и быстро понял, что священник ожидал, чтобы его позвали. На вопрос о том, что произошло за время отсутствия отца, священник рассказал ему в деталях все необходимое.
Когда отец ушел на фронт, деревенская жизнь стала для моей матери еще скучнее. Помощь беженцам, вязание жилетов, теплых шапок и шарфов для солдат, мерзнувших с траншеях, – всего этого было недостаточно, чтобы заполнить день женщины, мечтавшей о чем-то ином, более красивом и значительном. Война, эта нескончаемая бойня, принесла в каждую семью поселка, члены которой были на фронте, не только ощущение страха, мучительной боли, но еще и злость и протест против тех, кто проповедовал эту войну и теперь был более презираем, чем рабочие, оставшиеся дома. Кроме того, в этой войне, в отличие от войн Рисорджименто, у евреев не было особых интересов, которые нужно было защищать. На национальной политической арене больше не было ни мэра Рима Натана [15]15
Эрнесто Натан (1848–1921), уроженец Лондона, сын еврейских родителей, с юных лет жил в Италии, принимал активное участие в Рисорджименто. В 1889 г. был избран в Городской совет Рима, а с 1907 до 1913 г. был мэром Рима. Внес большой вклад в развитие города, в частности его системы светского образования.
[Закрыть], прятавшего Мадзини в своем доме, ни Артома [16]16
Эмануэле Артом (1915–1944), итальянский еврей, историк. Примкнув к партизанам, он участвовал в целом ряде опасных операций. В марте 1944 г. был схвачен и в апреле умер от пыток.
[Закрыть], трудившегося в качестве личного секретаря графа Кавура над объединением Италии, ни Оттоленги [17]17
Джузеппе Оттоленги (1838–1904), крупный итальянский политический деятель, министр обороны Италии.
[Закрыть], который служил офицером в армии Гарибальди, а потом был награжден портфелем военного министра.
Еврейская община, в любом случае чуждая моей матери, не могла в те дни многого предложить своим членам. Синагога, имитируя церковь всеми возможными способами, ввела, к примеру, органную музыку во время субботней и праздничной служб и вырядила своих раввинов в нелепую черную, похожую на рясу одежду и шестиугольные шапки. Патриотическое разглагольствование раввинов с подиума синагог звучало менее убедительно, чем столь же патриотические проповеди священников в церквях. Еврею было гораздо труднее, чем христианину, представить себе еврейского солдата в противоположном лагере в качестве врага. Церковь с ее символами человеческой и божественной жертвенности предлагала послания любви и надежды, вполне подходящие менталитету христианских солдат. Синагога же не могла предоставить своим верующим ничего подобного. Раввины молились о возвращении в Сион, когда евреев призывали умирать за возвращение итальянских провинций, они прославляли Исход из Египта, когда миллионы людей знали, что не выйдут живьем из окопов. Война разъела моральные ценности, ослабила связи между различными классами общества и чувство взаимного уважения. Мой отец, добровольно избравший разделить с другими солдатами ужасы войны, получил хотя бы скудное вознаграждение: авторитет офицерской униформы, которую он смог наконец надеть, солидарность бойцов, уважение, вызываемое его фатализмом и отсутствием страха перед смертью, его веру в справедливость дела итальянского оружия, простота стоящего перед ним выбора – вернуть Италии Тренто и Триест или умереть. У матери же перед глазами стоял мир ее belle époque, разрушающийся в атмосфере все растущих вульгарности и социального беспорядка; постепенно исчезало то, на самом деле уже мертвое, аристократическое общество, к которому еврейский средний класс так стремился примкнуть – как, впрочем, и вся итальянская мелкая буржуазия.
Война, которую мать видела из тишины и спокойствия деревенской жизни, усилила ее желание – а точнее, нужду – пойти, скорее от скуки, чем из жажды приключений, за пределы «добра и зла». Она чувствовала себя захваченной волной слишком больших событий, не имея ни поддержки своей семьи, ни направляющего начала своей религии. В отчаянных поисках духовных ценностей, на которые можно было бы опереться, и возможностей чувствовать иначе она нашла в своем девере того, кто готов был слушать о ее сомнениях и дать спокойный беспристрастный совет. Освобожденный по неизвестной мне причине от воинской службы или, возможно, назначенный выполнять ее на месте, он часто посещал мою мать, привозил ей религиозные книги и познакомил ее с красноречивым монахом, одержимым желанием завоевать для христианства заблудшую еврейскую душу, склонную к религиозному энтузиазму. Наверное, этот монах воображал, что он действует подобно итальянским солдатам, которые захватывают на фронте австро-венгерские позиции. Он понял, что эта богатая и бездетная женщина, разлученная с мужем, который предпочел войну скуке деревенской жизни, ищет себя и хочет совершить некий экстраординарный поступок, соответствующий общей атмосфере героизма, созданной войной. Церковь привлекла мать литургией, полной музыки, живописью и литературой, полными жертвенности и страсти. Церковь предоставила моей матери возможность реализовать себя в рамках строгой конфиденциальной иерархии, гарантирующей понимание, душевное спокойствие и социальное одобрение.
Деревенский священник долго говорил с моим отцом. Он не скрывал, что его слабые попытки удержать, хотя бы временно, мою мать от неуместного (пока отец находился на фронте) поступка не увенчались успехом. Но что мог он, бедный деревенский священник, сделать против столь влиятельных и настойчивых людей? Кроме того, в подобных обстоятельствах его ряса накладывала определенные ограничения. Спасти душу, привести заблудшую овцу в церковь было его долгом, от которого он не мог отступиться. Однако дружба с моим отцом делала для него невозможным активное участие в этой миссии. Он сказал отцу, что провел немало бессонных ночей в метаниях между своим религиозным долгом и человеческими обязательствами. В конце концов он принял решение отстраниться от этого дела. Естественно, совесть не давала ему покоя. Но кто же мог жить спокойно, глядя на то, что творилось в мире в эти дни? Он закончил говорить с полными слез глазами. Он несколько раз высморкался в большой, красный, перепачканный носовой платок, потом пожал руку отцу и вернулся к себе, перекинувшись несколькими словами с Аннетой, которая с нетерпением ожидала новостей, чтобы хоть что-нибудь сообщить моей матери об этой встрече. Отец понял, что в подобных обстоятельствах ему ничего не удастся сделать. Он не мог надеяться убедить мать вернуться к ее древней вере, о которой он сам знал так мало. Не мог он и ожидать, что за время своего короткого отпуска ему удастся нейтрализовать многомесячный результат, которого добились настойчивые миссионеры. Не сказав жене ни слова, он вскочил в первый же поезд, идущий в Кунео, и попросил там встречи с епископом. Они не были друзьями, но знали друг друга достаточно хорошо, чтобы епископ сразу же его принял. В любом случае отец выглядел настолько решительным, что никто не посмел его удержать. В нескольких коротких, тщательно подобранных предложениях он изложил епископу суть дела. Он сказал, что должен вернуться на фронт, поэтому ему глубоко безразлично, каким образом умереть. Отец знал, что монах, который повадился навещать его жену, принадлежал к епархии этого епископа, и, если епископ не даст ему сию же минуту обещания, что ни один священник не получит разрешения крестить мою мать до окончания войны или до его смерти, если епископ не даст ему формальной гарантии, что ни этот монах, ни какой-либо священник не переступит порога его дома в его отсутствие, он найдет этого монаха и положит конец его жизни. Затем он решит, что делать дальше: покончить с собой, предстать перед судом или вернуться на фронт, чтобы быть убитым. Он уже сообщил об этих намерениях своему адвокату, причем в письменном виде, и приготовил коммюнике для прессы. А если епископ не исполнит его требование, то он позаботится о том, чтобы люди узнали, как церковь крадет души жен еврейских солдат, когда те вдали от своих домов воюют за Италию. Он дал епископу пять минут на размышление.
Выпрямившись, он достал из кармана часы. Это были золотые часы фирмы «Лонжин». На внутренней стороне крышки были выгравированы монограмма и профиль короля Виктора-Эммануила II. Часы эти достались отцу в наследство от его дяди, которому король презентовал их в благодарность за деликатные услуги, оказанные дядей «прекрасной Рози», морганатической супруге короля, пока та была еще его любовницей.
Часы, как отец сказал мне, показывали тогда десять минут одиннадцатого утра. Остановив взгляд на циферблате, мой отец стоял, ожидая ответа Святой матери-Церкви. Я не знаю, что произвело на епископа большее впечатление: сжатая в кулак ярость человека, который был одним из влиятельных людей провинции, или угроза скандала. Епископ попросил его присесть. Он велел принести очень крепкий кофе, предложил отцу тосканскую сигару из коробки, спрятанной в ящике письменного стола, – словом, попытался любым путем успокоить моего отца. Затем он пообещал сделать «все, что в его силах», и в присутствии отца приказал тому монаху явиться в его кабинет. Отец покинул епископский дворец не совсем уверенным в успехе, но убежденным, что он сделал максимум возможного. Мысль о возвращении на фронт казалась ему почти приятной. Смерть освободила бы его от мучительной ситуации, а конфликт с женой освобождал от страха перед возвращением в окопы.
Во время всего отпуска он не говорил с женой о религии и старался как только возможно насладиться отдыхом бойца. Отстраненное поведение человека, явно готовящегося к смерти, поколебало решение матери о крещении. Перед тем как отправиться на фронт, отец узнал от монахинь, что тому монаху запретили появляться у нас в деревне. Таким образом, крещение было отложено на целых двадцать лет, до той поры, когда вследствие фашистских законов 1938 года и моего отъезда в Палестину мою мать вновь потряс сильнейший религиозный кризис.
В это время другое событие помогло религиозному примирению между моими родителями: отец оказался под угрозой расстрела за измену родине. По возвращении в свою часть он был срочно вызван в генеральный штаб. Там ему сказали, что в личный секретариат короля требовался офицер-шифровальщик. Этот пост предложили отцу при условии, что он владеет машинописью. В течение всей ночи отец безостановочно тренировался на одном из этих странных новых предметов. На следующий день он успешно выдержал экзамен. Таким образом он из грязи окопов был переведен в роскошь венецианской виллы и мог иметь прямой контакт с королем и высшими командирами итальянской армии и армий Антанты. Возможно, что этот период тесного общения с «большими шишками», которого он так жаждал, способствовал его последующему примирению с фашизмом. Результатом этой службы шифровальщиком короля оказалась и ценная коллекция фотографий важных персон того времени. Я унаследовал эту коллекцию и при всякой возможности с восхищением рассматриваю ее, не уставая спрашивать себя, как эти явно умные и порядочные люди могли позволить такой бойне продолжаться в течение четырех лет. Перевод в штаб означал для моего отца и возможность забрать жену из нашего пьемонтского поместья и поселить ее в Удине, ближайшем к линии фронта городе. Он получил все необходимые для этого разрешения и выбрал для нее подходящую квартиру. Январской ночью 1917 года, как раз перед ее приездом, он должен был расшифровать срочное послание царя Николая королю Виктору-Эммануилу, в котором российский император извещал о наступлении русских на немецкие позиции. Ничего решающего – ни в стратегическом, ни в тактическом плане – в этом наступлении не было. Операция закончилась незначительным продвижением в районе Риги, в течение которого русские войска, истощенные войной и уже ослабленные революционной пропагандой, заняли несколько немецких позиций в болотистых местах близ Тиркуля. Но для Антанты, войска которой находились в тот момент под давлением армий противника, это были прекрасные новости. Мой отец расшифровал сообщение и сделал с него четыре копии, как это было положено в отношении особо секретных документов: для короля, для начальника генштаба, для некоего генерала Порро, чей тогдашний пост мне неизвестен, и одну копию для досье, к которому только мой отец имел доступ.
Я слышал эту историю столько раз, что помню каждую ее деталь наизусть. Это произошло четвертого января. В кафе на пьяцца дель Мерканти в Удине собралось порядочно офицеров. Военный корреспондент приблизился к русскому офицеру связи, хлопнул его по спине и заорал: «Наконец-то вы зашевелились!» Офицеры немедленно столпились вокруг корреспондента, тот удалился с загадочной улыбкой, а русский офицер побежал к себе, чтобы сообщить о случившемся. Вечером, когда мой отец трудился над расшифровкой очередного сообщения, к нему явились двое офицеров, сообщили ему, что он арестован, и немедленно доставили его к главнокомандующему, генералу Кадорне [18]18
Луиджи Кадорна (1850–1928), главнокомандующий итальянской армией с июля 1914 до ноября 1917 г., когда в результате поражения в битве при Капоретто был смещен. В 1924 г. Муссолини присвоил ему звание фельдмаршала.
[Закрыть], для расследования. Тот спросил, кому отец рассказал о содержании шифрованной телеграммы. Отец не понимал, что имеет в виду генерал, но в данной ситуации невозможно было представить, на кого еще могло пасть подозрение. Только четыре человека знали о содержании телеграммы, и никто не мог подозревать ни короля, ни двух генералов, поэтому подозрение, естественно, падало на обладателя четвертой копии, младшего офицера-дешифровщика. По стечению обстоятельств офицер военной полиции, одетый в штатское, находился в кафе и слышал, что сказал корреспондент. Он допросил его и выяснил, что тот вошел в кабинет генерала Порро, когда там никого не было. Бросив взгляд на бумаги, лежавшие на столе, он прочел царскую телеграмму и не удержался от того, чтобы пустить пыль в глаза. Тем не менее прошло более двух недель, прежде чем удалось это выяснить, и все это время мой отец находился под домашним арестом. Был сформирован военный трибунал, и угроза расстрела была реальной. Серьезными неприятностями грозил и поползший слух, что еврейский офицер совершил преступление. Евреи, до которых этот слух дошел (а до многих членов моей семьи, носивших в то время военную форму, он дошел моментально), решили, что готовится новое дело Дрейфуса. Мой дядя, брат отца, занимавший важный пост в генштабе, пришел навестить отца в сопровождении одного из ведущих адвокатов Италии.
Между тем мать прибыла в город, ничего не зная о случившемся, и была ошеломлена тем, что представлялось настоящей семейной – а возможно, и национальной – трагедией. Она слишком хорошо знала характер своего мужа, чтобы усомниться в его полной невиновности. Для нее было совершенно естественным в этот критический момент прийти ему на помощь, оказать моральную поддержку. Кроме того, волнения, связанные с этим происшествием, отвлекли ее внимание от религиозных проблем. Моя мать, следуя непонятной логике, связывала происходящее со своей попыткой крещения и чувствовала себя виновной в том, что случилось с ее мужем. Затем внезапно все обвинения с отца были сняты, ему принесли официальные извинения, и к нему вернулось доверие короля. Хеппи-энд был слишком похож на чудо, чтобы мои родители не стали рассматривать его как знак свыше. И здесь, в сонном провинциальном Удине, где много лет спустя я отпраздную бар мицву, моя мать пообещала отцу оставить свою мысль о перемене веры. Это обязательство она строго выполняла в течение двадцати с лишним лет, чему я и обязан фактом своего рождения и еврейского воспитания. Тем не менее, когда в 1938 году вышли фашистские антиеврейские законы [19]19
Италия приняла в 1938 г. антиеврейские законы, которые запрещали евреям государственную службу, службу в армии, членство в фашистской партии, браки с неевреями и ограничивали право евреев на собственность. Эти законы были отменены в 1943 г. с падением Муссолини.
[Закрыть]и мир вокруг моих родителей рухнул, мать снова оказалась в изоляции, неподготовленная к таким катаклизмам. Мой отъезд в Палестину, страну, которую она не могла даже найти на карте, послужил катализатором ее религиозного кризиса. Вдребезги разбился и мир отца, мир еврея, который верно служил Савойской династии, был фашистом и убежденным итальянским националистом. Он и сам чувствовал себя не очень уютно с теми немногими еврейскими обрядами, которые он до сих пор соблюдал. Не мог он объяснить себе и внезапное землетрясение, так жестоко потрясшее его вместе со всем европейским еврейством. Единственное, на что он мог рассчитывать, – это чувства любимой женщины. Он объяснил мне, что, если католическая вера могла успокоить ее в разгар такой катастрофы, у него не было ни права, ни желания противиться ее решению.
Однажды, когда отец был особенно откровенен со мной в этих сугубо личных делах, он рассказал мне, как он поступил в тот день, когда моя мать по совету своего исповедника совершила публичный акт отречения от иудаизма. Вся наша семья, не исключая и тех, кто уже успел втайне креститься, приняла это ее заявление весьма враждебно, назвав его предательством, усугубленным ненужным вынесением его на публику. Но мой отец предпочел послать ей в монастырь, куда она удалилась, готовясь к крещению, букет красных роз, такой же, какой он всегда подносил ей ко дню годовщины свадьбы. Затем он отправился в поле подрезать виноградники. Моя мать сохранила две розы из этого букета. Одну из них она попросила меня положить на гроб отца: она чувствовала себя не вправе следовать за ним на еврейское кладбище в Турине; вторую она взяла с собой в Израиль, куда после смерти отца она отправлялась каждую зиму – вместо Ривьеры. В Иерусалиме, где все было новым и странным для нее, она, похоже, обрела наконец душевный покой. По воскресеньям она ходила к мессе в монастырь, где большинство монахов были, как и она, крещеными евреями. С их помощью она начала учить иврит. Однажды вечером она преподнесла мне сюрприз, когда я застал ее обучающей моего сына тем же молитвам, которые отец читал мне у детской кровати. Она долгими часами гуляла по саду монастыря сестер Циона в Эйн-Кереме, построенного богатым французским банкиром, евреем по происхождению, принявшим христианство. В этом месте мира и веры она часто говорила мне, что те начатки иудаизма, которые она усвоила в детстве, вновь явились к ней в качестве корней христианского Евангелия, а катехизис, преподанный ей священниками, предстал пред ней облаченным в еврейские одежды.