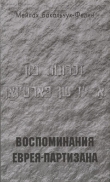Текст книги "Мемуары везучего еврея. Итальянская история"
Автор книги: Дан Сегре
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Сегодня я знаю: моя ошибка заключалась в том, что я старался раньше времени форсировать события, пытался реализовать замыслы, к которым я не был готов ни в плане интеллектуальном, ни в плане культурном. Тем не менее я не жалею о том, что, имея в запасе только одну жизнь, я пытался испробовать сразу несколько. Но в то же время я знаю, что это нетерпение, эта страсть к переменам и авантюрам присуща не только мне. Это свойство всего сионистского движения Государства Израиль, усугубленное необходимостью и недостатком опыта; люди хотели достичь слишком многого и слишком быстро, не будучи подготовленными и не желая платить цену, которую время требует за то, что могут сделать и без него.
Может быть, у евреев Палестины, переживших Холокост, не было другой возможности. Еврейское население, как сказал однажды Шмуэль-Йосеф Агнон [63]63
Шмуэль-Йосеф Агнон (1888–1970) – израильский писатель. В 1907 г. поселился в Палестине, начал писать на идише, впоследствии перешел исключительно на иврит. В 1966 г. был удостоен Нобелевской премии по литературе.
[Закрыть]устами одного из своих героев, «так страдало, что потеряло терпение ждать прихода Мессии». Результатом, согласно Агнону, было то, что в попытке создать свою собственную мессианскую эпоху народ Израиля отложил приход Мессии. Эта поэтическая интерпретация кажется мне подходящим описанием социалистическо-сионистской эпопеи, свидетелем которой я стал и которая в известной мере отразилась на моем личном опыте. Похоже, сегодня мы в Израиле платим цену за провалившуюся попытку людей более или менее порядочных и уважаемых, более или менее фанатичных, более или менее образованных схватить Мессию за руку и привести его к людям силой. Но без этой дерзкой попытки наша драма превратилась бы в банальность, ситуацию, в которой евреи никогда не любили находиться. После ста лет сионизма движение, намеревавшееся «нормализовать» еврея, продолжает барахтаться между изгнанием и Землей обетованной, между апокалипсисом и мессианизмом, между вульгарным и возвышенным, не сумев еще найти то, что Рамбам [64]64
Маймонид, или Рамбам (аббревиатура от Рабби Моше бен Маймон, 1135–1204), выдающийся еврейский философ, раввин, ученый и врач.
[Закрыть]называл «золотой серединой», ту тропинку, которую знаменитый хасидский ребе из Коцка оставлял для лошадей, а не для людей, созданных по образу и подобию Божьему, но идущих по обочине. Разрыв между реальным и фантастическим, возможным и невозможным, подлинным и фальшивым, размышления о котором причинили мне столько боли при формировании моего характера, сегодня кажется мне частью гораздо большей картины, отражением неизбежного условия, путь не менее подлинного, чем другие, разделить особую судьбу народа, к которому я решил возвратиться.
Теперь, когда возраст, достижения и разочарования заставили поутихнуть страсти и амбиции, я не испытываю неудобства оттого, что я, возможно, раньше других почувствовал себя в изгнании на родине, куда я вернулся по своему выбору. Я больше не одинок в осознании того факта, что Государство Израиль – естественное, но отнюдь не идеальное воплощение замечательной идеи – превратилось в одну из многих еврейских диаспор, хотя и близкую географически, но весьма удаленную морально от исторической и культурной колыбели еврейской цивилизации. Отчасти потому, что мое тесное знакомство с итальянским фашизмом дало мне иммунитет против самых вульгарных и гротескных проявлений израильского национализма, который, как и итальянский национализм, является лишь преходящей детской болезнью древнего народа. Отчасти потому, что Израиль предоставлял более широкое, чем другие места, поле для деятельности и горизонты надежды для таких, как я, которые за неимением других талантов сделали искусство жизни живой комедией дель арте.
Глава 6
Запахи и страхи
Мои взаимоотношения с другими итальянскими иммигрантами в Палестине в течение долгого времени определялись вопросами желудка. Даже сегодня, когда я возвращаюсь в памяти к дням своей юности в Земле Израиля, я отчетливо ощущаю запах кухонь в домах, которые меня принимали, скучищу бесед и молитв, которые приходилось терпеть и до, и после еды, не удовлетворявшей моего аппетита, и трудно скрываемую злобу в отношении хозяев, не понимавших моих животных потребностей. Но были два места, которые никогда не привлекали меня в этом плане: различные кибуцы, где мне приходилось останавливаться, и дом синьоры Леви в Тель-Авиве, – однако по совершенно разным причинам. Из кибуцных кухонь на наши тарелки попадали слипшиеся макароны – наверное, изобретение поклонников семейства Борджиа. Эту отвратительную пищу подслащивали соусом с привкусом ванили, который я всегда считал сублимацией еврейского суицидального комплекса. Мясо тогда, в первый год войны, было редкостью. Картошки, которую в Палестине только начали выращивать, давали мало. Зато манки, оливок и помидор было полно. В сочетании с серым хлебом, намазанным маргарином и джемом, они помогали избежать голодных спазм, но оставляли сухость во рту и пустоту в желудке.
Кухня синьоры Леви, напротив, предоставляла блюда, не имевшие ничего общего с кибуцными. Но там было так дорого, что испробовать их мне было не по карману. До сих пор я впадаю в меланхолию, когда вспоминаю часы неудовлетворенного голода, проведенные мною в ее квартире на первом этаже в доме на короткой улице Карла Неттера в самом сердце Тель-Авива, тихой и по сей день. В те годы ее квартира служила прибежищем для многих евреев, бежавших из Италии. Синьора Леви была вдовой. Когда я впервые встретил ее в 1939 году, она была еще не старой, потому что один из ее сыновей ходил в школу. Однако мне она казалась дряхлой: маленькая, сухонькая, с угловатым лицом и пронзительным металлическим голосом, вызывавшим страх в моем сердце. Она всегда одевалась в черное и со своим тщательно уложенным шиньоном напоминала мне директрису детского исправительного заведения. Чопорная и церемонная, она никогда не предлагала мне поесть, но всегда осыпала комплиментами. Она была знакома с моей матерью в ее лучшие годы и не уставала воспевать ее красоту, изящество, но более всего она восхищалась ее богатством, от которого уже ничего не осталось. Синьора Леви была знакома практически с каждым итальянским евреем в Палестине и со многими из тех, кто остался в Италии. Похоже было, однако, что она, как ни странно, ничего не знала о теперешнем финансовом положении нашей семьи. Синьора Леви продолжала обращаться ко мне как к сыну богатых родителей, определенным образом напоминая мне о моем долге не забывать свое прошлое. Она проявляла большой интерес к моим занятиям в сельскохозяйственной школе, о которых говорила с уважением, так, как будто я уже был известным ученым-агрономом. Она церемонно приглашала меня присесть на диван, стоявший возле полукруглого оконного выступа, и предлагала стакан лимонада или чашечку кофе. В этих случаях синьора Леви развлекала меня жеманной беседой о том, как непривычно и болезненно для нее содержать пансион. Тем не менее она делала это с достоинством, не допускавшим компромиссов, экономя каждый грош, но поддерживая высочайший кулинарный стандарт. Лишь дважды мне удалось наскрести денег, чтобы оценить это, как мне показалось, гастрономическое чудо, не имевшее ничего общего с забегаловками, где мне приходилось обедать. Среди всех моих знакомых госпожа Леви была единственным человеком, уверившим меня в моей будущей блестящей военной карьере, когда я рассказал ей о своем намерении вступить в армию. Время показало, что она ошибалась в этом, как, впрочем, и во всех своих прочих суждениях обо мне и моей семье, но в тот момент ее прогноз доставил мне несказанное удовольствие.
У синьоры Леви было двое детей. Младший сын со временем стал видным членом кибуцного движения, а позже преподавал социологию. Старший сын, дипломированный агроном, был талантливым музыковедом и журналистом, но был обречен на все возраставшие страдания из-за душевной болезни, которая в конце концов разрушила его блестящий разум. Но уже тогда его временами странное поведение делало его эксцентриком в глазах итальянских сионистов. О нем рассказывали множество историй. В 1940 году, когда британские власти арестовывали на разные сроки владельцев итальянских паспортов как подданных враждебного государства, Леви попал в центральную тюрьму Яффы. Место было малоприятным, но господин Леви более всего был шокирован отсутствием своих близких друзей. Он дал британской полиции список людей, с которыми он хотел бы соседствовать в тюремной камере, и полиция с радостью удовлетворила его желание. Неудивительно, что некоторые из его друзей надолго отвернулись от него. А несколькими годами ранее, еще в Италии, синьор Леви попал в туринскую тюрьму по подозрению в антифашизме. Тогда он завоевал известность благодаря бороде. Начал он с того, что отверг услуги тюремного брадобрея, который пришел брить его в субботу, день, когда, по справедливому утверждению синьора Леви, евреи не бреются. Это случилось в сентябре, и следующий визит цирюльника принес тот же результат. Леви с календарем в руках доказал, что не положено еврею бриться за два дня до Нового года. Начальник тюрьмы вызвал Леви к себе в кабинет, чтобы согласовать дату грегорианского календаря, когда религиозному еврею разрешено бриться. Синьор Леви с максимальной вежливостью выбрал день, но, когда он настал, опять отказался бриться, аргументируя с глубоким убеждением свой отказ тем, что «евреям вообще нельзя бриться».
В сельскохозяйственной школе «Микве Исраэль», где я начал учиться, Леви был инструктором, политическим комиссаром, воспитателем и исповедником для группы религиозных итальянских юношей, которых привезла в Палестину «Алият а-ноар», молодежная секция Еврейского агентства. Мы, записавшиеся в школу в частном порядке и платившие полную цену за обучение и содержание, с этими ребятами общались очень мало. Те жили в большом общежитии над кухней. Мы же размещались по четыре человека в комнате над амбаром и прессом для выжимки оливкового масла, которые находились во французском колониальном здании XIX века. Они жили согласно строгому религиозному регламенту, мы же наслаждались свободой неверующих. Они предназначали себя для жизни в религиозном кибуце, а мы были свободны мечтать о любой деятельности и карьере. Обе группы встречались в классной комнате на совместных уроках, в поле, где мы работали, а иногда в канун субботы я присоединялся к ним в школьной синагоге. Мне нравилась элегантная атмосфера синагоги, тоже построенной во французском колониальном стиле, с красно-голубым потолком, окнами с цветными стеклами и мраморными мемориальными досками с именами спонсоров и погибших учеников. Но в общем две эти группы держались поодаль друг от друга – еще и потому, что обиталища «частных» учеников делились на кварталы в зависимости от принадлежности к различным светским партиям, и мы сразу же по прибытии в школу выбирали себе жилье согласно своим идеологическим устремлениям. Я выбрал квартал «общих сионистов» [65]65
«Общие сионисты» – политическая организация, первоначально занимавшая центристскую позицию, представляя в основном либеральную буржуазию и средний класс. Приверженное идеям свободной рыночной экономики, после основания Государства Израиль это движение встало в оппозицию к находившимся у власти социалистическим партиям.
[Закрыть], поскольку это движение требовало наименьшего идеологического участия. Немедленным результатом такого политического выбора явилась кража моего бумажника вместе с рядом дорогих мне мелочей, которые я привез с собой из дома. Я был шокирован, и даже свобода от присутствия на невыносимо длинных и скучных политических митингах не могла быть достаточной компенсацией. В конечном счете в результате своего выбора я так же отдалился от наиболее активных политических элементов в школе, как и (из школьного снобизма) от итальянских ребят, принадлежавших к религиозному движению. У нас остался практически единственный общий интерес: война с клопами, и по этому поводу мы ежедневно обменивались информацией. Нам ни разу не удалось добиться победы, несмотря на огромное количество нефти, разбрызганной на наши соломенные матрасы, и банки из-под консервов, которые мы наполняли керосином и подставляли под ножки кроватей.
Леви отдавал себе отчет в этом «классовом» разделении и не одобрял его. Всякий раз, когда мы встречались на школьной территории, он делал мне замечания по поводу моих и моих товарищей по комнате феодальных привычек. Иногда он усаживался со мной под деревьями, окружавшими могилу Карла Неттера [66]66
Карл (Шарль) Неттер (1826–1882), сионистский лидер, уроженец Эльзаса, один из основателей «Всемирного израильского союза» – организации по борьбе с антисемитизмом; в 1870 г. основал «Микве Исраэль», первую еврейскую сельскохозяйственную школу в Эрец-Исраэле.
[Закрыть], основателя школы и отца еврейской агрикультуры в Палестине. Гробница, где он похоронен вместе с двумя его маленькими сыновьями, умершими, по-видимому от тифа, в 1880 году, стояла, окруженная каскадом бугенвилий, в самом сердце эвкалиптовой рощи, в конце песчаной тропы. Там, видимо, заканчивалась вселенная: тишину нарушали только взмахи птичьих крыльев, жужжание насекомых, отдаленные крики ослов и шелест листвы – звуки симфонии природы. Мы сидели на краю гробницы под сенью деревьев и тихо беседовали, выдерживая долгие паузы. Я не помню предмета наших разговоров и не думаю, что аргументы Леви меня убеждали. Но, мысленно возвращаясь к этим встречам, весьма отличным от тех, что позже были у меня со знаменитым пьемонтским писателем Чезаре Павезе [67]67
Чезаре Павезе (1908–1950), итальянский поэт, писатель, литературный критик и переводчик. В 1935 г. был арестован за антифашистскую деятельность и провел несколько месяцев в тюрьме. После окончания войны примкнул к итальянским коммунистам. Политические и личные разочарования привели его к самоубийству в 1950 г.
[Закрыть], когда мы с ним сидели на склоне холма в Турине, я не могу избавиться от ощущения их схожести. Вскоре после моей демобилизации из британской армии я был представлен Павезе профессором Монти, исключительно важной фигурой итальянского Сопротивления. Как с Леви, так и с Павезе мы часами говорили о Боге и о войне, о женщинах и о религии, о демократии и антифашизме, о пустых надеждах, порожденных войной, и о злой судьбе таких, как мы, кто, будучи свидетелями Истории, не мог принять участие в осуществлении своих мечтаний.
В обоих случаях – Павезе и Леви – я был поражен отчаянием двух блестящих умов, совершенно различных, но одинаково неспособных реализовать свои таланты так, как им этого хотелось. Павезе покончил с собой, Леви попал в сумасшедший дом, где блеск его интеллекта постепенно затух и превратился в паранойю. Павезе отреагировал на банальность жизни печалью своего письма; Леви привел свое интеллектуальное нетерпение к столкновению с инерцией повседневной жизни и пытался стать заметным с помощью клоунады и эксцентричных выходок.
Одна из историй, возможно и недостоверная, рассказывает о его сотрудничестве с неким каббалистом, твердо решившим ускорить приход Мессии. Этот раввин разработал план: в определенном месте в Святой Земле и в определенный день нужно принести в жертву животное. В соответствии с его каббалистическим расчетом жертвоприношение должно произойти на рассвете и кровь животного должна быть разбрызгана на вершине пустынного холма, расположенного в центре арабской зоны, куда евреям ходить опасно. Решение было найдено в виде маленького самолета и замены жертвенного верблюда крепким, здоровым петухом. Леви должен был совершить ритуальное жертвоприношение, то бишь зарезать петуха, а роль раввина заключалась в тщательном определении времени и места по мистическим знакам. Увы, Леви задержал явление Мессии своей неспособностью преодолеть реакцию петуха, не желавшего сохранять спокойствие в нанятом маленьком самолете и безразличного к увещеваниям раввина, который в отчаянии продолжал координировать свою карту с планом полета нетерпеливого британского пилота. Как я уже сказал, эта история, возможно, была выдуманной, но экстравагантные выходки Леви со временем стали легендами. Я был свидетелем одной из таких историй. Однажды в холодный зимний день я нанес ему визит в его маленькой халупе, служившей и домом, и местом для приготовления гриссини [68]68
Гриссини – традиционные итальянские хлебные палочки.
[Закрыть]. Это скромное обиталище находилось на окраине Рамат-Гана, сегодня части Большого Тель-Авива. Тогда же между ним и Тель-Авивом было несколько километров пустого пространства. Идея внедрения этого пьемонтского хлеба в пионерское еврейское общество военного времени, когда хлеб давался по карточкам, принадлежала жене Леви. Она отчаянно боролась, чтобы, уже имея большую семью, сводить концы с концами, и для этого бралась за разные дела, среди которых ее домашние хлебные палочки не были самым удачным предприятием. Выпечка гриссини к тому же подвергала опасности окружающих: из плохо отрегулированной печи исходил запах нефти. В тот день, когда я навестил их, они как раз собирались отправиться в Тель-Авив, используя детскую коляску в качестве транспортного средства. Синьор Леви, основываясь на своих математических расчетах, убедил жену, что они доберутся до города менее усталыми, если один сядет в коляску, а другой будет ее толкать, а потом наоборот. Я видел, как они отправлялись в путь, и картина была следующей: Леви сидит в коляске, его черная борода развевается по ветру, ноги в сандалиях торчат из коляски, на коленях пакеты с гриссини, его жена с энергией и достоинством толкает коляску, еле выдерживающую вес мужа, а обалдевшие прохожие с изумлением провожают их взглядами.
В Рамат-Гане жила группа итальянских евреев, чье поведение было диаметрально противоположным поведению семьи Леви. Почти все они, за малым исключением, были раньше членами фашистской партии – скорее по инерции, чем из искренних убеждений. Но не это было их главным отличительным свойством. То, что явно выделяло их среди еврейского общества того времени, была тщательность, с которой они сохраняли в пионерско-социалистической стране уклад жизни провинциальной итальянской буржуазии. Большинство из них иммигрировало в Палестину с немалыми деньгами, а те, у кого денег не было, быстро разбогатели, так как и военной экономике, и стремительному развитию общества они весьма помогли своим тяжелым трудом и участием своих многочисленных детей во всех военных конфликтах с арабами. В их домах, полных солидной мебели, всевозможной утвари, миниатюр, статуэток, вышивок и красивых скатертей, преобладала та же упорядоченная, осторожная атмосфера, что и в домах Флоренции или Кремоны, – патриотизм, лишенный идеологии, уважение, но без подозрительности к власть имущим. Трудолюбивые, но скупые, вежливые и воспитанные, но чуждые элегантности, они гордились своим вновь приобретенным статусом борцов с фашистским режимом, против которого они никогда не восставали. Эти банальные и скучные люди, окопавшиеся в религиозных традициях, скрывающие грубое невежество в вопросах иудаизма, превратили итальянскую синагогу в общественный центр клана и признак социального отличия. Умеренные во всем – как в пище, так и в политических пристрастиях, – они были счастливы найти в сионизме решение проблемы физического выживания и своей духовной анемии. Прислушиваясь к их светским разговорам в красивых, ухоженных домах после субботнего ужина, я поражался тому, как они умудрились участвовать в двух контрастирующих процессах ассимиляции – сперва в предавшем их итальянском национализме и теперь в еврейском национальном обществе в Палестине, поставившем себе целью абсорбировать остатки погибающего еврейства вместе с его фольклором и литургией. Результатом оказалось переключение с одного национализма на другой с сохранением тех же предрассудков в виде романтического патриотизма и социального конформизма, которые они привезли с собой из Италии.
В этом маленьком, претенциозном, осторожном рамат-ганском обществе я хорошо себя чувствовал только в миланской семье выходцев из Греции. У них не было детей, и они принимали под свое крыло любого молодого человека, нуждавшегося в постоянном или временном убежище. За их столом, даже тогда, когда скромный бюджет заставлял их урезать порции, я всегда утолял свой голод, не стесняясь этого. В их доме я научился не только понимать, что полученная пища – благословение, но и ценить это благословение. Здесь я провел наименее грустные отпуска из школы и армии, здесь я давал волю своим мечтам, надеждам и печалям, не боясь быть осмеянным, здесь меня всегда ждали удобная кровать, горячий душ и чистое полотенце. Только те, кто познал муки голода, кто оказался вырванным из своей социальной среды, кому приходилось стыдиться своей грязной рубашки, находясь среди хорошо одетых людей, кто знает, что такое бессонные ночи на кровати без матраса и простыни, кто замерзал зимой под ледяным душем, кто испытывал жажду под палящим солнцем, – только тот и может оценить гостеприимство без ограничений и понять долгую обиду за неоказанную помощь, обиду в моем случае несправедливую, потому что я из гордости и застенчивости помощи не просил.
Дом этой греко-итальянской семьи был построен на небольшом холме, теперь уже полностью поглощенном бетоном городских кварталов, на вершине которого еще долгие годы гордо вздымалось шелковичное дерево. Сидя в тени его ветвей в жару летней субботы, я часто видел странного субъекта, пересекавшего улицу, чтобы войти в деревянный барак, используемый под синагогу. Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, высокий и загорелый. У него были длинные, до плеч, волосы, и одет он был в длинную грязную белую рубаху и обтрепанные брюки. Его в насмешку называли «Мессией» из-за голубых водянистых глаз, устремленных в бесконечность, и странного поведения, делавшего его похожим на безобидного лунатика. Однажды во время войны он исчез. Кое-кто говорил, что он был арестован британскими властями как опасный террорист, другие – что его направили в сумасшедший дом. В любом случае, пока он еще бродил по улицам Рамат-Гана, меня тянуло к нему с какой-то необъяснимой силой.
Он явно был сумасшедшим. Но его сумасшествие было того типа, что в различных формах было распространено среди многих евреев Палестины и циркулировало в их венах, как коллективный наркотик. Как и они, «Мессия» был, похоже, охвачен манией апокалипсиса. Война, разрывавшая мир на части, виделась ему войной Гога и Магога. Еврейская трагедия, масштабы ужасов которой еще не были известны, представлялась Божьей карой за осквернение евреями своих душ путем поклонения политическим и социальным идолам Европы. Белая книга, посредством которой англичане закрыли дверь перед еврейской иммиграцией и пытались положить конец надеждам сионистского движения, была сатанинским измышлением и в то же время предупреждением евреям свыше: не сходите с пути, предписанного вам на горе Синай, не поддавайтесь соблазнам чужих народов, не полагайтесь на свою гордую политическую смелость, а уповайте только на Провидение. Что бы ни случилось, проповедовал он, Эрец-Исраэль, Земля Израиля, всегда останется мостом, от которого «Бог никогда не отвернет Своего взора». Верующие евреи, которые, по его словам, являются «личными телохранителями Царя Вселенной, да будет благословенно Его имя», выдержат все испытания и удостоятся стать свидетелями великих чудес. Англия была для него последним, окончательным Римом, «нечистым животным, которому суждено погибнуть». Арабы – братом-врагом. Евреи должны воевать с ними, но не из ненависти, а из понимания таинственной судьбы, предписанной на небесах, связывающей навечно потомков Исаака и Исмаила, Иакова и Эсава. В каждом поколении евреи и арабы будут воевать за общее наследство, что сделает трудным, если не невозможным, их сосуществование на одной земле.
Сидя на шаткой скамейке с облупившейся краской спиной к покрытой рубероидом стене синагоги, «Мессия» бросался в рассуждения по поводу мировой политики, всегда начиная с какой-нибудь казуистической проблемы Талмуда – к примеру, можно ли завязать шнурок в субботу, пользуясь обеими руками. От этой, для меня абсолютно нереальной, проблемы он переходил к дискуссии о долге человека перед животным или о степени ответственности граждан перед государством, зачастую аргументируя свой тезис заменой слога в слове, взятом из Библии. На меня он производил впечатление политического заговорщика под маской дервиша или ученика пророков. Его напряженное лицо, окутанное густой черной бородой, бледнело, когда он развивал свои идеи, и казалось, будто вся его кровь и вся энергия его мышц концентрировалась в невидимой точке его внутренней страсти. Он прищуривал свои глаза с длинными ресницами до щелочки, а из его зрачков вырывался резкий маниакальный свет, более выразительный и пугающий, чем любые слова. Это был взгляд одержимого, измученного человека, который не имея связи с окружающим миром и в то же время полностью сознавал его существование и всем сердцем участвовал в происходящем. Мир, в котором телесная и духовная субстанции, как объяснял «Мессия», таинственным образом связаны и сверху, и снизу с субстанциями других миров, отличных от нашего, но не менее устойчивых. Человек – это точка скрещения всех этих невидимых узлов, определяющих все сущее. Человек может существовать лишь потому, что Божественное неким образом ушло в Себя и «оставило пространство» для Своих творений. Только через много лет я понял, что «Мессия» черпал свои теории из каббалы. Но то, что я видел, были струйки древней эзотерической еврейской мысли, льющейся на семена политического мессианизма, которые со временем взойдут и покроют поле светского социалистического сионизма.
В те первые годы войны у евреев не было политических достижений, которые бы оправдывали минимальный оптимизм. Казалось, всё в Европе и в Палестине воевало против основания Еврейского национального дома. Естественно, что в таком политизированном обществе, как ишув (еврейское общество в Палестине), начали циркулировать идеи национального религиозного мистицизма, которые через сорок лет открыто подвергнут сомнению правомочность светского сионизма.
Я, конечно, никогда не думал о такой возможности. Не понимал я и значения газетных новостей, относившихся к деятельности «евреев-фанатиков». Эти евреи, как утверждали газеты, были готовы сотрудничать с нацистами, чтобы сломить британский мандат, потому что он цинично закрыл двери Палестины перед еврейскими беженцами, которые пытались спасти свои жизни. Я не понимал, почему «религиозные безумцы» объединялись, по словам газет, со «светскими бандитами» в неподчинении сионистским национальным институциям и ввергались в «безумный и безответственный» терроризм против британских властей и арабов. Но на самом деле все это меня очень мало волновало. Таким образом, когда в 1942-м, уже год отслужив в армии, я прочитал, что некий Авраам Штерн [69]69
Авраам Штерн (1907–1942), поэт и боец за независимость Израиля. После раскола ЭЦЕЛя (Иргун Цваи Леуми) – боевой подпольной организации в Палестине, боровшейся против мандатных властей за национальную независимость, – он возглавил созданную им организацию ЛЕХИ (Лохамей Херут Исраэль, т. е. «борцы за свободу Израиля»). Был схвачен британской полицией на явочной квартире и убит.
[Закрыть], студент Еврейского университета в Иерусалиме, был убит англичанами после совершения им целого ряда бандитских актов, я не обратил на это никакого внимания. Я никак не связывал это сообщение, казавшееся мне репортажем об обычной уголовщине, с тем еврейским движением Сопротивления, которое через несколько лет потрясет основы британской власти в Палестине.
Возможно, «Мессия» был как-то связан с одной из этих секретных организаций; когда он внезапно исчез, о нем говорили странные вещи. Но ни эти слухи, ни политические идеи, которые он проповедовал в маленькой рамат-ганской синагоге, не оказали на меня никакого влияния. Заинтересовали меня только его теории об ангелах и злых духах, которых мы, согласно «Мессии», создаем своими возвышенными или приземленными мыслями и поступками. Иногда в тяжелом полусне я видел, испуганный и бессильный, яростные пляски жутких тварей, родившихся из моих фантазий, страхов и подавленных амбиций. Ангелов было мало, и они выглядели совсем слабыми, а черти, наоборот, оглушали своими пронзительными криками и обвинениями в трусости и безразличии к судьбам пылающего мира. Во время этих кошмаров мне казалось, что я витаю в воздухе над морем слез, полным сгустков крови, и эти сгустки вдруг превращались в фигуры из папье-маше, подобные иллюстрациям Гюстава Доре к дантовскому «Аду», которые мой отец держал запертыми в своей библиотеке. Ведомый ангелами и преследуемый бесами, я витал, словно воздушный змей, над своим кошмаром, внезапно погружаясь в людской мир, представший передо мной как последовательность острых углов отточенных лезвий. Все те, кто просил моей помощи, поворачивались ко мне спиной, уходя прочь дисциплинированными колоннами к лабиринту верований и мнений, страстей и интересов, куда мне вход был заказан. Я видел плотные шеренги людей, проходивших мимо, не глядя в мою сторону, – моих бывших одноклассников, одетых в униформу «Молодых фашистов», и новых товарищей по кибуцу в британской военной форме. Я пытался окликнуть их по имени, но они, похоже, не слышали, а когда открывали рот, я не мог понять, что они выкрикивают. В одиноком ожидании стоял я, не зная почему. Затем вдруг я услышал обвиняющий голос «Мессии», который провозглашал, что исполнять восемьдесят процентов заповедей – все равно что не исполнять ни одной, а голосом инструктора из школы «Микве Исраэль» мне втолковывалось, что вступление в британскую армию является актом скрытой проституции, в то время как шофер, подобравший меня в тель-авивском порту, бормотал мне, что в политическом компромиссе нет спасения. Но это не был лишь вопрос ночных кошмаров. Для такого, как я, недавно прибывшего из мира компромиссов и социального конформизма, странное поведение «Мессии» и не столь экстравагантное, но не менее строго направленное поведение многих других казались спазматическими попытками ишува, еврейского общества в Палестине, подчинить мои мысли и действия жесткой дисциплине радикальной идеологии. Нигде это не было так справедливо, как на перекрестке бульвара Ротшильда и улицы Алленби в Тель-Авиве, где я иногда останавливался у киоска, чтобы выпить стакан апельсинового сока. Там можно было услышать громкие споры, доносившиеся с открытой террасы кафе «Атара». Это было место встречи хорошо одетых джентльменов и активистов Рабочей партии в рубашках с короткими рукавами. Они громогласно обсуждали грядущие судьбы мира по-польски, по-немецки, по-английски и на иврите, потягивая холодный кофе со взбитыми сливками, на который голодный студент вроде меня мог только поглядывать издалека. Эти люди знали все, предсказывали все на свете и имели готовый авторитетный, логичный ответ на любой вопрос. Все они были пророками и свои однозначные вердикты изрекали исходя из личных убеждений и собственного индивидуального невежества, даже и не думая прислушиваться к аргументам других.
Они не были одиноки. Дискуссии подобного типа часто мне не давали спать всю ночь, когда я, лежа на колючем соломенном матрасике, слышал агрессивную аргументацию своих соседей по комнате или тех, кто жил через стенку. Это продолжалось часами, и обычно собеседники так и не приходили к согласию: у каждого были свои соображения по поводу того, как защищать еврейский народ, как помочь англичанам в войне против нацистов, как склонить капиталистов к марксизму, как освободить земли от арабов, как убедить Великобританию поддержать идею еврейского государства, как использовать нужду союзников в кооперации с нами, как создать тип нового еврея в Эрец-Исраэле. Я очутился в давящей атмосфере этих бесконечных дискуссий и не мог почувствовать себя их частью, не разделял напряжения постоянно сталкивавшихся верований, личностей и культур. Я знал, что должен ощущать себя участником хотя бы потому, что моя семья в Италии оказалась в трагической ловушке еврейского народа. Но те страстные речи контрастировали не только с мягким и удобным миром, из которого я пришел, но и с нудной рутиной сельскохозяйственной школы, управляемой ударами колокола. Колокол будил нас без четверти шесть утра и в восемь звал в класс. Под звук колокола в полдень мы спешили, голодные, в столовую, а после обеда лениво разбредались по полям на работу. В десять вечера колокол желал нам спокойной ночи, потребовав при этом тишины. В этот момент многие из нас начинали говорить сами с собой.