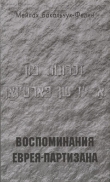Текст книги "Мемуары везучего еврея. Итальянская история"
Автор книги: Дан Сегре
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Таков был мир, в котором я рос, и мне было трудно, даже после публикации антиеврейских законов 1938 года, почувствовать себя выброшенным из итальянского общества. Через общение с моими новыми друзьями в еврейской школе в Турине я начал отдаляться от воспитанных во мне фашистских идей и понимать горькую судьбу евреев. Но я не мог эмоционально порвать ни с той жизнью, которой я жил в Говоне, ни с воспоминаниями о счастливых днях во Фриули. Из этого маленького реального – но в то же время воображаемого – мира я уехал в 1939 году в Палестину, далекую и неведомую страну. И случай, происшедший в нашей семье и побудивший отца дать согласие на мой отъезд, был весьма драматичным событием, однако вполне согласным с типом жизни, которой я жил до того времени.
Еще до публикации «Манифеста о расе» в июле 1938 года фашистская пресса начала исподтишка прощупывать реакцию итальянского общественного мнения на открытую антиеврейскую кампанию. В начале 1937 года вышла книга Паоло Орано «Евреи в Италии», где еврейский вопрос анализировался на основе всевозможных лживых политических и идеологических аргументов. Там указывалось на различие между патриотическим и непатриотическим иудаизмом, между итальянским и еврейским национализмом. Книга содержала язвительные нападки на сионизм, движение, которое Муссолини на самом деле еще совсем недавно поддерживал как весьма полезное для распространения итальянского влияния на Среднем Востоке. Все это привело большинство итальянских евреев в смятение и разброд, в особенности лидеров «Объединения итальянских еврейских общин» (высшей административной инстанции итальянского еврейства). Разумеется, в нашем доме никто не говорил о подобных вещах, и я ничего об этом не знал, хотя в то время некоторые члены нашей семьи уже были вовлечены в идеологическую борьбу. Самым активным был мой кузен Этторе Овацца, единственный из моих близких родственников, убитый жесточайшим способом вместе с женой и двумя детьми фашистскими республиканцами незадолго до конца войны.
У него всегда были литературные амбиции. Во время Первой мировой войны, когда он вместе со своим отцом и двумя братьями служил офицером и получил высокие награды, он написал и опубликовал дневники: сегодня они поражают своей явной банальностью, которая, вполне в духе ассимилированной еврейской буржуазии того времени, заполняла неумеренной псевдоитальянской слащавостью пустоту, созданную потерей еврейской идентичности. После войны мой кузен, как и мой отец, естественным путем повернул к фашизму и основал периодическое издание под названием «Наш флаг»; он выражал позицию, которая, по его мнению и по мнению многих итальянских еврейских фашистов, должна быть политическим кредо итальянских евреев: верность идеалам Рисорджименто и итальянского единства, преданность монархии, неприятие сионизма, коль скоро речь идет об итальянских евреях, но в то же время поддержка его в качестве движения, стремящегося предоставить убежище от антисемитизма; усиленное подчеркивание вклада евреев в общеитальянское дело и в фашизм, а также критика как немецких законов, так и западных демократии и либерализма, с которыми, по мнению журнала, евреи не должны иметь ничего общего. Это была двусмысленная позиция, которую по мере усиления антисемитских тенденций Муссолини было все труднее принимать или защищать. И тем не менее еще в конце 1938 года, когда евреи в Италии уже не могли посылать своих детей в школы и итальянцы не могли пользоваться учебниками, написанными евреями, когда гражданские браки между евреями и неевреями были запрещены (фашистский режим не мог из-за соглашения с Ватиканом вмешиваться в религиозные браки), когда евреи официально теряли свои родительские права, если их дети отрекались от иудаизма, и когда евреи уже не могли служить в армии, по-прежнему находились евреи, которые тешили себя надеждой, что можно снискать расположение режима публичной демонстрацией своей приверженности фашизму и открытым отстранением от евреев, считавшихся врагами режима.
Мой кузен был одним из тех, кто обманывал себя, питая беспочвенные иллюзии. Фашистская пресса все усиливала свои злобные нападки на главный печатный орган еврейской общины – «Израиль», который со смелостью и достоинством защищал позиции итальянских евреев, в особенности их право быть сионистами. Мой кузен полагал, что «карательная акция» евреев-фашистов против этого издания продемонстрирует правительству их патриотизм и будет благосклонно воспринята партией.
В один из серых осенних дней Этторе Овацца пришел в дом моих родителей близ Турина, сопровождаемый двумя или тремя неизвестными мне людьми. Об их прибытии отец был извещен заранее, не помню – письмом или по телефону, и он против обыкновения попросил меня присутствовать на встрече. Мы приняли их в столовой; моя мать, находившаяся в состоянии крайнего нервного напряжения, подала чай с пирожными, извиняясь за отсутствие прислуги (из-за законов). Вскоре она с глазами, полными страха и слез, оставила нас.
Как только она вышла, Этторе подробно объяснил свой план. Он сказал, что антисемиты обвиняют евреев в связи с демократами. К его сожалению, процент антифашистов среди евреев был очень высок. Фашистский режим, из-за его новой политики, подчеркивает именно эту негативную диспропорцию, а не гораздо более важный и положительный вклад евреев в фашизм и итальянское национальное дело. Тем не менее он сказал, что Муссолини, несмотря на свою расистскую политику, не позволил применить критерии нюрнбергских законов по отношению к итальянским евреям. Преданные и достойные доверия друзья, вхожие к дуче, рассказали Этторе, что Муссолини отнюдь не радовала необходимость следовать за Гитлером по пути антисемитизма и он был опечален этим. Ему пришлось так поступить из высших политических соображений, но это было противно и его доброй натуре, и самим традициям итальянского фашизма. В доказательство мой кузен ссылался на фашистскую прессу, которая подчеркивала, что борьба в защиту итальянской национальной идеи была скорее политической и идеологической, чем биологической и расовой. Нюрнбергские законы были не имитированы, а лимитированы новыми антиеврейскими положениями. В качестве бывших членов фашистской партии, да еще служивших в армии, все члены нашей семьи получили привилегированный статус по сравнению с другими евреями и были относительно защищены от новых установлений. Но даже у «обыкновенных евреев» жизнь в Италии была лучше и безопаснее, чем во многих европейских странах. Даже новые правила, облегчавшие переход в католицизм, были способом, которым партия показывала разницу между итальянской и немецкой концепциями антисемитизма. В конечном счете, сказал Этторе Овацца, было ясно, что Муссолини действовал против евреев с большой неохотой. Тем не менее действия евреев-антифашистов, равно как и сионистов, были на руку их врагам как в высшей фашистской, так и в высшей католической иерархии, предоставляя тем самым повод для нападок на противников режима, а через них и на все итальянское еврейство. Надо быть честным и признать, что евреи в Италии чересчур уж выделялись; каждый новый выпуск «Журнала расы», нового антисемитского издания, основанного после публикации расовых законов, подчеркивал диспропорцию между евреями и неевреями во всех важных областях жизни страны. Достаточно упомянуть армию и морскую пехоту, где число еврейских генералов и адмиралов было весьма значительно по сравнению со всего тридцатью шестью рядовыми солдатами. Как были правы, сказал мой кузен, наши предки, которые умоляли своих сыновей держаться как можно скромнее и не бравировать своим новым привилегированным статусом за пределами гетто. И хотя невозможно повернуть колесо истории вспять, необходимо провести черту между теми евреями, которые всегда были верны фашистскому режиму и желали оставаться таковыми, и всеми прочими.
Его предложение состояло в следующем. Во Флоренции выходит еврейское периодическое издание «Израиль», которое, вместо того чтобы посвящать себя исключительно вопросам культуры и религии, превратилось в рупор политических идей, которые фашистский режим не может допускать. «Израиль» утверждает, что теперь необходимо усилить еврейское самосознание и солидарность, чтобы компенсировать потерю той итальянской идентичности, которая была насильственно отнята у евреев. Этот тезис противоречит интересам итальянских евреев. Отличаться таким образом от других в такое время и таким путем означает отделяться от нации, подтверждая обвинения антисемитов, желающих представить итальянских евреев инородным телом. Значит, необходимо показать, на чьей стороне стоят фашистские евреи-патриоты. Карательная акция, небольшой погром против редакции и типографии «Израиля», что в любом случае будет вскоре сделано фашистами, окажется демонстрацией лояльности, гораздо более полезной для евреев, чем тысячи полемических статей. Такая акция еще и напомнит Муссолини о героических днях, предшествовавших «маршу на Рим», во время которого евреи так рьяно поддерживали его. Дело должно быть сделано людьми с незапятнанной фашистской репутацией и признанным национальным статусом. Мой отец является одним из таких людей. Его участие может снискать этой инициативе еще больше уважения.
Мне, далекому от политики и несведущему во всем, что творилось вокруг, подобная речь была крайне неприятна. С одной стороны, здесь был соблазн принять в чем-то активное участие в то время, когда я страдал от вынужденного бездействия. С другой стороны, в момент, когда евреи пытались создать новую сплоченность, когда они доказали силу своих общинных связей созданием менее чем за четыре месяца отличной независимой системы образования, когда все искали контакты с миром за пределами Италии, особенно в то время, когда фашистский режим и монархия предали конституцию, сама мысль о том, что кто-то из нас ищет сотрудничества с нашими преследователями таким открыто бесстыдным способом, показалась мне чудовищной. Все же я чувствовал: это слишком серьезная проблема, чтобы я мог позволить себе высказаться, прежде чем отреагирует мой отец. Я смотрел на него и видел, как трудно ему ответить – не только из-за его прошлого, но еще из-за того, что у него не было связей с людьми, не принадлежащими к итальянскому национальному истеблишменту. Я же, в отличие от него, через еврейскую школу приблизился к иудаизму и уже стал умеренным антифашистом.
Отец выдержал длинную паузу. Он взвешивал в руке свою трубку, долго и тщательно набивал ее табаком, как будто в этот момент для него не было ничего важнее на свете, чем этикет курильщика. Было видно, как эти механические движения помогают ему сформулировать свои мысли. Все остальные тоже хранили молчание, и напряжение в тишине все возрастало. Когда отец начал говорить, его голос был абсолютно бесстрастным. Он объяснил, что для него, человека столь далекого от политики, вдруг присоединиться к подобной акции было бы очень странным. Те, кто придает большое значение его прошлым связям с фашистской партией или с королевским домом, заблуждаются. Теперь он просто бедный еврей, которому, возможно, в скором времени не разрешат оставаться и бедным фермером. Но даже если бы он не был таким простым крестьянином, каким является сейчас, он бы все равно отказался принять участие в этой затее. Мы как итальянцы потеряли свои священные конституционные права, это верно, но никто не может отнять у нас как у евреев чувства чести и достоинства. Нападая в такие тяжелые времена на своих единоверцев, чтобы завоевать расположение предавшего нас режима, мы поведем себя не как свободные люди, а как рабы.
Отец говорил очень тихо, почти шепотом, как будто просил прощения за свои слова. Воцарилась тишина. После долгого молчания Этторе Овацца сказал: «Как вам будет угодно. Если вы измените свое мнение, дайте мне знать». Потом он осведомился о моих занятиях, поинтересовался фермой и здоровьем моей матери и сестры. Перед уходом гостей отец угостил их роскошными грушами. Они поблагодарили его и поздравили с тем, что он живет, как Цинциннат [32]32
Луций Квинкций Цинциннат (519 до н. э. – 430 до н. э.), древнеримский аристократ, консул и диктатор Рима. Был известен тем, что вел скромный образ жизни и сам обрабатывал свое поле.
[Закрыть]. Несколько недель спустя они сожгли помещение редакции и типографию журнала «Израиль».
Когда отец услышал об этом, он позвал меня в свой кабинет и сказал, что согласился отпустить меня из Италии, не важно куда. Для молодого еврея нет будущего в Италии. Я сказал ему, что, как мне стало известно, можно получить вид на жительство в Палестине для «капиталиста», если вложить в Английский банк депозит в тысячу фунтов стерлингов. Отец прекрасно знал, что нелегально вывозить итальянскую валюту за границу весьма рискованно, и отправился прямо в Турин к шефу фашистской полиции и спросил его напрямую, предпочитает ли он, чтобы деньги были переправлены легально или чтобы он, мой отец, стал преступником. Партийный босс, рискуя головой, помог ему переправить деньги. В то время за такое полагалась смертная казнь. Сам факт, что иммигрировать в Палестину мне помог фашистский функционер, и сегодня не только кажется мне гротескным, но и служит свидетельством той нереальной ситуации, в которой еврей в Италии мог еще жить.
В мае 1939 года Муссолини приказал провести большие маневры вдоль французской границы. Мэр Говоне позвал моего отца и сказал, что, возможно, дуче проедет по виа Маэстра и поэтому необходимо украсить длинную стену нашего поместья, выходящую на эту улицу. Стена была белой и гладкой и как нельзя лучше подходила для того, чтобы развесить на ней цитаты из речей Муссолини. Мэр знал, что мой отец был евреем, но, помня о его фашистском прошлом, решил предоставить отцу выбор наиболее подходящих изречений. Отец избрал слова Муссолини «Много врагов – много славы». Мэр решил оставить стену голой, как она есть, и в конце концов дуче выбрал другой маршрут.
1 сентября 1939 года немцы вторглись в Польшу. То была пятница. В этот вечер я попросил отца произнести благословение вина: с тех пор как начались гонения, кидуш стал у нас нормой. Отец благословил нас с сестрой еще и благословением коэнов, как принято делать в итальянских общинах по большим праздникам. Он простер ладони над нашими головами и произнес на иврите три фразы о восславлении Господа и страхе перед ним, которые взволновали даже нашу мать, в то время в глубине души уже перешедшую в католичество. В тот вечер я присовокупил к кидушу и краткую молитву по-итальянски, внезапно пришедшую мне на ум, – я просил Всевышнего дать нам силы пережить все ожидающие нас опасности и тяготы войны, чтобы по ее окончании мы воссоединились, здоровые и уверенные.
Решение о нашем расставании было уже принято бесповоротно, и мои родители понимали, что я прощаюсь с ними, с домом, с Италией – с нашей совместной жизнью. Через три дня я отплыл на корабле, принадлежавшем моему дяде, который совершал регулярные рейсы между Триестом и Тель-Авивом. Передо мной открылась новая жизнь, к которой я был подготовлен разве что в мечтах.
Глава 4
Могильный склеп
Я унаследовал от отца фамильный склеп на еврейском кладбище в Турине и маленький домик в небольшой деревне близ города Альба. С годами стоимость склепа возросла, а домика – упала. Мне многократно предлагали продать их, однако я никогда не заставлю себя сделать это, хотя деньги, несомненно, пригодились бы.
Странно видеть, как на еврейском кладбище Турина, этом гетто мертвых, община усопших заняла в течение столетия место общины живых. Пьемонтские евреи все больше и больше распространялись по разным странам, культурам и религиям, отличным от культур и религий их предков. Под землей же из года в год новые обитатели прибывали на место, вырасти которому нет возможности. Поэтому цены на место на кладбище постоянно растут, вне зависимости от колебаний цен на недвижимость и нефть, которые никому в могилах уже не нужны. Еврейское кладбище Турина находится рядом с христианским и состоит из двух частей, старой и новой. На старой части многие памятники осели в землю, имена на них стерлись, и «капеллы» увековечивают потускневшую славу неизвестных семей, когда-то богатых и влиятельных. Здесь находятся могилы еврейских баронов, консулов, банкиров, армейских офицеров. Все они, судя по надписям на памятниках, вели образцовую жизнь, были преданными семьянинами; эти люди передвигались в каретах, пока кареты не сменили автомобили. Только могильные надписи и некрологи в старых газетах доказывают, что они на самом деле жили. У евреев нет обычая помещать на памятниках под овальным выпуклым стеклом фотографии умерших, как это принято на итальянских христианских кладбищах. Запрет иудаизма на изображение людей до сих пор силен. Мы еще помним заповедь: не сотвори себе кумира. Но даже без фотографий одних дат – 1840, 1861, 1914 – достаточно, чтобы посетитель задумался о жизни людей, чьи имена указывают на их древнее происхождение в далеких местах: Франции и Корфу, Испании и Мантуе. Одна из самых дорогих мне книг моей библиотеки – «Официальный и окончательный список пьемонтской аристократии, составленный в 1886 году во время царствования короля Умберто I» [33]33
Умберто I (1844–1900), король Италии с 1878 по 1900 г. Был убит анархистом.
[Закрыть]. Среди сотен имен герцогов, маркизов, графов и баронов есть с полдюжины имен еврейских аристократов, все они только недавно приобщились к знати, и родиной их названа Палестина. Некоторые из них похоронены на старом еврейском кладбище Турина. Похоже, что никому из них не удалось передать свои титулы потомкам на более чем столетний период, и это после двух тысяч лет скромной истории их семей под сенью иудаизма. Слава, приобретенная в современном мире за пределами гетто, съела, по-видимому, их племенную жизненную силу, не пощадив даже Ротшильдов. Надписи на памятниках этих знаменитых, влиятельных евреев, оставшихся без наследников, всегда означали для меня их вторую смерть вдобавок к первой, физической: «большая заслуга» «дорогих ушедших» перед их «неутешными близкими» состояла в самом факте их выхода из социальной конкуренции. Таким образом, большинство памятников лишены будущего – вихри жизни разбросали следующие поколения по разным местам, чаще всего – за забор, где хоронят выкрестов. Новая же часть кладбища подает тем не менее признаки жизни: могилы ухожены, цветы в вазах меняют часто, и иногда можно встретить родственников, наносящих визит усопшим.
Я часто прихожу на это кладбище, но не только по религиозным причинам. У нас, евреев, нет культа мертвых, потому что, как сказал Давид-псалмопевец, «мертвые не славят Всевышнего». Нас, прежде чем похоронить, кладут на мраморный стол и обрызгивают попеременно горячей и холодной водой, дабы убедиться, что мы на самом деле мертвы, а не просто потеряли сознание. Затем заворачивают в саван, а мужчин еще и накрывают талитом, с которого срезаны цицит, напоминающие нам, пока мы еще живы, о нашем долге перед Господом, и опускают нас в землю. У меня есть кузина – замечу, что она носит титул маркизы, – которая не верит, что некоторые сегодняшние мелкие привычки происходят от старых племенных обычаев, например завязывание узелка на носовом платке в качестве напоминания о чем-нибудь. Естественно, обычаи меняются и со временем, и с местом. В Израиле человек отправляется в последний путь на носилках, которые по очереди несут друзья. Прочие части обряда исполняются похоронным обществом, хевра кадиша, чьи сотрудники тем самым зарабатывают себе место на том свете и материальное вознаграждение – на этом. В Италии, где пользуются гробами, еврея везут, как и прочих, на катафалке, с которого снят крест и прочие христианские символы. Это быстрый и практичный способ продвижения к могиле. Такие похороны еще не достигли уровня мистификации смерти, как в Америке, но заметно ускорили процесс похорон, ранее игравших столь важную роль в обществе живых. В наше время, во всяком случае, никто уже не умирает: мы исчезаем из этого мира в результате прискорбного несчастного случая, который вообще не должен был произойти. Я вспоминаю изумление хирурга, оперировавшего мою мать, когда он внезапно увидел, что она умирает. «Я не понимаю, – сказал он мне, искренне веря в свои слова, – у нее не было причин умирать!»
В церемонии современных похорон – и на Западе, и на Востоке – мне всегда не хватает тех обязательных импозантных дрожек, запряженных хотя бы парой лошадей с черными попонами; впереди звучит музыка, а сзади развеваются флаги. Этими представлениями я более всего восхищался, будучи мальчишкой в итальянской деревне. Если усопший был важной персоной, то перед катафалком шагали музыканты, потом несли венки, следом женщины, распевающие псалмы, священники и прочие служители церкви. За гробом шли плачущие родственники и целая толпа, все одеты в лучшую воскресную одежду. В таких случаях мой отец говорил: «Стоило умереть». У евреев и мусульман нет такой помпы. Тело не кладут в гроб, люди толпятся по сторонам носилок с чувством близости, которое ничуть не преуменьшает ужаса перед внезапным исчезновением тела, скользнувшего в свежевырытую могилу. Memento mori, помни о смерти, или, по словам Бен-Сиры [34]34
Бен-Сира (Шимон бен Йегошуа бен Элеазар бен Сира), автор поэтического этико-дидактического сочинения, известного под названием «Премудрость Бен-Сиры», написанного на иврите ок. 170 г. до н. э.
[Закрыть], «во всех своих делах помни о конце» – вот жестокий смысл семитских похорон. Я часто спрашивал себя, не дает ли ассимилированным евреям эта разница в погребальном стиле дополнительный повод к перемене религии.
Наш фамильный мавзолей в новой части кладбища построен в соответствии с местной традицией: он состоит из большого подземного водонепроницаемого зала, в котором по периметру всех стен аккуратно подготовлены тридцать два места, одно над другим, а надземная часть была спланирована архитектором в современном элегантном стиле и радует глаз побегами роз, вьющимися вокруг четырехгранных столбов мавзолея. Я испытываю странное, не лишенное удовольствия, ощущение, сидя на широкой мраморной плите и глядя на свое собственное имя, такое же, как и имя моего деда, написанное железными буквами. Оно ждет меня долгие годы. Иногда я ощущаю пальцами эти буквы, подтверждающие переход моего предка, с которым я не был знаком, из этого мира в мир иной. Этот жест возвращает меня мыслями к моменту, когда я впервые потрогал выпуклую надпись «Советник посольства» на своей только что отпечатанной визитной карточке. Мой дед, банкир, чей отец жил еще в гетто в Ивреа, может быть, и мечтал о внуке-дипломате, служащем еврейскому государству. Теперь я знаю, что даже самые буйные фантазии могут стать реальностью, и все же, стоя перед плитой со своим собственным именем, я уверен, что рано или поздно любая реальность превращается в мечты, пришедшие в сновидениях прошлого.
Мои родители разбазарили в неудачных финансовых операциях свое солидное состояние, однако наш фамильный участок на кладбище доказывает, что хотя бы тут мой отец хорошо вложил деньги. Правда, когда он решил построить все эти ниши для своих родителей, детей и внуков, он был уверен, что несет ответственность за большую семью, которая со временем рассеялась по всему свету в смешанных браках и крещениях, так что к 2000 году в мавзолее было только двенадцать постоянных обитателей. В результате я оказался владельцем «резиденции», ценность которой возрастает с каждым годом благодаря постоянным обращениям со стороны. До сих пор я не продал ничего и никому, в том числе восьмидесятилетней даме, которая просила продать ей нишу, уверенная в том, что в нашем фамильном мавзолее она найдет в будущем лучших партнеров для бриджа, чем в своем собственном. «Так трудно было провести жизнь рядом со скучными людьми, и сама мысль о скуке с ними в вечности приводит меня в ужас», – сказала она, когда мы в последний раз обсуждали этот вопрос.
Побывав во многих странах, где существование живых зависит от умерших, я думал, что эта моя знакомая дама права. Разрыв между нашим миром и миром загробным, четко обозначенный иудео-христианской традицией, отнюдь не является общим для всех убеждением. Например, в области Гова в горах Мадагаскара считается, что чем богаче и важнее был усопший, тем чаще его семья чувствует себя обязанной вырыть его из могилы, обрядить в лучшие одежды и усадить в центр семейного празднества. Даже если французское колониальное законодательство положило конец, в особенности в летнее время, транспортировке, скажем, умершей бабушки на крыше автобуса или безвременно умершего дяди на багажнике велосипеда, ни один уважающий себя человек в этой стране не осмелится начать свою речь, не попросив разрешения у покойника и не извинившись заранее перед ним за глупости, которые он может сказать. Мы же, наоборот, имеем привычку приписывать мертвым, в особенности знаменитостям, с которыми не были знакомы и чьих идей не понимали, самые странные высказывания. Это неуважительное по отношению к умершим поведение особенно характерно для политиков и университетской профессуры. Им не худо бы поучиться мудрости у правительства Мадагаскара, которое, получив независимость от Франции, немедленно постановило, чтобы официальные адреса граждан совпадали с местом захоронения их умерших родственников, дабы они несли за все общую ответственность, в особенности в вопросах налогов и призыва в армию. Но не нужно отправляться на острова Индийского океана, как это сделал я, чтобы найти изумительные примеры близости между живыми и мертвыми. Так всегда было в нашей пьемонтской деревне. Самые дорогие места на местном кладбище те, откуда открывается наилучший вид на окрестные виноградники, славящиеся своим превосходным вином. Среди уроженцев Говоне был и кардинал, у которого был прекрасный семейный мавзолей на деревенском кладбище, под виноградником, принадлежавшим местному врачу. В свое время этот доктор делал лучшее в округе вино с помощью людей, которым он, по словам жителей деревни, помогал при переходе из этого мира в царство мертвых. Так вот, упомянутый кардинал настаивал на своем законном праве быть похороненным в церкви. Тем, кто с изумлением спрашивал его, зачем ему это нужно, ведь у него есть замечательный фамильный склеп, он отвечал, что при жизни он слишком страдал от ревматизма и поэтому хочет быть погребенным в теплом и сухом месте.
Луиджи, повар моего дяди, прекрасно понимал кардинала. Южанин Луиджи много путешествовал и всегда был не в ладах с грамматикой. Будучи не в состоянии самостоятельно заполнить официальную анкету, он попросил меня записать его профессию как «ваятель из масла». У него были все права на это звание, потому что большую часть жизни он провел, работая на придворных кухнях властителей Балкан. В этой бурлящей части Европы он, глядя из глубин кастрюль и соусников, пришел к твердым и мудрым заключениям касательно тех, кто с высоты своих дворцов вершит судьбами простых смертных. Он понял, что пища, как одежда и прическа, является формой языка, не зная, насколько его кулинарно-политический опыт приблизился к идеям Леви-Стросса [35]35
Клод Леви-Стросс (1908–2009), французский этнограф, социолог, культуролог, создатель школы структурализма в этнологии.
[Закрыть]о сыром и вареном. Луиджи убедился в том, что шеф-повар и поварята могут обмениваться ударами скалкой и прочими предметами кухонной утвари, споря о преимуществах различных типов борща и об определении кофе как «турецкого» или же, наоборот, «греческого», причем это происходит параллельно с дискуссиями о принципах, правах и религиях, которые властвующие особы ведут между собой в конференц-залах. Однажды он рассказал мне, как румынский шеф-повар отказался на одном из дипломатических митингов готовить цыплят в посуде болгар, а сербские судомойки настаивали на том, чтобы тарелки мыли македонцы.
Политическое соглашение, достигнутое на верхних этажах, нашло свое отражение на кухне в виде компромисса по поводу соусов, а также в форме большого мороженого торта, где каждый национальный флаг был тщательно выделан из засахаренных фруктов. Над этим великолепным символом международного согласия, сказал мне Луиджи, поглаживая усы, возвышалась изваянная им большая пятиконечная звезда из сахара, которую никто не осмеливался съесть, не зная наверняка ее политического смысла. Каждый из дипломатов опасался задеть чувства другого, вспоминая, может быть, какие трагические последствия для Балкан имела кража серебряной звезды из церкви Рождества в Вифлееме, косвенно приведшая к Крымской войне. На самом же деле добрый итальянский католик Луиджи, который был политически нейтрален и смотрел свысока на эти дрязги, просто подумал, что увенчать дипломатическое соглашение звездой будет приличествующим моменту жестом. Однако «ваятель» никогда не принимал моей исторической интерпретации – он был по-своему неисправимым романтиком. Впрочем, это ничуть не мешало ему требовать чаевые с каждого пришедшего гостя, не исключая и меня. При этом он сердился, когда я, будучи в стесненных обстоятельствах, отказывался взять у него денег взаймы. Он говорил: «Немало деньжат перешло из моих рук в руки Микеле. – Он имел в виду румынского князя Михая, впоследствии взошедшего на трон и дважды с него свергнутого. – А уж он нуждался в деньгах меньше вас». Он был прав! Лишь однажды, это было вскоре после окончания Второй мировой войны, когда мне отчаянно нужны были деньги на свадебный подарок сестре, я обратился к Луиджи с просьбой найти, под великим секретом, кого-нибудь, кто приобрел бы собранную мною за годы войны коллекцию оружия. «Ну конечно, – ответил Луиджи, – тут есть князь имярек, у которого вы, „англичане“, конфисковали всю его коллекцию, а он хочет собрать ее заново». Я дал ему два немецких маузера, длинноствольный пистолет для стрельбы по цели и «П-38». Луиджи спрятал их в сумку и через два дня принес мне связку банкнот. Это была единственная в моей жизни сделка по продаже оружия, и я до сих пор спрашиваю себя, было ли это достойным поступком.
Луиджи пришел в нашу семью, когда Муссолини попросил моего дядю помочь ему во введении политики автаркии, т. е. экономической самодостаточности, в области Карбония на острове Сардиния, где он мечтал создать копию немецкого Рура. В отличие от моего отца, изучавшего юриспруденцию и агрономию, у дяди не было образования. Он прошел курс коммерции, ездил в Германию учить немецкий язык и участвовал в создании компании «Фиат», которую оставил, когда будущий сенатор Аньелли сказал ему на хорошем пьемонтском диалекте: «В курятнике нет места для двух петухов». В начале Первой мировой войны он уже занимал высокую должность в банке «Кредита Итальяно». Призванный офицером в инженерные войска, он отличился и быстро поднялся по служебной лестнице, получив целый ряд французских, британских и итальянских орденов. Он участвовал в разработке экономической части мирного договора с Австрией и позже был замешан в крупном скандале по поводу железных рудников. Все это помогло ему встать на путь большого делового успеха, и через несколько лет он уже контролировал промышленную империю со штаб-квартирой в Триесте. Долгое время он оставался там холостяком, за которым больше всего охотились. Позже он встретил разведенную австриячку-христианку, на которой в возрасте пятидесяти лет решил жениться. С рождением двоих его детей я потерял свой особый статус, хотя всегда оставался его любимцем.