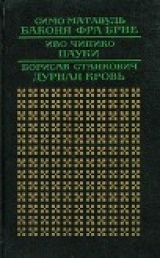
Текст книги "Дурная кровь"
Автор книги: Борисав Станкович
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
VI
В канун пасхи, в субботу вечером, Софка заметила, что у ворот, как и всегда в это время, появился старший сын Магды. Закупив в городе все, что ему было надо для дома, он на обратном пути завернул к ним.
Магда не пустила во двор его неказистую лошаденку. Вошел только он, а лошадь потихоньку, чтоб никто не видел, Магда провела за дом в самую глубину сада и, привязав к сухому дереву, оставила с охапкой сена подремывать, пока хозяин ее сделает положенное: нарубит дров, принесет из источника воду в больших сосудах, подметет двор и выполет траву перед домом… А к вечеру, когда начнет темнеть и весь город огласится блеяньем ягнят, он должен будет пойти и купить на свои деньги самого лучшего и откормленного ягненка, которого тут же, у ворот под тутовником, накинув на него старую, смазанную жиром веревку, заколет и освежует. Пролитая же кровь так и останется на камнях, чтобы завтра гости видели, что барашек заколот, а не куплен в мясной. Переделав все дела, уже совсем поздно, так и не показавшись на глаза хозяевам, он уедет в село. И, как всегда, можно будет слышать, как Магда, провожая сына, наставляет его:
– Завтра смотри встань пораньше, первым приди сюда с поздравлениями, да как следует приготовь поросенка и неси аккуратней, смотри ничего не забудь!
– Хорошо, маменька! – ответит тот, целуя матери руку.
– Да чтоб Стая (жена сына) не перепекла лепешки. Чтоб из лучшей муки делала. А мне нацеди да принеси кувшин нашей ракии: не могу я пить здешнюю, «городскую».
Порывисто обняв сына и горячо поцеловав его, она закончит:
– Ну, желаю вам встретить светлый праздник в счастье и добром здоровье! Всех поздравь! Чтоб все здоровы и веселы были!
– Спасибо, маменька! Хорошо, маменька! – ответит сын, украдкой целуя ей руку, чтобы Софка или ее мать не увидели и не высмеяли их «мужицкую» любовь; пойдет за дом, отвяжет лошадь, сядет на нее и уже в темноте отправится в деревню, довольный и веселый.
Мать и Магда всю ночь не спали, занятые стряпней и уборкой. Софка давно уже покончила с комнатами наверху; ее ждали обновы, сшитые из принесенного ситца. Короткая, довольно открытая безрукавка с желтой окантовкой и шальвары с кругами из того же золотисто-желтого шнура около карманов и внизу. Софка еще вчера их примеряла, чтобы посмотреть, впору ли они ей. Но они оказались неудобными, шнур и новая ткань еще не обмялись, топорщились и кололи. Шальвары словно не на нее шились: они стояли колом и были такими широкими, что она их на себе почти не чувствовала, и потому ей казалось, что на ней вообще нет ничего.
На другой день, на самую пасху, залитый солнцем, убранный и принаряженный дом рвался ввысь и сверкал своей старой пологой крышей с покосившимися, но чисто выбеленными трубами, протертыми окнами, вымытыми дверями на верхнем этаже и желтой, как воск, от частого мытья старой лестницей. С крыши дома открывался вид на поля, сады, нивы и дорогу, которая вела в город и, минуя их дом, подымалась к базару. Перед домом и за ним тянулся город с церковью, башней с часами, базарной площадью, холмами и виноградниками; все это можно было видеть с верхнего этажа, тогда как сам дом за высокими двустворчатыми воротами не был виден. Однако теперь, как обычно по праздникам, ворота были распахнуты настежь, створки подперты двумя большими камнями, и весь дом был на виду. Чистый, прибранный, выставленный словно напоказ, он был готов принять гостей из внешнего мира. И чем сильнее разгорался день, тем все ярче и горячее светило солнце, несся все более громкий и взволнованный перезвон колоколов, а из домов на улицы высыпало все больше людей, многие из которых направлялись к ним, а Софка, мать и Магда все более торопливо и испуганно метались по дому, бегая то вниз, то вверх по лестнице.
Они были готовы. Даже Магда оделась совсем как подобает: повязала голову новым платком и застегнула рубашку доверху. А ничего хуже застегнутой доверху рубашки она не знала. Кроме того, на ней была новешенькая широкая крестьянская юбка и на ногах новые чулки. Только вот туфель она так и не надела, и все из-за новых чулок, в которых и без того жарко. С улицы было видно, как она поминутно выбегала из кухни за дровами. Наверху, посреди гостиной, стояла, скрестив руки на поясе, мать. Она была в шелковой антерии и в новой тонкой шали. Возбужденная, радостная и немного испуганная, она беспрестанно шевелила губами, на ее округлом, полном лице выступил румянец. Не присаживаясь, она то и дело наливала себе кофе. Чтобы было мягче ступать и не было слышно шагов, в комнате, по случаю праздника, поверх циновок разостлали большой старый ковер с изречениями Соломона. Ковер не только покрывал всю комнату, но даже был велик для нее, так что его пришлось подогнуть по краям. По всем стенам тянулись диваны с подушками, покрытые мохнатыми красными ковриками, свисавшими до полу. На полках выстроились тарелки, кувшины, чашки, графины и прочая утварь для питья и угощения. Все это, правда из старого золота, было вымыто и начищено и выделялось своей яркой желтизной на фоне красных ковров. Помимо двух окон с короткими занавесками, выходившими на площадь и церковь, и двух на противоположной стене, смотревших на поля, сады и дорогу, комнату делали еще нарядней и просторней развешанные по выбеленным стенам легкие шелковые полотенца. Они были расшиты старинными узорами и золотом. Хотя они уже и потемнели от копоти, стоило кому-нибудь войти, открыть или закрыть дверь, как они приходили в движение, отчего в комнате всегда веяло холодком и свежестью.
Софка еще не совсем оделась и не спешила, так как знала, что первыми придут крестьяне, их бывшие испольщики.
И действительно, первыми пришли крестьяне. Они появлялись из сада, оставив там лошадей, и первым делом шли на кухню, причем каждый непременно с погачей или каким другим подарком. Затем робко поднимались наверх к матери и там, присев на корточки у стены и отодвинув ногами, чтобы не запачкать, ковер, с нетерпением ожидали конца церемонии, когда их обнесут угощением и поговорят с ними, чтобы снова вернуться на кухню, к Магде. Тут они рассаживались у очага на низенькие скамеечки и потягивали ракию, которую Магда грела и пила вместе с ними. Когда начали приходить городские гости, крестьяне то и дело, придерживая под собой скамеечки, приподымались, вытягивали шеи и с благоговением смотрели, кто как одет, как непринужденно гости поднимались по лестнице, располагались в комнате, пили и разговаривали, да так громко, что и у них на кухне было слышно.
Пока приходили крестьяне, Софка не одевалась. Она возилась внизу в спальне. Разглядывала свои наряды, сережки, выбирала, что надеть. Когда же звон колоколов стал расти и разливаться по городу заключительными аккордами, когда с улицы донесся шум шагов и громких разговоров и мать, увидевшая сверху, что перед церковью черно от выходившего народа, начала торопить Софку: «Скорей, Софка! Пора, Софка! Каждую минуту могут прийти!» – только тогда Софка принялась одеваться. Она почувствовала легкое волнение от прикосновения тонкой чистой рубашки, отливавшей желтизной шелка, от длинных шальвар, как все новые вещи, более тяжелых, чем обычно, и падавших от пояса крупными складками. Только вот с безрукавкой ей пришлось помучиться. Она была чересчур открытой и чересчур тесной; с трудом застегнув ее, Софка пошевелила плечами и бедрами – не лопнет ли где. Голову она небрежно повязала темной шелковой косынкой. В уши вдела материнские – семейные – золотые серьги с крупными дукатами, скрепленные тонкой и длинной золотой цепочкой с золотой же застежкой посередине, которую она приколола на затылке к платку, так что половина цепочки своим холодным прикосновением щекотала ей шею и спадала на плечи. Ей не захотелось причесываться гладко, и она оставила несколько завитков на лбу и несколько за ушами; это оттеняло лицо и делало его еще более овальным. Из цветов она выбрала лишь букетик свежих, сорванных в саду гиацинтов с белым тюльпаном посередине. Приколола их не около лба, как обычно, а на затылке. Увидев, как все это ей к лицу, она, улыбаясь, вышла на кухню, наполнив ее ароматом цветов.
Крестьяне встали в немом изумлении. Подошли было к ее руке, но она не дала. Все с той же улыбкой, щурясь от удовольствия, Софка в лаковых туфлях с пряжкой и на высоких каблуках, которые она очень любила, потому что в них шальвары не касались земли и не поднимали пыли, пошла к матери.
По обычаю, она поздравила мать с праздником и поцеловала ей руку. Мать, восхищенная, и пораженная, – кто знает, какие мысли пришли ей в голову, когда она увидела, как хороша ее дочь и как просто и со вкусом она одета, – осторожно обняла ее, чтобы не испортить и не помять прически или наряда, и поцеловала не в лоб, по-матерински, а в губы, как сестра.
– Воистину воскресе, доченька! С праздником и тебя, будь здорова и счастлива!
Софка с большим подносом, покрытым вышитым полотенцем, спустилась снова в кухню, чтобы расставить на нем стаканы и чашки для гостей.
Тем временем Магда выскочила из кухни и полетела к воротам. В воротах стоял «дедушка», поп Риста. Постукивая перед собой палкой, он шел, опираясь на плечо мальчика. Полуслепой, согбенный, с длинной, почти желтой от табака и чубуков бородой, с густыми седыми прядями волос на лице, священник трясся от старости и с беспокойством озирался, туда ли он попал. Изрядно поношенная ряса свободно болталась на его плечах.
Магда подошла к его руке и похристосовалась с ним. Он, мигая, пристально вглядывался в нее, силясь припомнить, кто это, так что Магда, переминаясь перед ним с ноги на ногу, сама помогла ему.
– Это я, дедушка. Я, Магда, Магда.
С трудом, словно сквозь сон, он вспомнил ее и хриплым от старости и затворнического бдения, но все еще громким голосом сказал:
– Ах, это ты, Магда? А я никак не мог тебя признать.
Магда повела его в дом. Мать торопливо, обрадованная, что он не забыл их и по-прежнему пришел навестить их первыми, сошла вниз и бросилась ему навстречу.
– Спасибо, дедушка! С праздником, дедушка!
Поцеловав ему руку и поддерживая его, она повела его уже сама. А он, трясясь, опираясь на ее руку и постукивая перед собой палкой, шел, бормоча словно спросонок:
– Ох, ох, Тодора! Как живешь, Тодора? Что поделываешь, Тодора?
Софка тоже выбежала, обрадованная его приходом, и поцеловала ему руку. Сопровождаемый женщинами, он подошел к лестнице и остановился.
– Не смогу я наверх. Лучше уж мне внизу, на кухне, остаться, трудно мне, – принялся он отговариваться.
– Сможешь, сможешь, дедушка.
Поддерживаемый обеими хозяйками, он полез наверх. Одну ногу старик легко ставил на ступеньку, а со второй дело шло хуже, он с трудом подымал ее и ставил рядом с первой. От него несло нюхательным табаком и еще каким-то застарелым сухим, дурманящим запахом. Когда наконец он доплелся наверх и его усадили на тахту, священник, почувствовав себя устойчиво, заговорил:
– Ну, как поживаете? Что поделываете? Живы, здоровы? А я вот, – продолжал он все тем же тягучим голосом, словно про себя, – никак не помру, никак на тот свет не попаду. И бога о том прошу, а он все не хочет меня прибрать. Тяжко мне, Тодора. Невмоготу прямо. Не вижу, не слышу, да и своим помеха.
Он стал жаловаться, как жалуются все дряхлые старики, не потому, что им надоело жить, а потому, что замечают, насколько они теперь лишние в доме, как все домашние махнули на них рукой, запрятав в дальнюю комнатушку. Пусть сидят там безвылазно да пьют и едят, что принесут; из-за старости и всевозможных немощей ни дочери, ни снохи за ними не ходят, даже в комнату боятся войти, одни слуги, и то только мужчины, имеют с ними дело. Но вдруг старик остановился, сообразив, что неладно, особенно в такой день, говорить о себе, и начал расспрашивать о хозяине, об эфенди Мите, которого он крестил, а потом и венчал с Тодорой и с отцом которого, свекром Тодоры, они были неразлучными друзьями с самого детства.
– А что мой Митица? Где он? Здоров ли? Почему никогда не зайдет повидаться со мной, когда приезжает? Сколько раз спрашивал я своих и о нем и о вас, а они то ли не отвечают, а может, и отвечают, да я не слышу и думаю, что они ничего не говорят.
– Здоров, дедушка, здоров! – кричала ему в ухо Тодора. – Три дня, как был от него один албанец. Всем кланяется, прислал немного денег к празднику, а Софке шелку и ситцу. Приехать еще не может. Дела не пускают.
Тут вошла Софка с подносом, и мать замолчала. Пока Софка угощала священника традиционным вареньем, улыбаясь его беспомощности, – он не видел, что она ему давала, пожелтевшие, костлявые пальцы его дрожали, и ей пришлось самой класть ему ложку в рот, – мать скрутила сигарету и, зажженную, вложила ему в пальцы. А когда Софка, зная его пристрастие, предложила ему не один стаканчик ракии, как прочим гостям, а поставила на столик, придвинутый к его коленям, сразу пять или шесть, и мать, не успевал он докуривать одну сигарету, уже потчевала его другой, – священник совсем разомлел, распахнул рясу и, блаженствуя, принялся благословлять хозяев, какими только ласковыми именами их не называя.
Однако мальчик, который его привел, стал кричать снизу, что им пора домой. Софка и Тодора тут же поняли, что старику больше не надо давать пить, что домашние послали мальчика не только как поводыря, но и с тем, чтобы тот не разрешал старику засиживаться, – боялись, как бы он не вошел во вкус и не отправился с поздравлениями по другим домам, где бы и напился. Они знали, что, представься старику случай, он не упустит его; несмотря на старость, он был прожорлив, как ребенок.
Теперь он двигался легче и свободней, и не столько из-за того, что его поддерживали Тодора и Софка, сколько из-за ракии и из-за того, что он не поднимался, а спускался. Он сошел почти самостоятельно. Проводив его до ворот, Софка и Тодора видели, как он, согбенный, опираясь на палку, идет, не позволяя мальчику вести себя и даже размахивая свободной рукой.
В это время стали приходить разные тетки, дядья и соседи. Появились и музыканты. Их угощала внизу Магда, она же им говорила, что играть и как долго, и сама их провожала.
Дом наполнили гости. Софка то и дело спускалась в кухню за ракией и кофе. Вскоре полка в гостиной была полна принесенных апельсинов и лимонов. Дети на кухне получали от Магды красные яички и пирожные. Мать, сияя от счастья, потчевала гостей табаком и каждому рассказывала о муже, об эфенди Мите. И делала она это с таким усердием и восторгом, словно он только сейчас вышел из комнаты по какому-то делу.
Софка, тоже радостная и счастливая, бегала вниз и вверх по лестнице. В новом наряде, раскрасневшаяся от беготни, она, улыбаясь, потчевала гостей, стараясь не замарать платья. Больше всего забот ей доставляла чересчур открытая и тесная безрукавка. Нагибаясь у очага, чтобы налить кофе в чашки, она должна была все время оттягивать рубашку, иначе та поднималась, раздвигалась и открывала грудь с темной ложбинкой посередине. Когда она двигала рукой, расставляя чашки на подносе, то под безрукавкой, слегка вырезанной на спине и под мышками, отчетливо выделялась округлая лопатка.
Обедали поздно и не вместе. Из-за множества гостей мать поела внизу, даже не присаживаясь, а потом, пока обедала Софка, сидела наверху и принимала гостей. Приходили и после обеда. Вся родня без исключения перебывала у них в этот день, ни один человек не забыл о них. А уж когда прошел слух, что приезжал посланный хозяина, то и вечером, до глубокой ночи, продолжали приходить с поздравлениями.
VII
Сразу вслед за посланным отца, первым после стольких лет перерыва, к их радости, но еще к большему удивлению, стали наезжать и другие, привозя поклоны и сообщения, что он здоров.
Между тем Софка видела, что мать все же не радуется этому, как следовало ожидать: неожиданно частые появления гонцов, поклоны, привозимые ими от отца, их непривычная нежность начали смущать ее и тревожить. Мать жила в постоянном страхе и трепете. Софка скоро поняла, в чем дело. Мать давно уже примирилась с мыслью, что рано или поздно все выйдет наружу, что отец окончательно их покинет, если не явно, то, во всяком случае, тайно; что он, так и не вернувшись к ним и не подавая о себе вестей, умрет, умрет предумышленно, насильственной смертью, чтобы этим поступком скрыть и от них, и от всего света подлинную суть вещей…
Но когда стали появляться его посланцы, причем не один, а уже третий и четвертый, мать испугалась, решив, что эта внезапная нежность вызвана болезнью. Наверное, он тяжело заболел и, предчувствуя скорую смерть на чужбине, в одиночестве, хочет этим как бы приблизиться к ним, дать им понять, что, хотя он и оставил их, они ему дороже всего на свете. И Софка видела, что мать, уверенная, что отец лежит при смерти и потому, как бы прощаясь с ними, шлет гонцов, и, не находя тому подтверждения у самих гонцов, ибо все они говорили, что он здоров, а между тем она твердо знала, что он им просто приказал так говорить, тайком от всех и даже от Софки послала к нему своего человека, крестьянина, которого ей нашла Магда. Чтобы тот не догадался, зачем его посылают, мать устроила так, будто его посылает не она, а Магда. Разумеется, когда он перейдет турецкую границу и найдет эфенди Миту, на глаза ему он не должен показываться. Достаточно только узнать, здоров ли он, на ногах ли, и ничего больше. Никаких расспросов: как выглядит, как одет, где живет, с кем видится. Крестьянин отправился, как ему было сказано, нашел эфенди Миту и удостоверился, что тот здоров. Этого было достаточно.
Но больше всего успокоило мать то, что крестьянин встретил эфенди Миту, к своему удивлению, сразу, как только перешел границу, в одном из придорожных постоялых дворов. Значит, он был совсем близко, а не бог весть где, быть может, даже у моря, как они думали.
Но успокоилась мать ненадолго. Отец не только продолжал слать гонцов с поклонами, но иногда начал и в самом деле присылать немного денег и подарки для Софки, чем прежде они так любили хвастаться. Это еще больше напугало мать. Она знала, что ни о каких прибылях и заработках не могло быть и речи. Но, зная также и то, что если он решится на что-нибудь, пусть даже на самое плохое и страшное, то пойдет на все и ей останется только покориться, она от страха и дурных предчувствий чуть не заболела. Никакие все более прочувствованные приветы и щедрые подарки не помогали.
И когда однажды вечером неожиданно нагрянул посланный и по секрету сообщил матери, что они могут надеяться на скорый приезд отца, что не сегодня завтра он наверняка приедет, но что он приказал, чтобы никто об этом не знал и никого из посторонних в доме не было, мать совсем растерялась и едва не лишилась чувств от страха. Но стоило Магде радостно вскрикнуть и побежать к воротам, чтобы, по обыкновению, все разболтать соседям, как мать вскочила и бросилась к ней; чуть не задушив ее в своих объятиях, она шепнула ей так тихо, чтобы даже Софка не слышала:
– Молчи! Почем знать, зачем он приезжает!
Опасаясь, как бы сумасшедшая Магда не вырвалась и не побежала трубить по всему околотку, она почти втолкнула ее в кухню и там заперла. Сама же, перепуганная, не зная, что делать, стала ходить взад и вперед по саду перед домом.
Софка поняла, почему мать так перепугалась, – то, чего она раньше только боялась, сбылось: отец продал дом. Поэтому он посылал с нарочным деньги и подарки, а теперь вот приезжает, чтобы передать дом покупателю, а их увезти с собой в Турцию.
Отец приехал в ту же ночь.
Все было, как он приказал. Никакого освещения. Все двери в доме были закрыты и только наверху, в гостиной, горела лампа, и то прикрученная, чтобы меньше привлекать внимания.
Когда в полночь запели петухи и все вокруг погрузилось во мрак и тишину, раздался стук дверного кольца. Стук был такой легкий и тихий, что у Софки сердце замерло при мысли, что это он. Мать, уже готовая ко всему, почти спокойно поднялась и пошла отворять. Магда же, потеряв голову от волнения, трижды споткнулась, разбила кувшин на кухне и на неверных ногах выбежала в сад за дом.
А от ворот послышался тихий, спокойный голос:
– Ну как? Все живы-здоровы?
Софка, ожидавшая отца на пороге с высоко поднятой над головой свечой, так и замерла, услыхав голос у ворот, не в силах двинуться с места. Слезы душили ее. Ей хотелось броситься навстречу отцу, повиснуть у него на шее, обнять и от радости, что он наконец здесь, после стольких мучений, которые они из-за него претерпели, выплакаться у него на груди.
– Папенька, папенька милый!
А он, как нарочно, шел с матерью от ворот медленно-медленно. Шел спокойно, отряхивая и разглаживая штаны, смятые в экипаже, словно он только сегодня уезжал куда-то по делу и теперь вот возвращается.
Мать молча шла за ним и освещала дорогу. Продолжая отряхиваться, он окидывал взглядом двор и, узнавая в темноте отдельные предметы – сирийский тутовник у ворот, лестницу, а под ней дверь в погреб, – говорил как бы про себя:
– А… все на своем месте!
Когда отец подошел к Софке, она вспотевшей от волнения рукой взяла его худую и холодную руку, поцеловала и проговорила:
– Добро пожаловать, папа!
От неожиданности он отпрянул, но потом взял себя в руки. Он словно не ожидал, что она так выросла и похорошела, но, удивляясь и любуясь ею, он только похлопал ее по щеке, поцеловал в голову и сказал:
– Как поживаешь, доченька?
И вошел в дом. Всем было невыносимо тяжело. Мать шла за ним словно окаменелая. Он все еще оторопело озирался, оглядывая кухню, ряды посуды на полках, соседнюю комнату.
Отец принес с собой в дом лишь крепкий запах нюхательного табака да лежалого пропыленного платья: широких штанов, короткой верхней куртки и минтана с широкими рукавами. Все это, как и прежде, было из сукна. И хотя ряды тесьмы, начинавшиеся у пояса и спускавшиеся по краям минтана, при свете свечи лоснились, сам минтан был шелковый и дорогой. Отец очень переменился. Лоб стал более выпуклый, лицо как-то сузилось, в подстриженных усах появилась проседь, на морщинистой и чуть подбритой шее, по-прежнему обмотанной чистым белым платком, сильнее выступал кадык. Только рот все еще был свежий и влажный.
Софка ожидала, что, когда приедет отец, объятиям, поцелуям и восклицаниям конца не будет, а вместо этого с каждой минутой усиливалась тишина, тягостная неловкость и мучительное безмолвие. И только когда Магда, не смея войти, пока ее не позовут, нарочно стала возиться на кухне, отец, услышав шум, испуганно вздрогнул и, выйдя из нижней комнаты, пошел наверх, в свою комнату.
– Кто там еще? – спросил он.
– Магда.
Он обрадовался, правда не столько Магде, сколько тому, что это был не посторонний человек, который мог бы его увидеть.
– Магда? Разве она еще тут?
К великому огорчению Магды, это было все, что он сказал. Он даже не позвал ее.
А поутру отца уже и след простыл. Бог знает когда, ночью или на заре, он уехал обратно. Но что всего больше удивило и смутило Софку – это мать. Раньше после отъезда отца она бывала встревожена и напугана и на другой день ходила по кухне, тяжело вздыхая. Но на этот раз Софка, проснувшись, не увидела матери ни возле себя, в спальне, ни на кухне. Мать еще не спускалась. Софка, придумав предлог, пошла наверх и увидела, что мать сидит на подушке около постели. Она была неодета, лишь с колией на плечах поверх антерии, без платка. Рядом с ней валялось отброшенное одеяло, смятая простыня, на ковре виднелись следы пропыленных ног отца. Возле подушек стояли блюдечки с табаком, обгоревшими спичками, подсвечник с догоревшей и заплывшей свечой, кувшин с застоявшейся вчерашней водой. Было душно. Занавеси и окна еще не открывались. И Софка поняла, что мать не провожала отца; потому что, если бы она выходила из дома, то, вернувшись, она не могла бы не заметить духоты и табачного дыма и непременно бы проветрила комнату. Но раз она его не провожала, значит, между ними произошло что-то важное и страшное. Наверное, он продал дом и сказал ей об этом. Потому-то она и не может до сих пор прийти в себя. Не может примириться с тем, что должна будет покинуть дом и идти за ним в Турцию или еще бог знает куда.
Софке же стало казаться, что это даже к лучшему. Во всяком случае, лично ей будет на чужбине легче, там никто не знает, кто она и что.
А что она не ошиблась в своей догадке, ей помогла увериться и сама мать. Как только она заметила, что Софка поднимается к ней с каким-то пустячным делом, а в сущности, только чтобы увидеть ее и постараться по ее лицу дознаться, что произошло, как, когда и почему отец опять уехал, она, чтобы избежать ответов на все эти вопросы, не меняя позы и пряча глаза от дочери, сказала только:
– Скоро опять приедет!
Так она и просидела наверху целый день. Не спускалась, не показывалась, словно занемогла. Сошла она лишь на другой день и тут же почти силой погнала Магду под каким-то предлогом в деревню. Софка поняла, что мать боится, что Магда не удержится и разболтает соседям о приезде отца. А между тем в прежние времена мать, наоборот, после отъезда отца нарочно задерживала Магду, уверенная, что в несколько дней, слоняясь по соседям, она оповестит весь город о приезде хозяина и о якобы привезенных им богатых подарках. Тогда это было необходимо, потому что рассказы Магды служили явным подтверждением того, что отец их не бросил, не покинул. И то, что на этот раз мать услала Магду в деревню, Софка восприняла как лишнее доказательство того, что отец в самом деле продал дом. И приезжал затем, чтобы сообщить об этом матери. И наверняка из-за этого сегодня ночью между родителями, должно быть впервые, произошла ссора. Может быть, первый раз в жизни мать воспротивилась, не соглашалась и все ему выложила, а отец, очевидно рассердившись, сразу уехал. И тогда она, тоже впервые, не вышла за ним, чтобы проводить его до ворот и посветить ему, а, словно окаменев, осталась сидеть в одной антерии на постели, где ее и застала Софка. Чтобы не рассказывать Софке подробно, как и когда он уехал, и чтобы по голосу она не поняла больше, чем следует, мать и ответила ей коротко и сухо: «Приедет!»
Что отец действительно продал дом, стало ясно и из дальнейшего. Прежде всего, он обещал опять приехать. Значит, в этот раз он приезжал только для того, чтобы объявить обо всем матери, чтобы у нее было достаточно времени собраться и распорядиться насчет вещей и чтобы, когда он приедет уже вместе с покупателем, можно было немедленно передать ему дом, получить остаток денег и, забрав вещи и мебель, тут же уехать.
Дальнейшее поведение матери только подтвердило догадки Софки. Отныне комнаты верхнего этажа были всегда убраны и готовы к приему гостей. Все сундуки и шкафы открыты, и содержимое их – покрывала, полотенца, ковры и вышивки – тщательно проветривалось и не пряталось снова, как бывало прежде, а развешивалось и раскладывалось наверху по стенам и тахтам. Так было удобнее. Во-первых, в случае отъезда можно будет быстро все собрать, уложить и увезти, а во-вторых, когда приедет тот чужестранец, ему будет что показать: пусть не считает, что они принуждены продавать дом из-за бедности, не то еще передумает и сбавит цену. А так, видя, как хорошо содержится дом, как красиво убраны комнаты, покупатель решит, что они просто не хотят тут больше жить и продают дом, чтобы переехать в другое место, а вовсе не потому, что их толкает на это нужда. Будь это так, продав только ковры и мебель, они могли бы прожить несколько лет. И самому покупателю будет приятно покупать такой богатый и роскошно убранный дом, зная, что его продают не из-за бедности. Все будет выглядеть так, будто они продают этот дом из особого расположения к нему, как к «своему человеку», своего рода слуге или наследнику, которому отдают дом за гораздо меньшую цену, не ради прибыли, а чтобы помочь новоприбывшему – да еще чужестранцу, встать на ноги, обзавестись домом и сделаться заправским хозяином.
Потому-то вся возня матери с уборкой и украшением дома накануне его продажи и нравилась Софке. Она тоже помогала матери, чистила и приводила в порядок двор и сад, чтобы покупатель не заметил какого-нибудь хлама или рухляди, как бывает у простолюдинов, которые, прежде чем выселиться, все издырявят, попортят, а балки, потолочные доски и даже пороги снимут и увезут с собой.
Родственники, по-видимому, обо всем прослышали. Уж кто им рассказал, один бог знает. Софка понимала, что, несмотря на все старания, тайное неизбежно становилось явным. Как только родичи заметили, что дом украшается и прибирается, – словно догадавшись, в чем дело, они стали ежедневно наведываться. Как знать, может быть, мать тайком от Софки сама позвала их и сообщила им роковую весть, умоляя пощадить дочь и ничего не говорить ей до последней минуты.
Именно этим Софка и объясняла себе их странное, необыкновенное теплое к ней отношение. Все они, выходя от матери с убитым видом, не спускали глаз с девушки, словно больше всего сожалели о том, что их покидает Софка, что они ее больше не увидят и что ей, ни в чем не повинной, придется страдать на чужбине.
Одна только тетя Стоя не поддалась общему настроению. Она пришла, расцеловалась с Софкой внизу, и там и осталась, и, лишь наговорившись с ней досыта, пошла наверх к матери и остальным женщинам. Но скоро, очевидно как только тетка узнала о продаже дома, до Софки донеслись ее шумные протесты и брань.
Напрасно женщины, и особенно мать, старались унять ее, чтобы она не кричала и не бранилась так громко – не дай бог Софка внизу услышит, – ничего не помогало. Временами, когда наверху распахивалась дверь, Софка слышала крик, шум и ругань. Все это явно относилось к ее отцу.
– Замолчи!
– Не буду молчать, ну вас! – слышался прерывистый, приглушенный крик тетки, словно множество рук пытались заткнуть ей рот. – Знаю я. Вы думаете, не знаю? Все вижу. Неужели до этого дошло? Неужели она (видимо, Софка) не достойна ничего лучшего? Ну, так я буду и кормить и беречь ее. А ты-то, ты? (Эти слова, видимо, относились к матери.) Языка нет, говорить не умеешь? Почему ничего ему не сказала? Как же, муж он тебе! Лишь бы дорогой муженек был рядышком, а остальное все трын-трава!..
Софка слыхала, что после этих слов на тетку еще больше накинулись и силой заставили ее замолчать.








