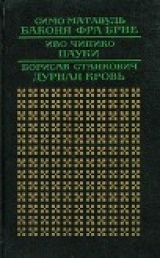
Текст книги "Дурная кровь"
Автор книги: Борисав Станкович
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
XXVI
Понемногу Софка начала вставать, и не потому, что лучше себя чувствовала, а чтобы успокоить семью и особенно свекровь. Правда, выходила она из своей комнаты только к обеду, осунувшаяся, с повязанной головой, опухшими глазами, воспаленные губы ее дрожали, уголки рта были опущены, словно она вот-вот заплачет. Но теперь горе ушло внутрь, слезы сделались тихими, умиротворенными, которые порой бывали даже приятны.
С каждым днем Софка поправлялась и успокаивалась. Из ее родных никто – ни отец, ни мать, будто сознавая свою вину, не приходили. А ее послесвадебной горячке не придавалось никакого значения. Это считалось в порядке вещей. Предоставленная сама себе, Софка постепенно возвращалась к жизни. Начала ходить по дому и даже работать. Стала одеваться, прихорашиваться, носить в волосах цветы, вновь ослепляя и поражая свекровь и всех домашних своей пышной красотой, ставшей еще ярче. Как и у себя дома, она ходила полуодетая, распоясанная, и это еще больше подчеркивало ее талию и крутые бедра. Свекровь не могла на нее нарадоваться. Когда Софка, хлопоча у очага, наклонялась, отчего красота плеч, груди и закинутых назад волос проступала еще сильнее, свекровь, сидя рядом, не могла удержаться, чтобы осторожно и робко, словно боясь повредить, не поправить на ней платье, при этом с особым удовольствием она придерживала ей шальвары у колен, чтобы они не запачкались о пепел. Целыми днями свекровь готова была сидеть в Софкиной комнате, забившись в угол, и смотреть, как Софка разбирает вещи, вынимает из сундука платья, безрукавки, нарядные рубашки, шелковые платки.
Так проходили дни. Спать ложились рано. За долгие одинокие ночи можно было вволю наотдыхаться, зная, что завтра все начнется сызнова. И не будь воспоминаний о той страшной ночи, о свекре и о его последующем исчезновении, было бы, наверное, совсем хорошо. Но и это стало как будто забываться. Софка начала его даже оправдывать. Он был пьян, свекровь со стряпухой не сумели с ним как следует поговорить, вот он и не давал новобрачным войти в их комнату, а вовсе не потому, что у него были дурные намерения. Но почему же он, как уехал на границу, так и не возвращается, пусть не для того, чтобы извиниться перед Софкой, но хотя бы для того, чтобы людей, а особенно ее родных, убедить в том, что ничего не произошло!
Но пришло и это. Однажды в сумерки прискакал длинноногий горец на коне, покрытом попоной со старым деревянным седлом. На голом животе горца болтался пояс, за который был заткнут длинный черный пистолет.
Спешившись, крестьянин не привязал коня, не затянул пояс, не привел себя в порядок, а как был, вытирая ладонью пот с длинной шеи, прошел прямо на кухню. Софка, подняв руки, в которых у нее что-то было, встретила его стоя. Свекровь, как всегда спокойная и сосредоточенная, сидела за Софкой, у самых дверей в большую горницу. Софка, хотя давно уже предчувствовала, что это еще не конец, что должно произойти что-то еще более ужасное, оцепенела от страха: горец, не дойдя до нее, с порога начал бормотать сквозь слезы:
– Хозяйка, послали меня, значит, сказать, что хозяин убит. Убит хозяин, хозяйка! – повторял он, беспрестанно утирая пот с худого лица и длинной шеи.
Софка почувствовала, что у нее подкосились ноги и глаза словно огнем опалило. По выражению лица и по глазам крестьянина было ясно, что он говорил правду. Свекровь, поднявшись, испуганно хваталась правой рукой за косяк двери, пытаясь удержаться на ногах, но тщетно – она стала клониться набок, и, всплеснув руками, грохнулась на пол. Мелькнули белые рукава рубашки и послышался слабый вскрик:
– Спасите, люди!
Софка поняла, что эти слова свекрови были последней попыткой защититься и от убийцы-албанца, и от приехавшего гонца, и от Софки, и от всего света, от всего, что вдруг, словно сговорившись, обрушилось на ее дом и вот теперь совсем сгубило.
Едва держась на ногах, запинаясь, Софка стала расспрашивать крестьянина:
– Как? Где?
– Не знаю, хозяйка. – Крестьянин, не меняя позы и по-прежнему утирая пот и слезы, рассказывал: – Два дня тому назад, вечером, почти ночью, принесли его, раненого, от албанцев. Пуля застряла в животе. Был он, правда, без памяти, но еще живой. Мы повезли его. Приехали в Корбевац и положили его в корчме, стали запрягать других волов, – на лошадях нельзя, больно трясет… кто же знал, что он над собой сделает! А он пришел в себя, огляделся, сорвал повязки, рана открылась, кровь хлынула, – так и умер. Меня послали сказать вам, чтобы вы приготовились, и велели остаться у вас и помочь в чем, если надо.
Тут вбежал запыхавшийся Арса и, услышав роковую весть, так и сел на землю.
– А ты? А вы все? – заорал он на крестьянина.
– Эх, Арса! – продолжал плачущим голосом крестьянин, поняв восклицание слуги как укор: где же были слуги и остальные крестьяне, как они могли допустить эдакое, не уберегли, не защитили хозяина, жизнь свою за него не положили. – Да разве мы думали, Арса? Ведь ты знаешь его. Как приехал со свадьбы, таким ласковым прикинулся. Никому дурного слова не сказал. А когда мы увидели, как далеко он зашел за нашу границу, и пошли за ним, он заметил, что мы идем за ним, охраняем его, и чуть не убил нас. После этого уж никто не смел за ним и шагу ступить. И вот… теперь… так-то!
Из этих слов Софка поняла, что причина всему она. Из-за нее Марко пошел искать смерти к албанцам. А увидев, что он еще жив, не желая возвращаться домой, на глаза Софке, перед которой ему пришлось бы краснеть, – оставшись один, сорвал пояса и повязку и вот и истек кровью.
Не глядя ни на свекровь, которая все еще лежала на пороге, ни на крестьянина, стоявшего столбом посреди кухни, как бы делившего ее пополам и четко вырисовывавшегося на фоне полок с подносами и тарелками, Софка с тяжелой головой, которую она с трудом держала на плечах, шатаясь, пошла в свою боковушку, которая сейчас показалась ей мрачной и глубокой могилой.
Дом снова наполнился соседями, торговцами с базара, снова кругом кишели люди. Свекровь подняли, облили водой и унесли в комнату.
Крестьянин продолжал стоять посреди кухни и на все изумленные восклицания, вздыхая, отвечал одно и то же:
– Так вот… Хозяин… Умер…
С наступлением ночи стало еще тяжелее. Начали появляться крестьяне, родственники из Турции и окрестных деревень. Все прибывали взволнованные и встревоженные, кто пешком, кто верхом или в повозке – как кто сумел. Всю ночь приходили люди – и те, что были на свадьбе, и многие другие. И каждый, входя в ворота, с тяжелым вздохом говорил:
– Эх, братец!
В дом, на кухню или в комнаты не входили, оставались во дворе и, пристроившись на корточках у стен, сидели, понурив голову и сложив руки на груди.
Арса мертвецки напился, чего прежде с ним никогда не бывало. Ничего не хотел слушать и только грозил албанцу Ахмету, так как был уверен, что убийца он.
– Ах, Ахмет! Ах, сукин сын! Ах, собака!.. Говорил я хозяину: «Пусти меня, хозяин, дай мне его прикончить, кровушки его хлебнуть!» А он: «Сиди, Арса, дома, иди в город и смотри за домом, довольно снятых голов и крови!» Вот тебе и дом! – И, подняв руки в сторону дома, словно разбирал его, снимал крышу и трубы, Арса продолжал: – Вот тебе и голова! – В пьяной ярости осыпая ударами собственную голову и шею, он шел к воротам и, возвращаясь назад, еще громче и злее поносил Ахмета, пока наконец не напустился с бранью на самого покойного своего хозяина Марко. – Так ему и надо! Как он, хозяин, мог позволить, чтоб его убил эдакий пес поганый? А я, Арса, конечно, ничего не понимаю! Арса дурак, Арса болван!.. Говорил ведь тебе Арса, просил отпустить, чтобы свернуть той собаке голову, как куренку, а ты что? «Не надо, Арса, сиди дома, Арса…» Вот Арса и сидел дома, у очага, а ты и потерял голову! Так-то! Да, так-то вот!
На все укоры крестьян, почему он не идет в дом, не поможет там, может, хозяйке что надо, Арса отвечал:
– Пусть и она умирает! – и не хотел даже рукой пошевелить, хотя без него ничего нельзя было сделать. – Не буду, и все тут! – заявил Арса, бросив им ключи, пусть что хотят, то и делают…
Но когда поздней ночью настежь распахнулись освещенные ворота и в них показалась громоздкая ломовая телега, которую тащили два здоровых старых черных буйвола и в которой на куче мягкой и свежей соломы чернело вытянувшееся, неподвижное, покрытое широким гунем тело Марко, Арса никому не позволил подступиться с ней и сам снял хозяина. Сгибаясь под тяжестью покойного, обняв его вытянутые, окоченелые, мертвые колени, понес его на неверных ногах, всхлипывая и приговаривая:
– Ох, хозяин! Ох, хозяин!
Он шел, беспрерывно спотыкаясь, хотя другие бросились ему помогать, придерживая покойника за плечи и за безжизненно качающуюся голову. Но Арса все же сам внес своего хозяина в дом, положил его на пол, на белую простыню, голову устроил на подушке, а руки сложил крест-накрест на груди. Но, поцеловав его короткие, толстые руки, от которых ему столько пришлось претерпеть, которых он боялся всю жизнь, он стремглав выбежал из дома, грохнулся на землю, как ребенок, и разразился горючими, неудержимыми рыданиями. А из комнаты, где лежал Марко, освещенный мерцающим пламенем свечей, неслись громкие причитания и плач женщин. Особенно выделялись голоса крестьянок, бесчисленных теток покойного. Они кричали громко и монотонно, и от их воплей, казалось, и дом и крыша сейчас обрушатся.
– Ох, горе, братец! Горе мне, братец! Кто нас теперь, братец, защитит, кто о нас, братец, позаботится?
Приезжавшие верхом спешивались, шли в комнату, где лежал покойник, ставили свечку и, поцеловав икону, вложенную в скрещенные на груди руки, на цыпочках, с непокрытой головой, выходили к остальным и присаживались на корточках у стены дома. Больше всего народа сидело за домом, под окнами большой горницы; скрытые от любопытных взоров горожан, подавленные происшедшим, люди свободно предавались своему горю и отчаянию.
– Ох, братец! – то и дело раздавался стон.
Ибо все они, хотя Марко, может, и заглянул к ним в дом один раз в жизни и, уж конечно, никому не помог, поскольку все жили порознь, все они, пока он был жив, чувствовали себя как за каменной стеной под защитой его сурового и строгого взгляда. Теперь же, когда его не стало, они оказались словно без головы, так как над ними уже не было человека, в одном имени которого заключалась их сила, защита и безопасность. Ведь достаточно было сказать: «Это дядя, дедушка или родственник газды Марко», – как все, будь то соседи или вовсе чужаки, начинали относиться по-другому, становились сдержаннее и любезней. Теперь же с его внезапной смертью они почувствовали себя сиротами, отданными на милость и немилость первому встречному.
И когда глубокой ночью поднялась луна и ее косые белые лучи, изрезанные черными силуэтами соседних оград, проникли в дом, поглотив даже свет пламени в очаге, Софке не то что стало казаться, а ею просто овладела уверенность, что все это неправда. Марко вовсе не умер, а дом стоит не тут, в городе, среди других домов, а где-то далеко, на каком-то желтом песке пустыни, что все это, слившись воедино, движется вместе с лунным сиянием. Движется и она в своей комнатушке, скорчившись на сундуке; движутся и конюшня и лошади, испуская ржание и кусая друг друга; движутся и лежащие за домом, под окном, обратив к лунному свету лица, сморенные усталостью крестьяне; движется в горнице и сам покойник со скрещенными руками и подвязанной челюстью, освещенный свечами и окруженный женщинами; свекровь сникла у изголовья, совсем позабыв о плаче и причитаниях; не спуская руки с его ледяного лба, она точно играет прядями его темных волос, гладя и поправляя их возле ушей.
На другой день были похороны. Только тогда появились и родные Софки. Но она, напуганная, что ей придется с каждым разговаривать и в комнату набьется народ, не встала с постели. Лишь мать зашла к ней, остальные толпились у дверей, загораживая их собой, чтобы она не видела, когда будут проносить покойника. Согласно обычаю, молодуха не должна видеть похорон, а тем более самого покойника, чтоб не родить, если она уже забеременела, больного или уродливого ребенка.
XXVII
Как она предполагала, так и случилось. Миновало два и три года, а Софке продолжало казаться, что все это было совсем недавно, – и месяца не прошло.
После похорон Марко всю осень и зиму ходили на кладбище. С наступлением осенней слякоти, нескончаемых дождей и буранов отчасти из-за непогоды, но главным образом по причине траура семья жила в полном уединении. По-прежнему напуганные и потрясенные внезапной, загадочной смертью хозяина, они аккуратно ходили на его могилу, служили панихиды. И это постоянное хождение на кладбище, совестливое исполнение долга по отношению к умершему утишало горе. И как ни странно, именно потому, что на его могиле делалось все, как положено, сам Марко стал постепенно забываться и исчезать из памяти.
Первое время к Софке приходила только мать. Но то ли потому, что это было вскоре после похорон и Софка еще чувствовала в доме присутствие покойного, то ли по какой иной причине каждый раз, когда приходила мать, она волновалась и пугалась. Мать это заметила и стала ходить реже, больше чтоб не нарушать обычай, а не потому, что ей приятно было видеть дочь.
Прошло время, и хотя Софке по-прежнему казалось, что все произошло только вчера, она поняла, что со временем все должно переболеть, улечься и позабыться. Правда, на душе все еще было очень тяжело, хуже быть не может, и, однако, кто знает, вдруг…
В доме с нее глаз не спускали. Ухаживали за ней, угождали, думали только о том, чтоб ей было хорошо. Она могла готовить то, что хотела, и столько, сколько хотела. Свекровь после смерти Марко, с которым была связана вся ее жизнь, причем жизнь в Турции, в деревне (жизнь в городе, где он оставил ее одну, среди чужих людей, для нее была уже не жизнь), находилась в таком подавленном и напуганном состоянии, что не имела никаких мыслей или желаний. Пусть весь дом прахом пойдет, она даже не заметит. Позднее, когда старуха наконец пришла в себя, осознала свою вину перед Софкой, она, стремясь ее загладить, принялась увиваться вокруг Софки, всячески ей угождая.

Так же и слуги, а особенно Арса. За одно доброе слово он был готов денно и нощно выполнять ее приказания. Он почитал за счастье, если мог прийти к ней и доложить, что так-то и так-то выполнил ее приказания, и получить улыбку одобрения.
Софка была полновластной хозяйкой. И не только в доме. И фруктовыми деревьями за домом распоряжалась она. Их, правда, было немного, сад был загроможден поленницами и кучами камней. Когда абрикосы и яблоки созревали и начинали падать, поскольку никто из домашних и смотреть на них не хотел, то можно было слышать, как слуги и поденщики, прежде чем съесть самим, подбивали друг друга:
– Пойди-ка, брат, пусть сношенька придет попробует. Пусть скажет, поспели ли?
Так же относились к Софке и соседи. Для всей этой окраины, еще не до конца заселенной, куда перебирались крестьянские семьи или городская беднота из верхних, богатых кварталов, – для всех здесь она была «сношенькой»… Всюду ее принимали и приветствовали сердечно и радостно. Если ей случалось проходить по улице, женщины, стоя у ворот, смиренно приглашали ее зайти к ним. И Софка никому не отказывала и каждую из жалости приглашала к себе.
Муж ее, Томча, был к ней внимателен. За это время он заметно возмужал. Над губой пробивались маленькие усики, подбородок округлился, челюсти стали квадратными. Его детские, угловатые плечи уже вырисовывались под минтаном, колени пополнели. Что бы ему Софка ни приказала, он исполнял с радостью, счастливый от того, что она ему приказывает и с ним говорит. Подходил он к ней лишь тогда, когда она его звала. Софка делала с ним что хотела. Сколько раз, бывало, по утрам, когда он уже выходил из комнаты, она звала его назад, увидев, что у него кушаки не в порядке или он плохо застегнулся, и начинала сама охорашивать его, движимая скорее жалостью, чем каким-либо другим чувством.
Он передал ей ключи от сундука с деньгами, прямо силой всучил, умоляя их хранить у себя из боязни, что либо он сам, либо его мать по рассеянности потеряют их или забудут где-нибудь. Деньги, вырученные в постоялых дворах, тоже отдавал ей, чтобы она клала их к остальным деньгам в сундук. Когда надо было за что платить, Томча просил у нее. Причем она сама должна была отворить сундук, вынуть деньги из кошелька и отсчитать, сколько требовалось.
Так же и свекровь весь дом, амбары и подвалы отдала в ее распоряжение. Даже там, где дело касалось вещей сугубо деревенских, Софке совершенно непонятных и ненужных, старуха тоже ничего не хотела знать. И когда соседка приходила занять какую-нибудь вещь, о которой знала только свекровь, она все же отсылала ее к Софке.
– Ничего не знаю я, дорогая! Вон Софка, спроси ее, коли захочет, пусть даст.
И только после Софкиных слов: «Дай, мама. Я же не знаю, ни что это, ни где лежит. Пойди и дай!» – только тогда свекровь поднималась, лезла на чердак, шарила по углам, куда бог знает почему и когда запрятала вещь.
Софка понимала, что они это делают вовсе не потому, что боятся ее или думают, что не сумеют управиться с домом и хозяйством, а потому, что хотят предоставить ей полную свободу, чтобы она чувствовала себя здесь как дома. Кроме того, они хотели этим как бы искупить то зло, которое причинил ей Марко и в котором они не были повинны ни сном ни духом. Ведь приведя ее сюда, в их дом, он, может, навеки сделал ее несчастной, отдал в рабство, заживо похоронил.
И все это приводило к тому, что, правда медленно, с большим трудом, Софка мало-помалу начинала привыкать к своему положению и чувствовать, что если и дальше так пойдет, – при этом она всхлипывала и у нее навертывались на глаза слезы радости, – то она всех их полюбит, и свекровь, и дом, и в особенности Томчу, мужа. Так его полюбит, как никогда и не мечтала. Может, как того, во сне… В мысли, что она на самом деле полюбит Томчу, ее больше всего укрепляло не то, что Томча постепенно превращался в настоящего сильного мужчину, а то, что с каждым днем он все больше становился ее: из чужого ей подростка, сына газды Марко, он превращался в ее Томчу, как бы ее дитя, которое она родила и воспитала, творение ее рук. Да так оно и было в действительности. Она выучила его одеваться, подпоясываться, разговаривать, здороваться, вести себя на людях. Он не выходил из ее комнаты, не причесавшись, не умывшись и даже не надушившись. И если дальше пойдет так, как сейчас, и из него выйдет действительно добрый, пригожий, всеми уважаемый человек, это будет ее заслуга. И он по-прежнему будет ее, так же как теперь. Ведь он и сейчас красив, одет всегда чисто и нарядно. Ведь и сейчас стоит ему увидеть ее, подойти к ней, как он не знает, куда девать себя от счастья и радости (а что же будет позднее, когда он станет взрослым мужчиной!), его большие черные глаза загораются страстью, он ловит ее взгляд, стараясь угадать ее желания, осчастливленный тем, что ему дано исполнить любую ее просьбу.
А что действительно настанет пора любви и счастья, Софка чувствовала и по себе. После ужина она ложилась спать с ощущением, что она выздоравливает, поправляется. Утомленная за день, она погружалась в приятную истому и сладостный отдых. Она уже не чувствовала под собой, сквозь тюфяки, голую землю; ее пополневшее тело тонуло в мягкой и теплой постели; случайно шевельнув ногами, она чувствовала, как, соприкасаясь, они рождают ощущение полноты и крепости.
Томча всецело принадлежит ей. Ничего и никого он не знает, кроме нее. Ведь все, что он до сих пор успел узнать и почувствовать, он узнал от нее. И теперь, когда он еще не до конца возмужал, исполнялись все ее желания, даже самые безумные, девичьи! Что же будет потом, когда в нем пробудятся его собственные желания и страсти? Выученный ею, как он тогда будет ее обнимать и целовать!..
XXVIII
Дом начал казаться Софке уютным. Правда, потолок был низкий, пол земляной, но дом уже не производил впечатления холодного и разоренного жилища. Ей стало ясно, что, помимо земляного пола, низких потолков и кухни с таким широким дымовым отверстием, что ночью в кухню никто не решался входить, потому что в него видно было небо, в доме есть и другое: огромное богатство, хранящееся в подвалах, конюшнях и доверху набитых амбарах. Стоит только двинуть рукой, взять все это и разложить, как дом преобразится. Софка так и сделала. Она вытащила ковры и подушки и устлала ими весь дом – пол, стены, углы. Сразу исчезли острые углы, трещины и отверстия в дверях и окнах. Весь дом стал выглядеть по-другому, мягче, теплее, уютней. Даже кухня с новой полкой и расставленными на ней медными тазами и противнями уже не казалась такой пустой и огромной.
И единственное, что иногда беспокоило Софку, так это муж, Томча. Обычно это случалось тогда, когда она оставляла его одного, когда, то ли заработавшись, то ли устав и пресытившись им, она дня три не подпускала его к себе и он переставал чувствовать ее близость. Софка хлопотала либо по дому, либо на кухне, а Томча был в амбарах и на конюшне со слугами и поденщиками. Софка замечала, что, когда он знал, что она не может его слышать и видеть, и обнаруживал, что один из слуг украл что-нибудь или совершил другую провинность, глаза у него начинали сверкать ужасным, нечеловеческим блеском, челюсть выдавалась вперед и тряслась, зубы выбивали дробь. И, к ужасу Софки, ей сразу бросались в глаза его руки, такие же, как у Марко, короткие и волосатые, такая же короткая, плотная шея, низкий лоб и длинный высокий затылок.
Софка сама не знала почему, но сходство Томчи с отцом, проявлявшееся, когда он приходил в ярость, каждый раз пронзало ее словно острым ножом. Но стоило ей позвать его, придав голосу побольше нежности и ласки, как с него немедленно все слетало. Он бежал к ней, как всегда, с готовностью, обрадованный, что она зовет его, что он ей нужен, что он может ей услужить, и, счастливо улыбаясь, спрашивал:
– Что нужно, Софка?








